1930-1932 гг.
advertisement
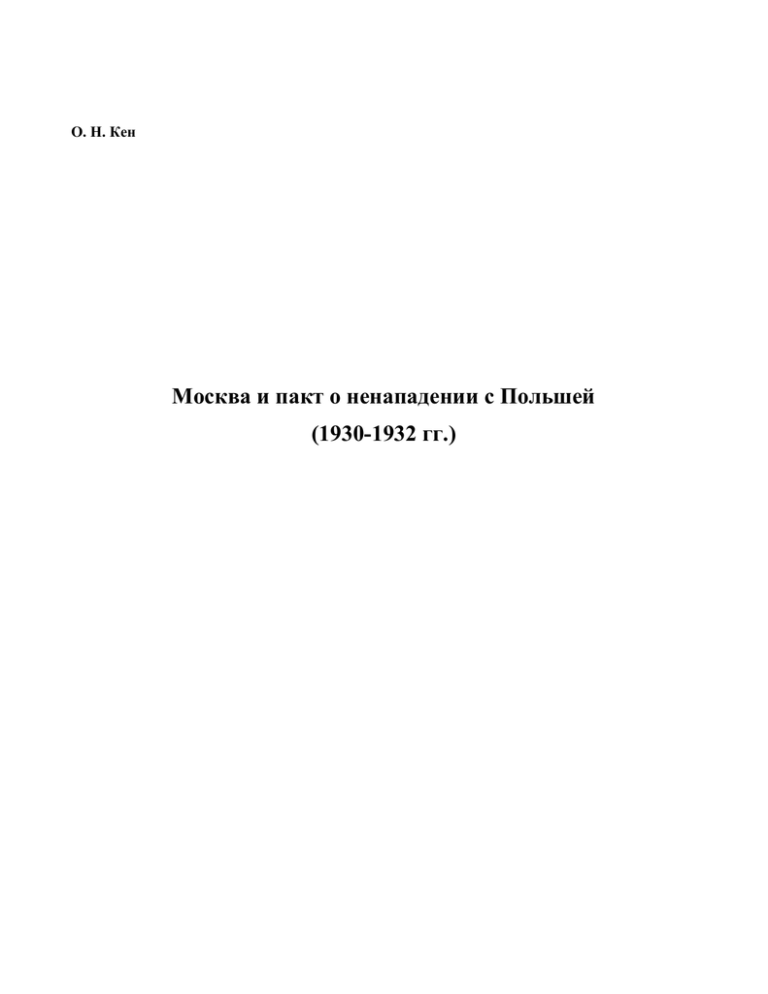
О. Н. Кен Москва и пакт о ненападении с Польшей (1930-1932 гг.) Оглавление Предисловие Часть 1. Предыстория 1. Проблема договора о ненападении в советско-польских отношениях 20-х гг. 2. "Советское предложение" 1930 г. 3. Сталин и дилеммы советской политики на рубеже20-30-х гг. 4. Пилсудский и пересмотр польской политики. Часть 2. Переговоры 1931-1932 гг. 1. Польская инициатива (август 1931 г.) 2. Сталин, Политбюро и Наркоминдел (сентябрь 1931 г.) 3. Переговоры с Польшей о пакте ненападения (октябрь 1931 - январь 1932 г.) 4. Германские протесты и предостережения (ноябрь 1931 -- январь 1932 г.) 5. От парафирования договора к его ратификации (январь -- ноябрь 1932 г.) Вместо заключения Указатель имен Список сокращений Приложение. Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой Streszczenie Предисловие По прошествии все новых десятилетий после завершения второй мировой войны отчетливее вырисовывается ее роль как основы современного мироустройства. Политическое, идейное и нравственное противостояние, достигшее своего высшего и всеобщего напряжения в конце 30-х-середине 40-х годов XX века придало современной цивилизации те формы, в рамках которых только и смогло совершаться ее последующее развитие. Победа в войне придала силы и советской системе, снабдила ее преемников пропуском в третье тысячелетие. Наследие победы над национал-социализмом остается спорной территорией, а интепретация событий, приведших к войне, -- частью сегодняшнего общественного сознания (по меньшей мере, в России и странах Восточной Европы). Исторические идеологемы и взлелеянные мифы медленно уступают власть над умами. Нередко они принимают вид широкого научного обобщения, непредвзятого исследования ("восстановление исторической правды", заполнение "белых пятен"), обрастают рациональной аргументацией и архивными ссылками. Замысел небольшой работы, предлагаемой вниманию читателя, был иным. Возможность ознакомления с обширной документацией, прежде всего из фондов ЦК ВКП(б) и Наркомата иностранных дел СССР, об отношениях Советского Союза и Польши в связи с заключением договора о взаимном ненападении побуждает вернуться к этой полузабытой проблематике. За последние четверть века историки обращались к ней лишь мимоходом1. Договор о ненападении с Польшей обычно оценивается либо как успех миролюбивой, избегающей всяких конфликтов политики Москвы, либо как тактический маневр в осуществлении ею долгосрочных целей имперского господства. Непосредственные причины заключения советско-польского пакта усматриваются прежде всего в общем желании СССР укрепить свое положение в Европе, чтобы сосредоточиться на противодействии Японии (которая в конце 1931 г. начала овладение Северным Китаем). Во всяком случае, поведение Москвы vis-à-vis Польши признается функцией отношений СССР с великими державами, отражением "большой дипломатии", а не его коренных политических потребностей. Новые документальные материалы рисуют неизмеримо более сложную картину2. Они не только позволяют реконструировать некоторые остававшиеся неясными эпизоды двусторонних политических отношений тех лет, но и пересмотреть устоявшиеся представления о причинах и мотивах советского (и, отчасти, польского) руководства, приведших к заключению пакта о ненападении и конвенции о согласительной процедуре. В этом контексте политика Польши предстает одним из ключевых факторов международного положения Советского Союза (который в тот период являлся по преимуществу региональной, а не мировой державой), что подтверждается заинтересованностью Москвы в достижении политического компромисса, нашедшего выражение в договорах 1932 г. Вместе с этим становится неизбежной и попытка определить историческое место договора о ненападении во взаимоотношениях двух стран, его роль в советской политике предвоенного десятилетия. Другой аспект предлагаемой работы обращен к процессам принятия решений и их реализации в дипломатической деятельности -- проблематике, которая разрабатывается в политологических См., например: Советско-польские отношения в политических условиях Европы 30-х годов XX столетия: Сборник статей / Отв. ред. Э. Дурачиньски, А.Н. Сахаров. М., 2001. Библиографию ранних работ, специально посвященных пакту ненападения см.: A. Skrzypek. Polsko-radziecki pakt o nieagresji z 1932 r. // Z dziejów stosunkow polskoradzieckich. T.XIII. S.17. О содержании советско-польского договора 1932 г. (и заключенной годом позже конвенции об определении агрессии) совершенно забыли представители МИД РФ, в сентябре 1999 г. заявлявшие, что указания на «"агрессию бывшего СССР против Польши" не имеют подтверждения в каких-либо международно-правовых документах и не могут быть приняты» (Сообщение МИД РФ "60 лет началу Второй мировой войны"). 2 Разумеется, автор не считает возможным полемизировать с исследователями, которые не могли получить доступа к документам, используемым в данной книге. Этим в основном объясняется эпизодичность ссылок на ранее изданные работы, включая столь важные синтетичные монографии последнего десятилетия, как: W. Materski. Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939. Warszsawa, 1994; S. Gregorowicz, M.J. Zacharias. Polska-Związek Sowiecki: Stosunki polityczne 1925-1939. Warszawa, 1995. 1 исследованиях. Сравнительный анализ того, как складывались и осуществлялись внешнеполитические установки в Кремле и на Кузнецком мосту, в Бельведере и на Вежбовой, дает немало оснований усомниться в институциональной эффективности обоих, столь несхожих между собой, авторитарных режимов, один из которых достиг своей зрелости, а другой находился в стадии становления. Неожиданно важной оказывалась поэтому роль "исполнителей", их личные взгляды и неформальные связи, переплетение внешних обстоятельств с внутренними. Отдавая эту работу на суд читателя, трудно не пожелать, чтобы изложенные в ней материалы и суждения не только помогли созданию достоверного образа взаимоотношений СССР и Польши, советской внешней политики в целом, но и оказались - прямо или косвенно -- полезны для более ясного, сдержанного и прозрачного, осмысления некоторых сегодняшних коллизий и перспектив их преодоления. *** Принимая на себя ответственность за корректность использования предоставленных ему документов и их интерпретацию, автор не может не выразить искренней признательности руководству и сотрудникам поименованных в книге архивов Москвы, Варшавы, Лондона и Вашингтона, а также Фонду Джона Д. и Катерин Т. Макартуров, поддержка которого позволила осуществить широкий поиск архивных свидетельств. Публикация этой работы оказалась возможной благодаря лестному вниманию к ней со стороны Генерального консульства Польской Республики в Санкт-Петербурге, в особенности консула по делам культуры доктора Иеронима Грали. Часть 1. Предыстория 1. Проблема договора о ненападении в советско-польских отношениях 20-х гг. Двусторонние договоры о взаимном ненападении явились сравнительно новым инструментом международных отношений, позволяющим восполнить пробелы системы коллективной безопасности под эгидой Лиги Наций. Государствам, поставивших себя в положение изгоев, договоры о ненападении позволяли достичь краткосрочных политических целей, будь то укрепление своей безопасности или разделение потенциальных противников (одни из которых предлагались обязательства ненападения, другим нет). Неудивительно, что вслед за Советским Союзом (в 1925-1937 гг. заключившим соглашения о ненападении со всеми соседними странами, за исключением Румынии и Японии) этот инструмент широко использовала гитлеровская Германия в своих усилиях по разрушению послевоенного европейского порядка3. В 20-е гг., однако, договоры о ненападении рассматривались странами Западной и Восточной Европы в качестве важнейшего средства вовлечения большевистской России, отвергавшей основы Версальского мирного урегулирования, в систему международных обязательств. Первоначально советская дипломатия соглашалась предоставить западным соседям политические гарантии ненападения лишь при условии пересмотра установленных де-факто границ (Генуэзская конференция, апрель-май 1922 г.) или сокращения ими своих вооруженных сил (Московская конференция, декабрь 1922 г.)4. В ином случае особый международно-правовый акт о ненападении между СССР и Польшей рассматривался как ненужное излишество, поскольку основы их сосуществования ранее получили закрепление в Мирном договоре 1921 г.5 К середине 20-х гг. под влиянием стабилизации положения в Центрально-Восточной Европе Москве пришлось расстаться как с надеждами на новый революционный подъем, так и с планами "генерального соглашения" с Польшей, включающего "исправление границ между СССР и Польшей" и разграничение сфер влияния в Прибалтике6. Наконец, оказавшись перед перспективой реинтеграции Германии в сообщество западных держав путем заключения с ними Рейнского гарантийного пакта, советские руководители были вынуждены взять курс на достижение modus vivendi c Польской Республикой. При этом "создание блока из Прибалтийских государств, Польши и Румынии" рассматривалось как таившее в себе "непосредственную угрозу опасности СССР"7. Поэтому, склоняясь к необходимости заключить с Польшей собственный гарантийный пакт (о взаимном ненападении и соблюдении нейтралитета в случае войны с третьим государством), советское руководство одновременно отвергало предложение МИД Польши о многостороннем договоре СССР со всеми его западными соседями. В сентябре 1925 г. на переговорах в Варшаве нарком Г.В. Чичерин официально предложил начать переговоры о двустороннем пакте ненападения. Уже на предварительной стадии переговоров в первой половине 1926 г. выявилось намерение польского правительства придать советскому предложению более См.: R. Аhmann. Nichtangriffspakte: Entwicklung and operative Nutzung in Europa, 1922-1939: Mit einem Ausblick auf die Renaissance des Nichtangriffs-Vertzages nach dem 2. Weltkrieg. Baden-Baden, 1988. 4 См.: M.W. Graham. The Soviet Security Treaties // American Journal of International Law. Vol. 23, Issue 2 (Apr. 1929). P.338-340. 5 Cм., в частности: Запись беседы Г.В. Чичерина с С. Кентшиньским, 1.2.1925 // ДВП СССР. Т. 8. C. 112. 6 См.: Докладная записка И.Л. Лоренца В.Л. Коппу, 30.12.1924. –– АВП РФ. Ф.04. Оп.27. П.184. Д.5. Л.72-78; Протокол № 41 (особый № 28) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 18.12.1924. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д. 2. Л.49. Большинство приводимых решений Политбюро ЦК ВКП(б) к настоящему времени опубликовано: И.И. Костюшко (ред.). Материалы «Особой папки» Политбюро ЦК РКП(б) –ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений 1923-1944 гг. М., 1997; О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Часть 1. 1928-1934. СПб., 2000; Г.М. Адибеков и др. (ред.). Политбюро ЦК РКП(б) –ВКП(б) и Европа. Решения «особой 3 папки». 1923-1939. М., 2001. В данной работе, во избежание разночтений, при ссылке на протоколы Политбюро указывается их архивный шифр. 7 Протокол № 56 (особый № 43) заседания Политбюро ЦК ВКП(б)от 9.4.1925. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.2. Л.108. широкий и позитивный характер, использовать его для стабилизации положения в Восточной Европе и одновременно для укрепления позиций Польши в регионе. Оно потребовало заменить положение предполагаемого пакта об абсолютном нейтралитете договаривающихся сторон условным нейтралитетом, что означало бы прекращение обязательств ненападения в случае нападения одной из них на третье государство. "Учитывая напряженное положение, создавшееся в связи с приходом к власти Пилсудского", летом 1926 г. советское руководство согласилось на это условие, рассчитывая что намечавшийся визит в Москву нового министра иностранных дел Польши А. Залеского будет использован "для подписания договора с Польшей о ненападении»8. Варшава, однако, заявила о желательности "до начала переговоров о пакте выяснить точки зрения обеих сторон по важнейшим вопросам", что поручалось новому посланнику РП в СССР Станиславу Патеку. В ходе бесед и переговоров Патека с руководителями НКИД на протяжении весны–осени 1927 г. выявилось главное непреодолимое разногласие: Польша исключала возможность если не заключения пакта с СССР, то его вступления в силу до подписания Советами аналогичных пактов с лимитрофами (Латвией, Эстонией, Финляндией). Дополнительные осложнения были вызваны отказом Москвы от упоминания в тексте договора обязательств Польши как члена Лиги Наций и советским требованием включить в договор статью о неучастии в группировках, враждебных другой стороне. При этом на переговорах 1927 г. наметился компромисс относительно условий согласительной процедуры для разрешения споров между сторонами (СССР отказывался от применения норм международного арбитража). По оценке НКИД, "беседа тов. Чичерина с Патеком от 22 сентября 1927 г. фактически закончила наши переговоры с Польшей о гарантийном пакте"9 (формально они были прерваны в январе 1928 г.). Новая возможность достичь политической нормализации в двусторонних отношениях появилась в конце 1928 г., когда Советский Союз предложил Польше и Литве подписать протокол о немедленном введении в силу пакта Бриана-Келлога об отказе от войны как орудии национальной политики. Отказ литовского правительства от советского предложения и умелое маневрирование польской дипломатии в январе 1929 г. поставили Москву перед выбором: либо согласиться с принципом "круглого стола" всех европейских соседей, либо признать неудачу своей инициативы. Подписание Московского протокола 9 февраля 1929 г. явилось, по выражению Патека, "очень успешным для Польши днем": "ZSSR uległ nam zasadniczo dopuszczając do podpisania Protokołu przy okrąglym stole z Rumunją i Bałtami"10. Укоренению в советской политике новых подходов, вытекавших из согласия СССР на многосторонний региональный акт, препятствовали неутешительные для нее ближайшие международные последствия Московского протокола, и в апреле 1929 г. советские руководители вступили на путь искусственного обострения отношений с Польшей11. "Военная тревога", достигшая кульминации в марте 1930 г., побудила Москву всерьез задуматься о возобновлении переговоров с поляками о пакте ненападения. В конечном счете Советы ограничились половинчатыми заявлениями о желании укреплять добрососедские отношения с Польшей, и в апреле 1930 г., под влиянием некоторой стабилизации внутреннего и международного положения СССР, идея советско-польского гарантийного договора вновь отошла на задний план12. Нежелание Москвы взять на себя почин возобновления с Польшей переговоров о ненападении основывалось на целом ряде обстоятельств. Во-первых, советская дипломатия отдавала себе отчет в том, что инициирование ею новых переговоров предоставляло полякам возможность реализовать выдвинутые ими в 1926-1927 гг. условия заключения гарантийного пакта (тем более, что с главным из них – принципом "круглого стола" – Москва уже была вынуждена фактически согласиться в 1929 г.). Вовторых, в стратегическом партнерстве СССР и Германии в начале 1930 г. обнаружилась глубокая Справка 1-го Западного отдела НКИД СССР о переговорах с Польшей о гарантийном пакте (1927-1931), [16.8.1931]. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.157-144; Протокол № 45 (особый №33)заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5.8.1926. – РГА СПИ. Ф.17. Оп. 162. Д.3. Л.100-101. 9 Справка 1-го Западного отдела НКИД СССР о переговорах с Польшей о гарантийном пакте (1927-1931), [16.8.1931]. 10 Raport St. Patka do MSZ, Moskwa, 16.2.1929. – AAN. MSZ. Ambasada RP w Moskwie. T.58. S.31 (опубликовано в: S. Łopatniuk (red.). Protokoł Moskiewski (9 luty 1929) // Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. T.IV). 11 См. О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Часть 1. 1928-1934. СПб., 2000. С.91-92. 12 См.: О. Ken. "Alarm wojenny" wiosną 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie // Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T.XXXV. S. 61-67. 8 трещина. Хотя кризис Рапалло к лету 1930 г. был временно преодолен, в обеих странах понимали, что серьезной основой для их политического сотрудничества могло являться лишь совместное продолжение антипольского курса. В-третьих, с весны 1930 г. в правящих кругах СССР появились надежды на то, что развитие экономического кризиса и связанных с ним социальных и национальных конфликтов вызовет дезинтеграцию "режима полковников" и предоставит Москве чрезвычайные выгоды для проведения решительной политики в отношении Польши. Наконец, покушение на взрыв здания советской миссии в конце апреля 1930 г. создало обстановку дипломатических трений вокруг проводимого польскими властями расследования. Единственной, пожалуй, областью советско-польских отношений, к развитию которых с лета 1930 г. Москва проявляла явный интерес, являлось обеспечение поставок в СССР черных металлов и каменного угля, что требовало и расширения советского экспорта в Польшу. В дело, однако, вмешались новые обстоятельства, приведшие к фактическому возобновлению в конце 1930 г. переговоров о пакте ненападения – в Варшаве начал свою деятельность новый советский посланник. 2. «Советское предложение» 1930 г. В январе 1930 г. в Варшаву прибыл новый полномочный представитель СССР – 45-летний Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. Его революционной биографии могли бы позавидовать многие пилсудчики: военная служба и неутомимая конспирация, перестрелки с полицией, аресты и побеги из тюрем, смертный приговор. В октябре 1917 г. он руководил взятием Зимнего дворца, в гражданской войне командовал армиями и Украинским фронтом (1919). В начале 1924 г., после публичного обещания призвать к ответу "зарвавшихся партийных вождей", начальник Политуправления Красной Армии Антонов-Овсеенко был отправлен ими на дипломатическую работу – полпредом в Чехословакии (1924-1927) и Литве (1928-1929). "Следует беспристрастно признать, что Антонов-Овсеенко является глубоко идейной личностью и, пожалуй, одним из последних «романтиков революции»», – свидетельствовал Ян Берсон,13. Посвященность борьбе с царизмом сочеталась у него с импонирующим пилсудчикам почти безразличным отношением к программным вопросам социальной революции: Антонов-Овсеенко начинал как эсер14 и, побывав едва ли не во всех социал-демократических группировках, лишь в середине 1917 г. примкнул к большевикам. Основатель Варшавского военного комитета РСДРП, он, как вспоминал Б. Медзиньский, проходя мимо памятника Мицкевичу, демонстративно салютовал ему офицерской саблей15. В Польше помнили и его усилия поднять восстание гарнизона Новой Александрии. При вручении посланником верительных грамот главе государства 30 января 1930 г. они "говорили попольски о прежней Варшаве, прежнем Дашинском, о вооруженной демонстрации на Гжибовской площади и т. д."16. Неудивительно, что последний президент Второй Республики (тогда – молодой заместитель начальника Восточного отдела МИД) c удовольствием констатировал: Антонов-Овсеенко "всегда был и является исключительно дружественным в отношении Польши"17. Вряд ли могут быть сомнения, что принимая решение о назначении нового полпреда в Польше, Политбюро ЦК ВКП(б) рассчитывало, что репутация, старые связи и личные качества АнтоноваОвсеенко помогут смягчить внешний эффект от внутренних и внешних потрясений, которые обещала J. Berson (Otmar). Sowieckie zbrojenia moralne. Warszawa, 1937. S. 135. Замечания бывшего московского корреспондента «Gazety Polskiej» имеют особую ценность, поскольку были высказаны им уже тогда, когда Антонов занял более чем сомнительный пост Прокурора СССР, а самому Берсону, высланному в августе 1935 г. из Москвы, не приходилось считаться с мнением советских властей. 14 Как известно, именно эсеров Пилсудский воспринимал как естественных воспреемников власти после крушения царизма. 15 B. Miedziński. Droga do Moskwy // Kultura. 1963. No.188. S.75 (в приводимых Медзиньским датах имеются неточности). 16 Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 30.1.1930. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.5. П.44. Д.34. Л.110. При посещении полпредом Львова в апреле 1931 г. он и воевода Наконечников вспомнили о своих встречах в Москве в 1918 г. (Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 29.4.1931. – Там же. Оп.15. П.155. Д.7. Л.113). 17 Ph.L. Cable to Secretary of State, Warsaw, 3.3.1930 (memorandum of interview with E. Raczynski, March 1). – NA. SD: 760c. 61/616. 13 вызвать начатая Кремлем "революция сверху"18. Однако благодаря тем самым чертам АнтоноваОвсеенко, которые привлекли внимание к его кандидатуре, Наркомат по иностранным делам получил в его лице не только исполнителя, но и непростого партнера в определении советской политики в отношении Польши. "Правильно!" – восклицал член Коллегии НКИД Борис Стомоняков (в чьем ведении находились отношения СССР с западными соседними государствами), читая в начале апреля 1930 г. рассуждения полпреда о том, что "всякое правительство пилсудчиков есть правительство подготовки войны с СССР" и кабинет В.Славека благодаря обострению внутриполитической обстановки в Польше и "в связи с известным международным положением может явиться правительством превентивной войны против СССР"19. Антонов-Овсеенко, однако, быстро осваивался в варшавских кругах, общаясь не только с разжигавшими его подозрительность национал-демократами, но и с видными пилсудчиками (Славеком, Матушевским, Свитальским, Голувко). Уже через месяц, оценивая ситуацию после покушения на варшавское полпредство, он утверждал: "Правительство Славека как таковое не заинтересовано в данное время в обострении отношений с нами"20. В конце мая Антонов-Овсеенко представил НКИД два письмадоклада о польской политике. Сужение социальной базы режима санации не означает ослабления правительства, утверждал он, "сеймовая оппозиция дезориентирована и дезорганизована", тем более нет в стране и революционной ситуации. Правительство Славека, прогнозировал полпред, "будет весьма склонно к миролюбивым жестам" и "не прочь вести с нами переговоры о пакте [ненападения] и торговом договоре", хотя и не желает проявлять в этом деле инициативы. Внутренняя борьба в лагере пилсудчиков не позволяет польской дипломатии подать СССР ясный сигнал. Поэтому «я считал и считаю вполне возможным взятие нами дипломатического почина в отношении этих переговоров, – заключал свое обращение Антонов-Овсеенко. – Иное наше отношение будет лишь укреплять позиции крайне авантюрного крыла “полковников”»21. В конце мая Коллегия Наркоминдела отклонила предложения Антонова-Овсеенко. В ответных письмах в Варшаву член Коллегии НКИД на правах старого товарища (именно Стомоняков – бывший соученик Антонова-Овсеенко по Воронежскому кадетскому корпусу – убедил его примкнуть к социалдемократам) преподал полпреду урок марксизма: "Нельзя... преувеличивать значения заявлений Вержбицкого и Квятковского. Необходимо иметь в виду экономические корни агрессивности крупного польского промышленного и финансового капитала. Федералистическая концепция Пилсудского, несомненно, отвечает интересам крупного польского капитала"22. Полпред упорствовал: "Информация о рабочем движении и о положении в компартии, даваемая нашей печатью, страдает колоссальным преувеличением", "правительство полковников внутренне консолидировалось". Советскому Союзу и впредь предстоит иметь дело с Пилсудским, убеждал он Москву, и ей не следует делать ставку на эндеков, которые "по существу стоят на фашистской платформе", выступая за усиление центральной власти и уменьшение прав Сейма23. Позиция Москвы оставалась неизменной, и Антонову-Овсеенко приходилось ждать импульса со стороны польских контрагентов. Эти ожидания были отчасти вознаграждены, когда 7 августа он нанес А.Залескому прощальный визит перед отъездом в отпуск. "Уже провожая меня, – говорилось в записи полпреда, – З[алески] вдруг заявил: По своему возвращению из Женевы, т.е. в начале октября, я займусь радикально нашими отношениями с Вами (sic). И притом не только экономическими, но и политическими. Надо покончить с тем положением, при котором нас могут рассматривать как орудие враждебных Вам (sic) замыслов". Я ответил: "В добрый час! Мы указали путь к этому""24. Таким образом, Антонов-Овсеенко дал понять, что См.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч. С.170-172. Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 1.4.1930. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.14. П.149. Д.1. Л.42. 20 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 8.5.1930. – Там же. Л.94. Помета Стомонякова: "?". 21 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 22.5.1930 (копии направлены Сталину, Ворошилову, Крестинскому). – Там же. Л.57-55; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 30.5.1930. – Там же. Л.6260. 22 Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 7.6.1930. –- Там же. Д.2. Л.51. 23 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 24.6.1930. – Там же. Л.76-75. 24 Запись "Разговор с Залеским 7 августа" (приложение к письму Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову (копия А.И. Микояну), 11.8.1930). – Там же. Л.142-141. Полпред высказывал предположения, что слова Залеского отражают 18 19 Москва заинтересована в открытии переговоров о гарантийном договоре, и тем самым вступил на путь неповиновения Наркоминделу. После возобновления дипломатического сезона в октябре 1930 г. польская дипломатия взяла на себя инициативу в постановке вопроса о заключении согласительной конвенции между СССР и Польшей. Выдвижение на первый план этого вопроса объяснялось тем, что участие обоих государств в пакте Келлога и Московском протоколе 1929 г. означало принятие ими общих обязательств неприменения военной силы в отношении друг друга. С другой стороны, содержание такого, по своему существу чисто двустороннего, политического соглашения как согласительная конвенция исключало из рассмотрения самые трудные вопросы, возникшие в переговорах о пакте ненападения (тем более что в октябре 1930 г. НКИД фактически отказался от сделанной в 1926 г. уступки и заявил, что при заключении пакта ненападения СССР настаивал бы на формуле безусловного нейтралитета). Намечаемая согласительная конвенция выступала частью "индуктивного" подхода, инициатором активного применения которого явился С. Патек. Перед отъездом в отпуск в июне 1930 г. он сообщил Б. Стомонякову о разработке им своей программы улучшения советско-польских отношений и о намерении обсудить ее с Пилсудским. Разговор с маршалом получился "трудным", но Патек оставался оптимистом25. Возвратившись в Москву в конце сентября, он заговорил с наркомом иностранных дел Максимом Литвиновым о необходимости "сделать что-либо для улучшения отношения", пояснив, что имеет в виду заключение согласительной, почтово-посылочной, авиационной и пограничной конвенций между СССР и Польшей. Литвинов ограничился уточняющими вопросами и заявлением, что Москва "готова обсудить любые предложения, направленные к улучшению отношений"26. В середине октября посланник посетил Николая Крестинского, после десятилетнего пребывания на посту полпреда СССР в Германии только что приступившего к новым обязанностям первого заместителя наркома (на время отсутствия Стомонякова ему были поручено также ведение дел с Польшей и Прибалтикой), чтобы повторить свои предложения, оговариваясь, впрочем, что "по существу и конкретно он готов будет говорить через полтора-два месяца". Крестинский полагал, что такое поведение Патека "не является серьезным зондажем", предвещающим официальные предложения Польши27. Однако тогда же (в середине октября) о желании польского правительства вести с СССР переговоры о согласительной конвенции заговорил с советским представителем и сам Залеский. Антонов-Овсеенко советовал НКИД не относиться пренебрежительно к польской инициативе, "напротив – принять ее всерьез и добиваться уточнения польских предложений"28. Руководство НКИД считало, что заключать согласительную конвенцию с Польшей при имеющихся условиях было бы ошибкой. "...Согласительная процедура предполагает, что между двумя государствами существуют хорошие отношения, что конфликтов возникает мало, но что есть иногда потребность один-другой спорные вопросы юридического характера поручить свежим людям, не тем, которые ежедневно в министерствах иностранных дел занимаются этими вопросами и которые не смогли уже договориться", – объяснил Крестинский Патеку, сославшись и на то, что договор между СССР и Германией о согласительной процедуре был заключен через три года после подписания Берлинского договора о дружбе и нейтралитете29. "Особое мнение" Антонова-Овсеенко насторожило его руководителей, и по инициативе наркома Литвинова Коллегия НКИД срочно рассмотрела разногласия по поводу согласительной конвенции и единодушно солидаризировалась с позицией Крестинского30. Польский зондаж был, таким образом, отвергнут. С другой стороны, «Залеский в порядочной мере "охладел" по возвращении из Женевы», признавал Антонов-Овсеенко, сравнивая высказывания польских дипломатов в августе и октябре 1930 г., «программа, предлагаемая нам ныне Патеком, значительно сужена". В обстановке сложившегося пата "намерения маршала" и следует серьезно готовиться к переговорам о пакте ненападения и торговом договоре (Там же. Л.136). 25 Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 6.7.1930. – Там же. Ф.09.Оп.5.П.44. Д.34. Л.144. 26 Запись беседы М.М. Литвинова с С. Патеком, 27 сентября 1930 // ДВП СССР. Т.13. М., 1967. С.523-524. 27 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 22.10.1930. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.14. П.149. Д.2.Л.113-111. 28 Запись беседы А. Залеского и В.А. Антонова-Овсеенко, 11.10.1930 // ДВП СССР. Т.13. С.560; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, 17.10.1930. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.14. П.149. Д.1. Л.184. 29 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 22.10.1930. Л.114. 30 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 27.10.1930. – Там же. Д.2. Л.109. НКИД считал, что активность в контактах с поляками следует проявлять лишь при переговорах о советских заказах в Польше и о соответствующих таможенных послаблениях для советского экспорта. Полпред думал иначе: "Надо суженной программе Патека противопоставить свою", включающую договор о ненападении и торговый договор, подкрепив их рядом конкретных соглашений31. Предложение начать дипломатическое наступление в Польше он, как и прежде, основывал на анализе ее внутреннего положения: "Непосредственной революционной ситуации в Польше не наблюдается. Нет пока и серьезного обострения экономического кризиса. Движение в Галиции носит характер начального аграрного террора и не угрожает сколько-нибудь серьезно польской государственности. Нет симптомов дальнейшего распада ББ. Напротив – дезорганизация и распад в лагере Центролева. Пилсудский имеет огромные шансы на победу на выборах и на оформление "конституционным порядком" фашистского строя в Польше"32. В начале ноября полпред выехал на несколько дней в Москву. 12 ноября он посетил польскую миссию и беседовал с Патеком, который сказал ему, что не отнесся серьезно к той критике, которой Крестинский подверг идею первоочередного подписания согласительной конвенции, поскольку тот-де был не в курсе его переговоров со Стомоняковым. Патек убеждал советского коллегу в преимуществах своего метода ("многие частные соглашения взаимен общих – принципиальных договоров") и выражал надежду, что их беседа возобновляет неформальные советско-польские консультации ("Мы тщетно ждали Вашего ответа, и вот возобновляем разговор"). Согласно записи полпреда, Патек дал понять, что не исключен и предлагаемый Антоновым путь разрешения основных проблем посредством заключения "общего большого трактата", т.е. гарантийного пакта33. По версии Патека, разговор закончился тем, что Антонов-Овсеенко взял на себя роль главного посредника между руководителями двух стран и ответственность за дальнейшие переговоры, предупредив посланника: "Не обижайтесь тоже, но я скажу Залескому, что я разговариваю здесь [в Москве] со Стомоняковым"34. В личном общении с руководством НКИД полпред продолжал настаивать на том, что "польскому плану переговоров" – в существование которого в Наркоминделе не верили – "надо противопоставить свой, глубоко продуманный и, в случае успеха, обеспечивающий нам серьезное закрепление наших позиций в Польше"35. С этой идеей он и вернулся в Варшаву. Результаты выборов 16 ноября утвердили АнтоноваОвсеенко в правильности его прежних прогнозов: "Пилсудский получил свой Сейм... Свобода политического маневрирования (для маршала) увеличена". В аргументации полпреда зазвучал и новый мотив: не оставляя своих внешнеполитических целей на востоке (чему способствует происшедшее "решительное подавление центробежных устремлений на кресах"), «на ближайшее время, поль[ское] пра[вительство] вынуждено считаться с "германской опасностью" как с основной». Необходимость оговорки и кавычек лишь подчеркивает неожиданный, почти революционный для тогдашнего советского мышления вывод Антонова-Овсеенко о том, что угроза Польше со стороны Германии может служить не только платформой советско-немецкой дружбы, но и основой для серьезного сближения Москвы с Варшавой36. Исполняя предписанный ему демарш (отсутствие информации по делу о взрыве полпредства, оживление белоэмигрантской печати), 22 ноября полпред по своей инициативе заговорил с Залеским о желательности приступить "вплотную к разрешению общих вопросов, в свое время поставленных", – пакта ненападения и торгового договора. ""Но мы по существу к этому идем", возразил З[алеский], "только от частного мы хотим идти к общему... Я, впрочем, не возражаю и против вашей постановки вопроса. На днях я увижусь с маршалом и тогда смогу сообщить вам точно, каков окончательно наш Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, 24.10.1930. – Там же. Ф.09. Оп.5.П.44. Д.32. Л.112. Ознакомившись с этим письмом в ходе своеобразного внутреннего расследования, проводимого в НКИД в январе 1931 г., Стомоняков подметил: "Очевидно, это мнение и подсказало т. Антонову-О[всеенко] его дальнейшую линию, приведшую к известному нашему "предложению"" (Там же. Л.113). 32 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, 24.10.1930. Л.113. 33 Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 12.11.1930. – Там же. Д.34. Л.191. Стомоняков не без оснований прокомментировал замечание Патека о Крестинском: "!! Вот нахальство!". 34 Выписка из записи беседы Б.С. Стомонякова с С. Патеком, 31.1.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15.П.154. Д.2. Л.6968. 35 См.: Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, 22.11.1930 (№. 457). Л.191. 36 Там же. Л.192-191. 31 план переговоров"". К ярости сотрудников НКИД, на вопрос министра о том, где советская сторона хотела бы вести такие переговоры, Антонов-Овсеенко ответил, что это не имеет значения37. Двумя неделями позже Антонов-Овсеенко на завтраке у Т.Голувко (переведенного с должности руководителя Восточного отдела МИД на пост руководителя фракции ББ в Сейме) услышал от него одобрительный отзыв о "новых-де предложениях с нашей стороны". Полпред возражал лишь против слова "новых": "Предложение о заключении торгового договора не ново..., предложение пакта неагрессии мы никогда не снимали". Для доказательства мирных намерений Польши влиятельный пилсудчик с редкой откровенностью заговорил о давлении, испытываемой ею со стороны Франции и Германии, заинтересованных в активном противодействии СССР, в особенности – "о непрестанном давлении из-за границы... к примирению с Германией за счет Литвы и нас [СССР]». "Конечно, – передавал полпред слова Голувко, – такие предложения бывали. И, конечно, если бы мы отдали немцам Коридор и м[ожет] б[ыть] часть В[ерхней] Силезии, они б поддержали нас в овладении Литвой и вошли б в союз с нами против вас. Но маршал никогда на этой не пойдет"38. За этой неофициальной реакцией вскоре последовало заявление министра иностранных дел. 10 декабря Залеский сообщил полпреду, "что маршал считает необходимым поставить вопрос о них [“наших взаимоотношениях”] с надлежащей широтой, относясь, в частности, положительно к подписанию пакта о неагрессии". Министр добавил, что через несколько дней новый директор Восточного отдела Т. Шетцель должен представить ему программу предстоящих переговоров с СССР. "Полной уверенности в том, что намерения поляков на этот раз серьезны, у меня, впрочем, нет", – заканчивал свой доклад Антонов-Овсеенко39. Гораздо больший скепсис проявила к заявлению Залеского Москва, имевшая к тому же перед глазами предельно уклончивого Патека (до конца декабря он избегал встреч с руководителями НКИД, а при эпизодических обменах мнений "не сказал ничего сколько-нибудь нового и существенного"). "...Я первый буду рад признать свою ошибку, – писал Стомоняков, – если на этот раз слова Залеского выходят из рамок таких разговоров, которые, как это полезно отметить, не раз уже совпадали с моментами резкого обострения польско-германских отношений. Я думаю, однако, – и в этом мы здесь, кажется, все согласны, – что слова Залеского не отражают никакого перелома в польской политике в отношении СССР, и что никаких серьезных намерений у Пилсудского в отношении сближения с нами и теперь нет. В крайнем случае, речь, может быть, идет на польской стороне о том, чтобы втянуть нас в такие несерьезные переговоры с целью, с одной стороны, оказать воздействие на Германию и сделать ее более сговорчивой в отношении Польши, и с другой стороны, вызвать в Германии недоверие к нашим намерениям в отношении Германии". Наконец, Стомонякова встревожили ответы полпреда на замечания Голувко о новых советских предложениях: "...О какой "новой постановке" идет речь? Делали ли Вы какие-нибудь предложения полякам?" — "...Нам никоим образом не следует брать на себя инициативу новых разговоров с поляками о гарантийном пакте или о торговом договоре: без какой бы то ни было пользы для нас такая инициатива лишь вызвала бы у поляков представление о слабости нашего положения и о чрезвычайной нашей заинтересованности в торговом договоре"40. Антонов, вероятно, понимая, что толчок к возобновлению переговоров между СССР и Польшей уже дан, на этот раз взял под козырек и заявил, что "строго следовал инструкциям Коллегии. Поэтому никаких своих предложений я полякам не делал. Мои разговоры были зондажного свойства". В рамках складывавшегося у Антонова-Овсеенко собственного видения польской политики уклончивость Патека получила благоприятное истолкование. "Окончательная установка в отношении нас была принята маршалом лишь в последнее время..., – писал он Стомонякову 20 декабря, – Патеку, наверное, даны были инструкции пока, до получения новых указаний, воздержаться от разговора с Вами, так что это его Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, 22.11.1930 (№. 458). – Там же. Л.198-197. Изложение этой беседы МИД 25 ноября направил в польскую миссию в Москве (см.: Pismo A. Zaleskiego do St. Patka, 23.12.1930); этот документ пока обнаружить не удалось. 38 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 6.12.1930. – Там же. Л.206, 203. 39 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 12.10.1930. – Там же. Д.1. Л.211; Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко (запись 10 декабря). – Там же. Ф.09. Оп.5. П.44. Д.34. Л.202. 40 Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 16.12.1930. – Д.2. Л.124-122. 37 воздержание может как раз свидетельствовать о более серьезных намерениях поляков, чем проявленные Патеком"41. В предновогодние дни 1930 г. и в НКИД, и в советской миссии в Варшаве, приученных к неторопливости польской дипломатии, не ждали никаких потрясений, тем более что сотрудники МИД были распущены на праздники, а Пилсудский выехал на Мадеру. Его отъезд, не без затаенной надежды писал Стомоняков, "снимает, вероятно, на долгое время с повестки дня какие-либо серьезные шаги с польской стороны"42. Советские деятели пребывали в неведении о том, что накануне Рождества Залеский направил известие Патеку ("do wylącznej wiadomośсi Pana Posła") o том, что маршал Пилсудский «в принципе решил принять предложение (propozycją) Овсеенко об актуализации до настоящего времени в действительности никогда не прекращавшихся переговоров" o заключении "układu politycznego" и торгового трактата. Министр разъяснял, что в проекте политического договора, который он намеревался передать советскому посланнику после Нового года, "главное ударение мы сделаем на проблеме согласительной процедуры (koncylacji), украсив его двумя или тремя статьями, основанными на Пакте Келлога и Протоколе Литвинова ". Несмотря на то, что такое соглашение о неприменении силы и мирном разрешении споров должно было отличаться от гарантийного договора (договора о ненападении) MИД рассчитывал применить к нему принцип "круглого стола" – "обеспечить как для Балтийских Государств, так и для Румынии возможность одновременного участия (przystąpienia) в идентичном соглашении". Одновременно (или даже ранее) польским посланникам в Бухаресте, Риге, Таллине и Хельсинки была направлена телеграмма MSZ о "предложении Овсеенко" и принципиальной позиции Польши в этом вопросе43. Уже 30 декабря М.Арцишевский передал это сообщение премьеру Латвии Цельминсу44. В первые дни 1931 г. в Наркоминдел стали поступать сообщения о демарше Арцишевского и о попытке польской миссии уже 2 января "через московских инкоров протолкнуть в западноевропейскую печать сообщение о том, что между НКИД и Миссией начались переговоры"45. Руководители Наркоминдела решили действовать безотлагательно. Решением Коллегии НКИД 3 января Крестинскому и Стомонякову было предписано: "Разъяснить германскому посольству в Москве, что никаких новых фактов в советско-польских переговорах за последние дни не произошло. Такие же заявления поручить сделать полпредам в Берлине и в Прибалтике при первом удобном случае"46. Однако в тот же день в румынской газете "Lupta" появилось сообщение о том, что, стремясь к срыву переговоров о возобновлении польско-румынского союза, СССР предложил Польше "арбитражное соглашение", включающее обязательства неучастия во враждебных группировках47. В комментарии польского АТЕ это известие было подправлено: "Следует считаться с возможностью заключения нового пакта о неагрессии между Советами и пограничными государствами"48. Получив эти известия Литвинов дал распоряжение опубликовать официальное категорическое опровержение: "Никакие переговоры о каком бы то ни было соглашении между СССР и Польшей за последнее время не имели места"49. Оно открыло необычную кампанию советской дипломатии по дезавуированию сведений о подготовке политического соглашения между Москвой и Варшавой. Сообщения на этот счет – не более чем польская пропагандистская акция, убеждал Стомоняков итальянского посла в Москве, которая "преследует особые политические цели": "сделать более Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 20.12.1930. – Там же. Д.1.Л.215. Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 26.12.1930. – Д.2. Л.130. 43 Pismo A. Zaleskiego do St. Patka, 23.12.1930 //ДиМСПО. Т.V. C.473. 44 Raport M. Arciszewskiego do MSZ, Ryga, 30.12.1930. – AAN. Ambasada RP w Moskwie. T.21. S. 18-19. 45 Справка 1-го Западного отдела НКИД СССР о переговорах с Польшей о гарантийном пакте (1927-1931), 16.8.1931. Л.142. 3 января телеграмму о начатых торговых переговорах и о том, что НКИД обусловливает их заключением пакта ненападения, отправил из Москвы корреспондент "Kölnische Zeitung" Юст (Just) (cм.: Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 6.1.1931 (копия). – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.33.) 46 Выписка из протокола № 1 заседания Коллегии НКИД от 3.1.1931. – Там же. Л.31. 47 По данным итальянского посольства в Бухаресте, утечка информации из МИД Румынии была организована чиновником этого министерства графом Лаховари (Лабовари?) вопреки желанию министра Г.Миронеску (Выписка из записи беседы Б.С.Стомонякова и Б.Аттолико, 1.2.1931. – Там же. Л.73). Сходное объяснение дала и германская печать (см.: Polonia. 19.1.1931). 48 Express Poranny, 4.1.1931 (цитируется по переводу). 49 Известия. 5.1.1931. 41 42 сговорчивой Румынию", "оказать воздействие на Германию", "укрепить и углубить свое влияние в Прибалтике"50. Советские разъяснения звучали не слишком убедительно. Члену Коллегии НКИД "было видно, что он [Б.Аттолико] не верит нашим опровержениям и считает, что мы таки действительно сделали предложение Польше". Таким же был итог беседы заведующего 2-м Западным отделом НКИД с советником германского посольства: "У меня все же создалось впечатление, что Твардовский нам не верит"51. Со своей стороны, в разговорах с членами дипломатического корпуса в Москве С.Патек давал понять, что предложение начать переговоры о политическом договоре было сделано полпредом Антоновым-Овсеенко в беседе в Залеским 22 декабря. Узнав об этом, НКИД поручил полпреду встретиться с министром и напомнить ему, что на этой встрече советская сторона заявила протест против выступления польского делегата в Комиссии по разоружению и не вносила каких-либо предложений52. "Если Залеский предлагает начать переговоры, – говорилось в инструкции НКИД, – Вы готовы выслушать его предложения. Нужно, чтобы Ваш разговор лишил поляков всякой возможности с какимлибо основанием ссылаться на Вашу инициативу насчет переговоров"53. Тем временем в Варшаве представители польского правительства выражали свое несогласие с официальным советским заявлением от 5 января. "Мы вот не могли себе разъяснить, почему вашему правительству потребовалось с такой чрезвычайной категоричностью говорить об отсутствии каких-либо переговоров с нами... – говорил полпреду госсекретарь МИД Юзеф Бек 10 января. – Ведь переговоры все же имели место, г. Патек начал их по поручению правительства". После реплики Антонова-Овсеенко, что рассуждения Патека никак нельзя считать началом переговоров, Бек добавил: "Это все очень жаль. Дело, может быть, двигалось не так быстро, как этого бы хотелось, но все же оно продвигалось..." На попытку Антонова-Овсеенко перевести разговор на хозяйственные вопросы Бек реагировал изъявлением надежд, что "улаживая эти дела, мы подготовим почву для иного". "Маршал говорил, – продолжал любимый ученик Пилсудского, – что между Россией и Польшей было всякое – и поляки были в Москве, и русские в Варшаве. С подобным сосуществованием надо раз навсегда покончить. Надо установить твердые, на основе существующего пограничного договора, отношения и надо уладить все основные спорные вопросы, чтобы к ним не возвращаться. Такова и есть линия нашей политики"54. Свое недоумение по поводу реагирования ТАСС на заметку в "Lupta" полпреду выразили также главный директор "Левиафана" Вежбицкий и руководящие деятели министерства промышленности и торговли. "Недовольство в этих польских сферах вызвано, несомненно, учетом того впечатления, какое наше опровержение произведет на Германию и т.д. Но вместе с тем, – отмечал Антонов-Овсеенко, – оно вызывается и категорическим отрицанием нами фактов, имевших место"55. 14 января в беседе с полпредом Ю.Бек сообщил о намерении вместе с министром промышленности и торговли А. Пристором организовать встречу советских и польских представителей для обсуждения торговых отношений. Желая соответствовать линии, "как будто ныне взятой" Москвой, Антонов-Овсеенко заявил о предпочтительности конкретных соглашений об устранении препятствий для советского экспорта в Польшу. Бек, напротив, предложил обсудить "более общие вопросы" двусторонних отношений и вновь выразил несогласие с заявлением ТАСС, которое заставляет думать, что СССР "переменил ориентацию". Полпред старательно пытался сгладить ситуацию. С одной стороны, он характеризовал беседы Патека в НКИД как "разговоры" и свои беседы с Залеским как "обмен мнений" (а отнюдь не "переговоры"), с другой – заявил: "Мы всегда отнесемся с самым благосклонным вниманием к серьезным предложениям, способным упрочить дело мира". Однако на вопрос Бека – "Итак, я понимаю, что если бы г. Патек возобновил разговор, он может быть принят благоприятно?!" – Антонов (не имея на то указаний НКИД) дал по существу отрицательный ответ, назвав патековские Так же объяснялись цели польской дипломатии «при распространении слухов о нашем мнимом предложении» в письме Стомонякова полпреду СССР в Эстонии от 7 января 1931 г. (сообщено автору А.И.Рупасовым). 51 Запись беседы Б.С.Стомонякова с Б.Аттолико 9.1.1931 (запись 16.1.1931). – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154.Д.2.Л.35-33об; Выписка из записи беседы Б.Е.Штейна с фон Твардовским и Г.Хильгером, 11.3.1931. – Там же. Л.38. 52 Это соответствовало действительности (см.: Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 24.12.1930. – Там же. Оп.14. П.149. Д.2. Л.220). 53 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 10.1.1931 (копия). – Там же. Оп.15. П.154. Д.2. Л.37. 54 Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 13.1.1931 (запись от 10 января). – Там же. П.155. Д.7. Л.16-14. 55 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 13.1.1931. – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.12. 50 предложения "мало серьезными". "Но мы, – продолжал настаивать Ю. Бек, – как вам указывал г-н Залеский, не отказываемся от более широкой постановки вопросов. Маршал ее разделяет. Через пару дней г-н Шетцель вернется из отпуска. Я назначил его Директором Восточного отдела. Я поручу ему разработать эти основные вопросы..."56 Напряженный обмен мнениями, происходивший между советскими и польскими представителями в Варшаве и Москве (где С. Патек представил Литвинову и Стомонякову собственную версию – о возникновении недоразумения по вине Антонова-Овсеенко), привел к некоторому сглаживанию подозрений НКИД относительно польской "интриги". Нарком метал громы и молнии по адресу полпреда, упрекая его в "поразительной наивности и узости кругозора": "Достаточно было Антонову-О[всеенко] услышать несколько фраз о готовности "заняться всеми вопросами", о каком-то поручении Шетцелю, чтобы поверить в наступление новой эры, во внезапное прозрение Пилс[удско]го и полную переориентацию Польши <...> Ясно одно: Антонов-О[всеенко] не партия для хитрого Бека". Стомонякову поручалось "отчитать его [полпреда] как следует"57. В результате определилась следующая официальная позиция НКИД: "Наша линия в отношении Польши остается прежней... Наше предложение о пакте мы никогда не снимали и не предполагаем снимать <...> Слово за Польшей, а не за нами. Польша великолепно знает, что мы все эти годы желали и еще желаем заключить с нею пакт о ненападении. Мы не люди престижа, и если у нас когда-нибудь будет уверенность в действительной готовности Польши разговаривать по-серьезному, а дело будет лишь в том, кому первому сказать "а", то мы, само собой разумеется, проявим и активность, и инициативу в деле возобновления переговоров о пакте. При нынешней ситуации проявление инициативы и активности может лишь принести вред". Полпреду предписывалось разъяснять, что в 1927 г. польское правительство само прервало переговоры, "и если оно теперь изменило свое отношение к этому вопросу, пусть оно об этом скажет прямо и искренне, – оно найдет нас всегда готовыми к сближению с Польшей"; до заключения договора о ненападении вести переговоры о согласительной конвенции нецелесообразно. Поэтому следует ограничиться обсуждением конкретных вопросов "ограниченного экономического сотрудничества"58. Итак, Советы ждали проявления Польшей инициативы, что явилось зеркальным отражением позиции, сформулированной А. Залеским в exposé перед сеймовой комиссией по иностранным делам 10 января: "основой нашей иностранной политики в отношении СССР является стремление к упрочению добрососедских отношений как в политической, так и в экономической области, и всякая направленная к тому инициатива... всегда встретит со стороны польского правительства готовность к сотрудничеству по осуществлению этого упрочения"59. Ни одна из сторон не желала поднимать вопрос о нормализации политических взаимоотношений, хотя в феврале-марте 1931 г. в варшавское полпредство поступали с разных сторон (от Бека и Шетцеля, Стронского и Семполовской) сигналы о том, что "какая-то предварительная работа вокруг "пакта" ведется в МИД"60. В беседе между главами дипломатических ведомств в конце мая в Женеве "слово "пакт" даже не произносилось"61. Впрочем, благодаря посредничеству итальянского посла в Москве Б. Аттолико до НКИД дошло заявление А. Залеского (который пожелал встретиться с послом при его проезде через Варшаву в начале мая 1931 г. — явно в расчете на передачу содержания их беседы руководителям Наркоминдела): "Польша в принципе не возражает против заключения нового пакта о ненападении, однако необходимо, чтобы он был "расширением" (extension) пакта Литвинова [1929 г.]"62. Этот последний отголосок варшавских бесед Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 16.1.1931. – Там же. Л.19-20. Рукописные комментарии М.М. Литвинова на письме В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову 13.1.1931. – Там же. Л.12, 17. 58 Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 20.1.1931 (копия). – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.5353об. 59 Цитируется по переводу НКИД. В тот же день госсекретарь заявил полпреду СССР: "Gotowi jesteśmy życzliwie rozpatrzeć kazdą propozycję" (Rozmowa J. Becka z posłem Owsienko 10.1.1931. – AAN. MSZ. T.6747. S.10). 60 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 13.2.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.43; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 27.2.1931. – Там же. Л.53-52; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 19.3.1931. – Там же. Л.74. 61 Выписка из дневника наркома М.М. Литвинова, 26.5.1931. – Там же. Л.110. 62 Выписка из записи беседы Б.С.Стомонякова с Б. Аттолико, 5.5.1931. – Там же. Л.106. 56 57 конца 1930 г. был скорее предвестием переговоров о договоре неагрессии, начатых по польской инициативе осенью 1931 г. 3. Сталин и дилеммы советской политики на рубеже 20-30-х гг. Рассмотренные выше документы дают возможность различных истолкований. Наиболее простое из них (и устраивавшее как польскую, так и советскую дипломатию) состояло в объяснении возникших недоразумений "фактором Антонова-Овсеенко" и было сформулировано в ходе беседы посланника Патека с наркомом Литвиновым в конце января 1931 г. Позиция Патека, разносторонне им аргументированная, сводилась к тому, что "Овсеенко – большой оптимист, он говорит больше и нам [MИД], и Вам [НКИД]"63. Руководство Наркоминдела, по обязанности защищая своего представителя, по существу согласилось с патековской интерпретацией событий64. Эту версию отчасти подкрепляет польский документ о поведении советского посланника (к сожалению, единственный в этом роде и отражающий заключительную стадию бесед о политическом урегулировании советско-польских проблем) – сделанная Ю.Беком запись его первой встречи с Антоновым-Овсеенко 10 января. Из этой записи очевидно, что полпред приукрасил позицию своего руководства в отношении Польши, заявив: "Istnieje zakorzenione mniemanie, że Marszalkowi zależy na tem, ażeby rana istniejąca pomiędzy Rosją sowiecką a Polska nie goila się. Jednak i w tej dziedzinie w Moskwie jest już pewna poprawa. Upadło mianowicie przypuszczenie, jakoby Marszalek Piłsudski ulegał jakimkolwiek wpływom międzynaradowym zwróconym przeciwko Sowietom". Явным преувеличением (и превышением компетенции АнтоноваОвсеенко) было и указание, что "obecny Rząd sowiecki uznaje, że nie można się mieszać do cudzych spraw wewnętrznych, dlatego też przeciwny jest temu, co wytaczane jest obecnie Polsce na gruncie Ligi Narodów ["pacyfikacja" Malopolski Wschodniej]". Наконец, вразрез с отчетливой позицией своих шефов АнтоновОвсеенко объяснял Беку, что советское опровержение "nie miаły na celu zaprzeczania faktu rozmow polskosowieckich, lecz dementowalo pogloske o wznowieniu "Konferencji okrąglego stołu". Rząd sowiecki uważa, ze wykazał inicjatiwę tak w dziedzinie rozmow o pakcie nieagresji, jak i w sprawie układu handlowego, a ze strony polskiej brak dostatecznego echa"65. Даже если считать, что польская запись модифицирует высказывания Антонова-Овсеенко, их сравнение с внутренней советской перепиской указывает, что он далеко выходил за предписанные ему рамки и намеренно представлял позицию "правительства СССР" иначе, чем это делали руководители НКИД. Возникает, однако, вопрос, диктовалось ли поведение Антонова-Овсеенко лишь его собственными убеждениями либо он действовал в соответствии с некими неофициальными указаниями "правительства". В полемике с Наркоминделом, после того как полпред исчерпал политическую аргументацию в пользу нового курса во взаимоотношениях с Польшей (и эта аргументация была отвергнута), он, наконец, дал свое объяснение происшедшему: "...На сформулированное Патеком предложение поль[ского] пра[вительства], я, по имевшимся директивам (подчеркивание Стомонякова. — О.К.), вернул в разговорах с Залеским, поляков к нашему неснятому предложению о пакте о неагресии, и Залеский мне заявил, что по указанию Пилсудского (очень важное обстоятельство), поляки готовы к заключению такового пакта..."66. К этому месту из письма полпреда член Коллегии сделал помету для своего помощника: "Это, наконец, невыносимо. Прошу точно порыться в переписке и дать справки, какие директивы имел т. А.-О. и что он говорил. Прежде он ведь утверждал, что предложений не делал". Материалы архива НКИД свидетельствуют, что письменных указаний такого рода полпред Запись беседы М.М. Литвинова с С. Патеком 29.1.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.51. См. также: Выписка из записи беседы Б.С.Стомонякова с С. Патеком 31.1.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.69-66. 64 Судя по отбору документов для публикации в ДВП СССР, таким было и мнение историков, участвовавших в подготовке этого официального издания в конце 60-х–начале 70-х гг. Вслух же советская историография, разумеется, начисто отрицала какое-либо предложение о пакте со стороны представителей СССР (см.: И.В. Михутина. Советско-польские отношения. 1931-1935. М., 1977. С.26). 65 Rozmowa J. Becka z posłem Owsienko 10.1.1931. S.8-10. В действительности полпред хорошо понимал, что заявление НКИД (ТАСС) "дает полякам понять, что мы в настоящее время не только против заключения какого бы то ни было соглашения с ними, но и каких бы то ни было переговоров с ними" (Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 13.1.1931. – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.15). 66 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 24.1.1931. – Там же. Л.37. 63 действительно не получал, во всяком случае, от Наркоминдела. Однако НКИД был не единственной инстанцией, способной дать директивы полномочному представителю СССР. В этом контексте уместно присмотреться к второстепенному ответвлению рассматриваемого сюжета – политическим контактам между польским и советскими послами в Анкаре в ноябре 1930 г. В первой декаде ноября, по возвращении из Москвы посла СССР в Турции Якова Сурица, состоялись две его встречи с послом Казимежом Ольшовским, на которых обсуждались проблема "uzdrowienia" отношений между Россией и Польшей. В этой связи Суриц высказался о желательности заключения «пакта о нейтралитете», аналогичного греко-турецкому (что Ольшовский, впрочем, истолковал как пакт "de non agression"). По мнению советского посла, его правительство могло преодолеть разногласия относительно "круглого стола" путем одновременного заключения договоров о ненападении с Польшей и балтийскими странами и даже с Румынией (с которой у СССР не было дипломатических отношений). Несмотря на то, что анкарские беседы протекали в обстановке свободного обмена мнениями, Ольшовский «ни на минуту не усомнился» в том, что Суриц получил в Москве «polecenie wysondowania terenu w rozmowie ze mną, oczywiście zupelnie nieobowiązującej, w sprawie zawarcia traktatu o nieagresji»67. 19 ноября, уже после того, как Сурицу стало известно, что Ольшовский направил в польский МИД рапорт об этих беседах, он кратко телеграфировал о них НКИД. Согласно Сурицу, инициатива исходила от Ольшовского, который "за последнее время атакует меня беседами на тему, как нормализовать наши взаимоотношения", и предлагает заключить двусторонний пакт о нейтралитете, приступить к установлению дипломатических отношений между Румынией и СССР, причем Польша в обмен взяла бы "курс на невозобновление румыно-польского соглашения". "Я, – утверждал Суриц, – уклонился от ответа"68. Анализ донесений польского и советского дипломатов (избавим читателя от чрезмерных подробностей) указывает, что независимо от того, кто кого "атаковал" предложением о начале политических переговоров между СССР и Польшей, Суриц отнюдь не являлся пассивной стороной в дискуссиях на этот счет. Его утверждение об обратном свидетельствует лишь о знании того, что занятая им позиция шла вразрез с линией дипломатического ведомства. Итак, не только посланник СССР в Варшаве, но и его посол в Анкаре одновременно выступили со схожими инициативами, направленными на радикальное улучшение советско-польских отношений и фактически на изменение политического ландшафта Восточной Европы. Вряд ли это можно объяснить простым совпадением или личными контактами между Сурицем и Антоновым-Овсеенко (в 1905 г. они сотрудничали в Варшавском военном комитете РСДРП). Удивительная сама по себе, эта история получила поразительное развитие: Сурицу ответил лично Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сталин, и этот ответ был утвердительным. "Предложение польского посла заслуживает внимания, – указывал Сталин. – Продолжайте с ним беседу и заявите, что Вы могли бы взять на себя постановку вопроса перед Советским правительством о двустороннем пакте о нейтралитете, если бы могла быть гарантия, что польское правительство действительно готово пойти на такой шаг"69. Сталин, таким образом, рассматривал пакт о нейтралитете как ценность per se, не пытался обусловить ее уступками со стороны Польши в румынском вопросе (как то подсказывала телеграмма Сурица в НКИД), и вполне допускал, что Москва может официально инициировать переговоры с Польшей о политическом соглашении. Почему инструкция послу не была направлена через руководство и аппарат Наркоминдела (как это делалось даже при передаче срочных указаний Политбюро находившемуся за границей наркому)? Желал ли Сталин, чье мнение столь резко расходилось с позицией Наркоминдела, избежать общения с главой этого ведомства Литвиновым – деятелем, уверенным в себе и бесцеремонным в общении с высшими руководителями70? Сталин поручал Сурицу сказать польскому послу, что без получения "такой гарантии" он, Суриц, "не решается надавить на Советское правительство, чтобы не попасть в разряд легкомысленных политиков". Однако Суриц никогда не был политиком, не претендовал на это (в отличие, например, от полпреда Аросева) — он был дисциплинированным дипломатом, и ему не нужны Raport K. Olszowskiego do A. Zaleskiego, Angora,11.11.1930. – AAN. Ambasada RP w Moskwie. Т.26. S. 282-286; Raport K. Olszowskiego do A. Wysockiego, Angora, 13.11.1930. – Tam że. S. 278-281. 68 Телеграмма Я.З. Сурица в НКИД, 19.11.1930 // ДВП СССР. Т.13. С.663. 69 Телеграмма И.В. Сталина Я.З. Сурицу, 21.11.1930 // Там же. С.669. 70 «Дурак!» – не раз приходилось слышать главе советского правительства и члену Политбюро Молотову от номинально подчиненного ему Литвинова (Дж. Хаслам. Литвинов, Сталин и путь, по которому не пошли // А.О. Чубарьян (отв. ред.). Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917-1991. М., 1993. С.82.) 67 были какие-либо "гарантии" для того, чтобы докладывать начальству о своей текущей деятельности. Да и откуда могла взяться мысль, что полпред может "надавить" на свое правительство?71 Благодаря скрытой в ней несуразице сталинская фраза выдает существо дела: сам Сталин, стремясь предпринять шаги по налаживанию отношений с Варшавой, не решался "надавить на Советское правительство" – Политбюро и НКИД, чтобы "не попасть в разряд легкомысленных политиков". Не располагая поддержкой со стороны профессионалов Наркоминдела, он опасался ставить на карту свой авторитет без "гарантий" того, что предлагаемое им решение будет иметь успех. Несомненно, в руководящих кругах СССР в октябре-ноябре 1930 г. шли приглушенные дискуссии относительно заключения пактов взаимопомощи с Польшей и другими западными соседями (прежде всего с Финляндией, отношения с которой в 1930 г. были крайне напряжены). В этом контексте становятся понятны придирчивость, с какой Литвинов и Крестинский выспрашивали у Патека о том, как поляки представляют себе политический трактат с СССР, и разговор, который в октябре Стомоняков неожиданно завел с финским посланником Артти об отказе Финляндии подписать договор о ненападении тремя годами ранее72. Другой примечательной чертой послания Сталина в Анкару является его согласие с "дедуктивным подходом" (который неделей ранее, во время своего краткого пребывания в Москве, всячески пропагандировал Антонов-Овсеенко): "Намекните слегка и глухо, что... наличие такого пакта могло бы создать предпосылки для благоприятного разрешения других вопросов..."73 В конце ноября Суриц "имел с польским послом новую беседу в духе данной мне директивы"74 (ср. это выражение, лишенное ссылки на источник, с формулировкой Антонова-Овсеенко о том, что он действовал "по имевшимся директивам"). О встречах полпредов со Сталиным или его близкими сотрудниками, которые могли состояться во время отпусков и поездок в СССР Сурица (август-октябрь) или Антонова-Овсеенко (июль-сентябрь, ноябрь 1930 г.), нам пока ничего не известно. Прежде и после осени 1930 г. Суриц и Антонов не раз посещали кремлевский кабинет Сталина и, судя по отрывочным данным, их личные отношения с Генеральным секретарем в те годы были весьма доброжелательными. Антонова-Овсеенко притягивало к Сталину-реалисту разочарование в политической линии Троцкого. С первых шагов своей деятельности в Варшаве Антонов-Овсеенко при разногласиях с НКИД часто апеллировал к "сессии" или "инстанции" (Политбюро, Сталину), рассчитывая встретить там большее понимание, и по крайней мере в одном случае заместитель наркома даже просил полпреда самому "написать тт. Кагановичу и Сталину", чтобы они защитили "наши и Ваши интересы" и пересмотрели решение Политбюро75. То немногое, что известно о примечательной личности и положении Сурица в советских кругах, согласуется с оценкой его польского коллеги: "Od szeregu lat prowadzi on z wielkim talentem i z dużym powodzeniem politykę zmierzające do ujarzmienia Turcji. Osięgnał w tej mierze świetne wyniki... Dzięki temu cieszy się on najżupelniejszym zaufaniem ze strony Politburo a w szczególności ze strony Stalina"76. Поэтому, несмотря на неясность того, как именно происходил доверительный обмен мнениями между высшей инстанцией и некоторыми полпредами СССР, обоснованными представляются лаконичные письменные свидетельства о том, что "советское предложение" Польше ("вина" за которое легла на Антонова-Овсеенко) было если не инициировано Сталиным, то пользовалось его поддержкой и отражало его понимание внешнеполитических задач СССР. Восстановление к лету 1930 г. дружественной атмосферы в отношениях СССР и Германии сопровождалось ее сближением с Францией и Великобританией; в июле 1930 г. французские войска По выполнении "московской директивы" сам Суриц описывал свое заявление Ольшовскому в совершенно иных выражениях: "…Не попаду ли я в смешное положение перед своим правительством, раздув впустую кадило" (Письмо Я.З. Сурица Л.М. Карахану, 29.12.1930 // ДВП СССР. Т.13. С.770). 72 А.И. Рупасов. Советско-финляндские отношения: Середина 1920-х — начало 1930-х гг. СПб, 2001. С.153. По сведениям Артти, в октябре 1930 г. (т.е. еще до своего возвращения в Анкару) проблемы заключения СССР пактов о ненападении касался и полпред Суриц (там же). 73 Телеграмма И.В. Сталина Я.З.Сурицу, 21.11.1930. 74 Телеграмма Я.З. Сурица в НКИД, 27.11.1930 // Там же. С.686 (курсив мой). Взволнованный Ольшовский отвечал, что выражал только свои личные взгляды и готов говорить об этом с А. Залеским в Варшаве, куда он выезжает в ближайшие дни (там же). 75 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 5.3.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.15. 76 Raport K. Olszowskiego do A. Wysockiego, Angora, 13.11.1930. S. 280. 71 досрочно покинули Рейнланд. В советских кругах оживились подозрения относительно "переориентации Германии" и ее желании использовать "советский козырь" для укрепления отношений с западными странами в ущерб СССР. К концу 1930 г., благодаря грандиозной московской постановке – процесcу "Промпартии", разоблачившему "интервенционистские планы французского генштаба", и взаимному экономическому бойкоту, напряженность между Советским Союзом и Францией достигла апогея. Перед СССР замаячила опасность новой политической изоляции. Для ее предотвращения, по мнению руководителей НКИД, требовалось оберегать отношения с Берлином от всяческих потрясений, одновременно отыскивая пути к примирению с Парижем. Другой вариант – соглашения с Варшавой – был привлекателен возможностью нейтрализовать Польшу как возможного участника и "острия" любой враждебной СССР группировки держав и тем самым обеспечить спокойствие на его западных рубежах. Этот вариант, однако, означал не только необходимость согласиться с влиянием Польши в Прибалтике, но и готовность пойти на разрушение "единственного", с точки зрения Германии, "позитивного фактора, сохранявшегося в русско-немецких отношениях"77 – обоюдной заинтересованности в максимальном ослаблении Польского государства. В силу этих обстоятельств решительный выбор в пользу новой политики был чреват для Москвы огромным риском. С другой стороны, подъем германского ревизионизма, столь явственно проявившийся при выборах в рейхстаг в сентябре 1930 г. (когда нацисты превратились во вторую по числу поданных голосов политическую силу Германии), в неизмеримо большей мере затрагивал интересы Польши, нежели Советского Союза78. Соответственно бóльшим был у Москвы и запас времени для наблюдения за ситуацией и подготовки принципиальных политических решений. По этим причинам в конце 1930 г. речь шла скорее о том, чтобы выровнять накренившийся корабль советской внешней политики, и лишь затем выяснить, куда он поплывет дальше. Антонов-Овсеенко отмечал, что политическое соглашение с поляками выгодно СССР уже потому, что придаст его отношениям с Германией большую устойчивость: "Мы бы больше заставили считаться с собой немцев, если б сохранили известную свободу действий. <…> Конечно, в Берлине будут косо смотреть на это наше сближение с Польшей. Но будут и более дорожить сближением с нами, видя, что мы способны вести самостоятельную политику"79. Такой подход к задачам советской политики пугал заместителя наркома Крестинского, лучше других понимавшего неприемлемость для германского ревизионизма пакта ненападения между СССР и Польшей80. Нарком Литвинов и член Коллегии Стомоняков занимали более сбалансированную позицию и, негодуя по поводу предлагаемого Антоновым-Овсеенко образа действий, в принципе не возражали против его постановки проблемы. Защищая январское опровержение НКИД относительно переговоров СССР с Польшей, Стомоняков утверждал: "...Мы не поможем, а повредим нашим усилиям развивать и углублять отношения с Германией, вызывая в Германии представление о неискренности нашей политики и о готовности в любой момент заключить пакт с Польшей. Я думаю, что во всем НКИД нет ни одного человека, который не желал бы заключения пакта с Польшей. Конечно, такое сближение с Польшей будет неприятно Германии и вызовет некоторое охлаждение ее отношения к нам. Мы без колебания пойдем на это, имея ввиду огромную пользу сближения с Польшей. Совсем другое дело, однако, вызывать в Германии подозрения и, следовательно, содействовать тем самым ухудшению отношений 77 H.L. Dyck. Weimar Germany and Soviet Russia 1936-1933: A Study in Diplomatic Instability. L.,1966. P.187-188. Иную интепретацию см.: S. Gregorowicz i M.J. Zacharias. Polska — Związek Sowiecki: Stosunki polityczne 19251939. Warszawa, 1995. S. 45. 79 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 13.1.1931. – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.16; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 16.1.1931. – Там же. Л.22. 80 В личном послании Антонову-Овсеенко Крестинский отчетливо определил свой подход к отношениям СССР с Польшей: «Я являюсь не только противником переговоров с поляками о пакте [ненападения] в настоящий момент, но и вообще был бы огорчен, если бы нам пришлось заключить пакт с поляками», «я являюсь противником каких бы то ни было переговоров с поляками даже о заключении торгдоговора» (Личное письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 30.1.1931. – Там же. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.84. Л.4-5). Наличие в НКИД такой позиции, заявил в ответ Антонов, "заставляет меня сугубо тревожиться за судьбу наших отношений с Польшей" (Выписка из письма В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 5.2.1931. – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.46). Двумя годами позже, в период расцвета курса на советско-польское сближение, Крестинский признал формулировки своего письма начала 1931 г. излишне жесткими. 78 Германии и СССР без всякой пользы для наших отношений с Польшей, как в данном случае"81. В этих рассуждениях ощутим привкус самооправдания и политического лицемерия, но, в конечном счете, решающим для Наркоминдела был ответ на вопрос, действительно ли Варшава желает заключения с СССР пакта о ненападении и нейтралитете или она лишь стремится использовать контакты с Москвой по этому поводу для повышения своих акций на международной политической бирже, для оказания соответствующего воздействия на Германию и Литву, Францию и Румынию, Эстонию и Латвию. 4. Пилсудский и пересмотр польской политики "Брестские выборы" ноября 1930 г. означали стабилизацию режима Пилсудского, приобретшего откровенно диктаторские черты. Пилсудский задумывался о вступлении польской внешней политики в новую фазу, в рамках которой она обретет большую свободу от «nacisku zagranicy» и избавится от преувеличенного, по его мнению, внимания к Западу, от заискивания перед ним82. 18 ноября на конференции у Президента Moсьцицкого, на которую были приглашены Славек, Свитальский и Бек, они узнали о решении Коменданта "wzmocnić MSZ, i to jak zawsze, drogą zmian personalnych", прежде всего – путем назначением Ю. Бека, который пользовался его исключительным доверием и в последние месяцы занимал пост вице-премьера, государственным секретарем МИД. Одновременно Пилсудский советовал заменить Т. Голувко, не сумевшего должным образом использовать свое влияние на Вежбовой, Т. Шетцелем на посту начальника Восточного отдела, "co będzie równieź wzmocnieniem MSZ i jego polityki, która ma kierunek najżupelnej falszywy, gdyż neglizuje wschód..."83 Эти установки Пилсудского (как и его наставления, данные в те дни лично Ю.Беку84) знаменовали определенный перелом в подходе Варшавы к советской проблеме. По всей вероятности, в НКИД были правы, полагая, что в сентябре-октябре 1930 г "разрешение Патеку разговаривать с нами" было, скорее, «известной уступкой» со стороны Пилсудского85 (как отмечалось выше, сам Патек признавал, что разговор с маршалом летом 1930 г. у него получился "трудным"). Однако гораздо большую политическую проницательность проявил полпред в Варшаве, указывая на складывание новых тенденций в международном положении и позиции Польши. Как показывают цитированные выше записи его бесед с Залеским и Голувко, после «конференции у г-на Президента» с конца ноября на Вежбовой стали готовиться к изменению линии поведения в отношении СССР, и к 10 декабря шеф МИД получил сигнал о том, что Пилсудский отказывается от установки на "индуктивный" способ ведения дел с Советами86, и считает нужным начать переговоры о взаимоотношениях СССР и Польши "с надлежащей широтой, относясь, в частности, положительно и к подписанию пакта о неагрессии". В какой форме и на каких условиях Польша приступит к этим переговорам оставалось, однако, неясным для всех, включая самих поляков, участников начинавшейся крупной международной игры. При заметных различиях в дипломатической тактике Залеского и Патека (в значительной мере объяснимых различиями в их служебном положении и темпераменте) они, по всей вероятности, тяготели к тому, чтобы обойти трудности, связанные с пактом ненападения, и вместо него предложить Советам Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 20.1.1931 (копия). Л.54об. См. также: О. Ken. Collective Security or Isolation? Soviet Foreign Policy and Poland, 1930-1935. St.Petersburg, 1996. P.21. Позиция, занятая в тот период четвертым членом Коллегии НКИД – вторым заместителем наркома Л.М. Караханом, не поддается определению, однако известно, что в 1929 г. он был едва ли не самым горячим сторонником развития отношений с Польшей (быть может, в пику линии, проводимой его противником – М.М. Литвиновым) (см. ниже). 82 Было бы излишним рассматривать здесь важнейшие международные обстоятельства, определившие частичный пересмотр внешнеполитической линии Польши, которые подверглись тщательному изучению в польской историографии (J. Krasuski, P.S. Wandycz, H. Bulhak et al.), а именно радикализацию ревизионистских настроений в Германии и укрепление во французской политике курса на сближение с Германией, «веры в возможность этого сближения» (по словам А. Хлаповского). Вполне вероятно влияние и третьего фактора — пересмотра Пилсудским своих оценок 1928-1929 гг. относительно неустойчивости советского режима. Для соответствующего анализа недостает, однако, аутентичных источников. 83 K. Świtalski. Diariusz 1919-1935. Warszawa, 1992. S.607 (курсив мой). 84 W. Pobóg-Malinowski. Najnowsza historia polityczna Polski. 1864-1945. T.2. Cz.1. L., 1956. S.544. 85 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 22.10.1930. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.111. 86 См.: J. Beck. Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1939. Paryż, 1990. S. 51-52. 81 соглашение о неприменении силы и согласительной процедуре87. Лишь позднее Залеский стал осторожно зондировать (через посольство Италии в Варшаве) возможность включения в будущий договор "какойнибудь специальной клаузулы, которая исключает участие в соглашениях, направленных против другого контрагента"88. "Новые люди" – Бек и Шетцель – до конца 1930 г., по существу, не успели приступить к своим новым обязанностям. Судя по содержанию и тональности заявлений Бека в начале 1931 г., он был готов действовать решительнее своего шефа и потому не спешил предрешать характер польского "ответного" предложения. Вполне вероятно, что полпред правильно оценил ситуацию в MИД Польши, когда указывал на неавторитетность объяснений, которые Патек дал Литвинову в конце января 1931 г.: "Скорее всего, Патека почему-то не сочли нужным держать в курсе "новой" (с укреплением маршала) политики, которую взялись делать новые люди"89. В Москве проявили непонимание смысла перемен в MИД, полагая, что "назначение полковника Бека и полковника Шетцеля и дальнейшее сращивание польского дипломатического аппарата с аппаратом польской разведки и подчинение польского мининдела контролю польской военщины не говорят о мирных намерениях Пилсудского и о желании укрепить и развить добрососедские отношения с СССР"90. Мысль "о роли военщины" как препятствии к сближению Польши с СССР глубоко запала в ум Литвинова, и он не стеснялся выражать ее открыто (что впоследствии усиливало недоброжелательное отношение к нему Ю.Бека)91. В результате в разглашении сведений о начинающихся советско-польских переговорах Москва усмотрела польскую интригу (а не румынскую (сообщение "Lupta") или германскую (оно получила широкое хождение благодаря агентству "Konti"), как полагал Антонов-Овсеенко). Удар, нанесенный официозным советским опровержением по политическому самолюбию Варшавы, понуждал MИД к максимальной сдержанности, а польскую миссию к ответным пропагандистским усилиям92. И то, и другое укрепляло НКИД в невозможности серьезных переговоров с Польшей, и Стомоняков риторически сожалел о "неблагодарной роли", которая "выпала на долю Патека, имеющего задание от Пилсудского прикрыть его политику в отношении СССР" – "держать рану "открытой""93. АнтоновОвсеенко, на которого пал odium вины за инцидент, испытывал глубокое разочарование и в феврале 1931 г. также заговорил о "победе в правящих кругах Польши непримиримо-враждебных нам тенденций"94. Вместе с тем переговоры с Советским Союзом являлись для польского руководства частью общего поворота к укреплению своих позиций на востоке Европы. Поэтому Варшава стремилась избежать впечатления, что нормализация отношений с Москвой может быть чревата ослаблением союза с Румынией и политических связей с балтийскими государствами. Почувствовав, что польские поводья ослабли, некоторые из них могли вскачь пуститься к достижению договоренности с СССР о столь желанном для них пакте ненападения. Вслед за выполнением предписанного в конце декабря демарша, польский посланник в Риге выражал сомнение в стойкости и последовательности правительства Цельминса в случае открытия советско-латвийских переговоров, а спустя полтора месяца новый премьер Ульманис уже прямо заявил полпреду Свидерскому о готовности Латвии подписать пакт с СССР, если Варшава и Москва вступят в переговоры на этот счет95. С другой стороны, сколь бы глубоким ни было разочарование в готовности Франции отстаивать интересы Польши перед лицом расцветавшего Иное объяснение желания Залеского сделать главный акцент на согласительной процедуре см.: W. Materski. Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939. Warszawa, 1994. S. 243-244. 88 См.: Выписка из дневника наркома М.М. Литвинова, 4.2.1931 (прием Аттолико 4 февраля). – АВП РФ. Ф.0122. Оп.122. П.154. Д.2.Л.70. 89 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 5.2.1931. – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.45. 90 Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 16.12.1930. – Там же. Ф.0122. Оп.14. П.149. Д.2. Л.122. В ответ полпред напомнил: "Голувко ни в коем случае не меньший второотделец, чем Шетцель, а Бек ни в коем случае не более враждебен нам, чем Высоцкий" (Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 13.1.1931. Л.14). 91 См.: Выписка из дневника наркома М.М. Литвинова, 26.5.1931. Л.110; J.Beck. Op.cit. S. 103. 92 См.: Рапорт Г. фон Дирксена в МИД Германии, 27.1.1931 // ДИМСП. Т.V. С.480-481. 93 Выписка из записи беседы Б.С. Стомонякова и Б. Аттолико, 1.2.1931. Л.72 94 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякова, 8.2.1931 ("К делу Полянского"). – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.50. Помета Стомонякова: "Also...". 95 Raport M. Arciszewskiego do MSZ, Ryga, 30.12.1930; А.И. Рупасов. Указ. соч. С.154. Действительно, когда переговоры о пактах ненападения стали в 1931-1932 гг. реальностью, Москва без большого труда расстроила столь желанную Польше их синхронность (см. ниже). 87 германского ревизионизма, налаживание отношений с СССР в условиях советско-французской холодной войны конца 1930 – начала 1931 г. требовало от поляков чрезвычайной осмотрительности в выборе дипломатической тактики. "Несомненно, что даже своим союзникам поляки должны были преподнести эти, по их инициативе, намечавшиеся переговоры как предпринятые-де нами", – справедливо отмечал Антонов-Овсеенко96. Наконец, по своему существу надежная стабилизация мирных отношений между Польшей и СССР требовала крупных ("концептуальных") взаимных уступок, и ни одна из сторон не торопилась ослаблять свои переговорные позиции, выказывая нетерпение или чрезмерную заинтересованность97. В этом отношении бесплодным было бы продолжение спора семидесятилетней давности о том, что явилось главной причиной срыва намечавшихся переговоров: директива МИД, оповестившая друзей Польши и через них весь мир о «предложении Овсеенко», или же публичное отрицание НКИД каких бы то ни было переговоров с Польшей. Рассмотренные выше события конца 1930 -- начала 1931 г. позволяют увидеть, как в силу обоюдных потребностей во взаимоотношениях СССР и Польши исподволь, едва ли не "стихийно", вновь возникла идея политического урегулирования на основе принятия взаимных обязательств ненападения (или неприменения силы) и мирного урегулирования возможных конфликтов. Почти одновременно (ноябрь -декабрь 1931 г.) эта идея получила несомненную поддержку со стороны как Сталина, так и Пилсудского. Для ее реального воплощения были, однако, необходимы, с одной стороны, психологическая готовность и профессиональная способность дипломатических ведомств обеих стран отыскать такую формулу вступления в официальные переговоры, при которой связанные с этим неизбежные риски удалось бы свести к минимуму, и, с другой, эффективная государственная система, обеспечивающая принятие и исполнение внешнеполитических решений. Парадоксально, что сколь бы неотчетливыми ни выглядели "персональные методы" Пилсудского, гораздо большие трудности в этом отношении представляла политико-бюрократическая машина "раннего сталинизма", функционировавшая по отживавшим свой век формальным правилам. В силу этих обстоятельств – и после польских демаршей в Бухаресте и Риге, опровержения с советской стороны, взаимных обвинений в нелояльном поведении -- вступление СССР и Польши в официальные переговоры о пакте неагрессии уже в 1931 г. выглядело почти невероятным. Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 13.1.1931. Л.14. Удивительна помета Литвинова: "Зачем?". В этом смысле отбытие Пилсудского на Мадейру 12 декабря 1930 г. ничуть не противоречило тому обстоятельству, что решение идти на переговоры с Советами было им “w zasadzie” уже принято (иную интерпретацию см.: P.S. Wandycz. The Twilight of French Eastern Alliances, 1926-1936: French-Czechslovakian-Polish Relation From Locarno to the Remilitarization of Rhineland. Princeton, NJ, 1987. P.207-208). 96 97 Часть 2. Переговоры 1931-1932 гг. 1. Польская инициатива и позиция Наркоминдела (август 1931 г.) На исходе лета 1931 г., в день, который восемью годами позже окажется зловещим для Польши и всей Европы – 23 августа, посланник Станислав Патек нанес визит в особняк на Кузнецком мосту, где размещался Народный комиссариат иностранных дел. Его принял заместитель наркома Л. Карахан, которому в связи с болезнью члена Коллегии НКИД Б. Стомонякова было поручено курировать отношения СССР с западными соседями. Поводом для визита Патека послужило его "обыкновение перебирать все неразрешенные вопросы" перед отбытием в отпуск (Патек покидал Москву в тот же день). "В этом порядке" он "счел необходимым затронуть вопрос" и о пакте ненападения между СССР и Польшей, с обсуждения которого пятью годами ранее началась работа Патека в Москве. "Он придает очень большое значение пакту о неагрессии; он хочет, – говорилось в записи Карахана, – чтобы о нем не забывали, и поэтому, уезжая в Польшу, он счел своим долгом напомнить об этом вопросе и вручить мне в письменном виде итоги переговоров". С конца 1930 г. в НКИД как огня боялись, что поляки вызовут его представителей на обсуждение проблем договора о ненападении и оповестят мир о начале советскопольских переговоров. Неудивительно, что предупредительность и любезность посланника вызвала у Карахана ("светского льва" Наркоминдела) дурноту98. Главной заботой для заместителя наркома было констатировать, что "в 1927 г. переговоры о пакте остановились ввиду крупнейших разногласий между СССР и Польшей", что после 1927 г. переговоров между СССР и Польшей на эту тему не велось, что происходящая беседа не является возобновлением переговоров о пакте. Посланник не возражал и в то же время, настойчиво смещая акценты (разрыва переговоров о пакте не было, проблема время от времени обсуждалась), попытался начать обсуждение разногласий по отдельным пунктам договора. Опасаясь быть втянутым в разговор по существу и успев продекларировать, что никаких переговоров не было и нет, Карахан "просил его [Патека] не затруднять себя, так как все это не имеет значения". Уходя, Патек выразил надежду, что состоявшаяся беседа "будет известным толчком, который двинет вперед дело пакта". "Я ему сейчас же заметил, – с гордостью докладывал Карахан, – что я не думаю, что это может быть толчком и может двинуть дело, поскольку то, что он мне передал, не заключает ничего нового, а является лишь констатацией того, на чем мы договориться не могли"99. Реакция заместителя наркома на желание польской стороны возобновить обсуждение договора о ненападении не оставляет сомнений: НКИД ожидал подобной инициативы и готовился ее отразить с необычной для таких случаев жесткостью. В 1925-1926 гг. именно Москва выступала с предложением о заключении пакта ненападения с Польшей. Весной 1930 г. советская сторона едва удержалась от открытого проявления инициативы на этот счет. Беседы советского полпреда в МИД Польши в конце 1930 г. фактически поставили возобновление переговоров о ненападении в повестку дня. Вето, наложенное Наркоминделом на такой шаг, вернуло политические отношения между двумя странами в тупик. На протяжении весны-лета 1931 г. дипломаты обеих стран занимались преимущественно урегулированием всевозможных инцидентов – антипольскими заявлениями государственных мужей Советской Украины и Белоруссии, судебным делом о покушении на взрыв полпредства в Варшаве, задержанием военного атташе СССР во время агентурной встречи с польским офицером, взаимными нападками в прессе, советской задолженностью польским железным дорогам, нежеланием Польши формализовать обмен сведениями о вооруженных силах и т.д. Такое положение дел в целом удовлетворяло Москву, не верившую в готовность Польши пойти на коренное улучшение отношений с Советами и стремившуюся избежать впечатления о дружественности существующих отношений100. Cоветская сторона желала не более и не менее как сохранения поверхностной détente, наступившей в "Патек был тошнотворно любезен и льстив" (Запись беседы Л.М. Карахана с С. Патеком, 23.8.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.486). 99 Там же. С.484-486. 100 См.: Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 8.4.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.101, 99; Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 29.4.1931. – Там же. Л.116. 98 двусторонних отношениях к началу лета, и, казалось, позволявшей ей забыть о существовании Польши как международного фактора. Это умонастроение соответствовало сдвигам во внешнеполитическом положении СССР. Под влиянием заключенного в марте 1931 г. австро-германского таможенного союза французская дипломатия предложила СССР приступить к нормализации взаимных отношений. С конца апреля, после посещения генеральным секретарем МИД Франции полпреда Довгалевского, перед Советами все отчетливее вырисовывалась перспектива заключения договора о ненападении и торгового соглашения с Францией. Начавшееся урегулирование отношений с самой влиятельной державой континента разжигало честолюбие Москвы, ее надежды вернуться в ряды великих держав и даже занять ключевое положение в европейской политике. На фоне дружественных связей с ревизионистскими государствами (Германией, Италией, Турцией) сближение СССР с Францией не только ослабляло его зависимость от поведения Берлина, но и позволяло принимать ухаживания с обеих сторон. Советская печать с удовольствием поддержала раннюю версию "пакта четырех" 1933 г. – неофициальный германский проект о "пакте пяти держав" (Франции, Великобритании, Германии, Италии и СССР), имеющий целью обеспечение их "равноправия" и "мирного сотрудничества"101. Эти благие пожелания подкреплялись адресованными Западу заверениями в миролюбии СССР. С санкции Кремля женевская риторика Литвинова о "мирном сосуществовании государств, независимо от различий социально-политических и экономических систем", с начала лета обрела в СССР права гражданства. Руководители НКИД по секрету подтверждали, что эта "новая тенденция" (или "политика Литвинова") ориентирована на новые международные задачи СССР, выступающего отныне как благоразумная великая держава со своими собственными национальными интересами102. Укрепление международных позиций СССР вместе с его явным пренебрежением к проблемам взаимоотношений со своим главным соседом на западе тревожило Варшаву. Обновленное руководство МИД, которому Пилсудский в ноябре 1930 г. поручил активизировать работу на восточном направлении, имело основания опасаться, что в результате франко-германо-советских маневров Польша утратит возможность использовать противоречия великих держав, позволявшую ей проводить самостоятельную линию. После возвращения Пилсудского с Мадейры Варшава неоднократно подавала Москве сигналы о своем желании обеспечить устойчивое мирное сосуществование с Советами. При поощрении МИД Польши в середине мая в дипломатических кругах Варшавы стали распространяться, сообщал полпред Владимир Антонов-Овсеенко, «усиленные слухи о «возобновлении» нами полякам предложений пакта неагрессии»103. Вслед за поездкой в СССР хозяйственной делегации во главе с А. Вежбицким, "Polska Zbrojna" опубликовала серию статей о советской пятилетке (которую заведующий 1-м Западным отделом НКИД Н. Райвид оценил как «лучшее описание СССР, которое когда-либо появлялось в польской и даже европейской печати»104). Тем самым Советам давалось понять, что польский "военный министр"105 готов к налаживанию прочных отношений с крепнущим соседним государством. «Теперь, когда улеглось на время дело заключения австро-германского таможенного союза», «можно будет заняться иными вопросами», напутствовал в конце мая госсекретарь Ю.Бек уезжавшего в отпуск полпреда. Понимая, что «хитрый Бек» подталкивает его к возобновлению бесед о пакте ненападения между Польшей и СССР, Антонов-Овсеенко уклонился от обсуждения этой темы106. В начале июня, сразу после того как сведения о франко-советских переговорах появились в европейской печати, в международных кругах начали циркулировать предположения, что на этих Анализ советской печати и оценки французского поверенного в делах в Москве Пайяра см.: Notatka A. Ponińskiego "Uwagi o projekcie paktu pięciu", 25.8.1931. – AAN. Ambasada RP w Moskwie. T.26. S.299-301. 102 E. Ovey to A. Henderson, desp., Moscow, 30.6.1931 // DBFP 1919-1939. 2nd ser. Vol.VIII. L., 1958. P.213; E. Ovey to J. Simon, tel., Moscow, 9.6.1931. –PRO. FO/371/15612/N4210; E. Ovey to A. Henderson, tel., Moscow, 27.7.1931 ("very confidential"). – Ibid. FO/371/15612/N5256. 103 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомоняковву, 19.5.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.131. 104 Raport J. Kowalewskiego do Szefu Oddziаłu II Sztabu Głównego, Moskwa, 11.6.1931. – AAN. Attache wojskowi w Moskwie. T.93. S.243-244. 105 Это был единственный официальный пост, который после майского переворота 1926 г. закрепил за собой Ю. Пилсудский. 106 Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 30.5.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.148 (запись от 29 мая). 101 переговорах обсуждаются также взаимоотношения СССР с восточноевропейскими союзниками Франции. Возможность вступления СССР и Польши в переговоры о ненападении вызвала тревогу в Берлине. 5 июня полпред Лев Хинчук по поручению наркома заявил от его имени статс-секретарю МИД фон Бюлову, что в отношениях СССР и Франции не произошло ничего, о чем бы Литвинов не сообщил германскому послу, и что в ходе свидания в Женеве "Литвинов с Брианом совершенно ничего не говорил о Польше и Румынии"107. Все ответственные политики и дипломаты отдавали себе отчет в том, что для Германии, встававшей на путь ревизии послевоенного устройства, наиболее неприемлемым являлось возможное признание Советами неприкосновенности территории Польши в рамках пакта о ненападении. В середине июня на ужине в советском посольстве в Берлине об этом напомнил хозяевам главнокомандующий рейхсвера Гаммерштейн фон Экворд. "Говоря о франко-советских переговорах он признавал, что не только необходимо вести эти переговоры, но что успешное разрешение их нисколько не вредит Германии, ибо он не представляет себе возможным какое бы то ни было соглашение, которое могло бы повредить интересам Германии. К таким он относит, конечно, также соглашение о признании нами [СССР] польской границы"108. Именно по этому, едва ли не самому чувствительному, пункту в советско-германских отношениях нанесла удар "Gazeta Polska", 8 июля поместившая статью "Германия и Советы". Она "страшно встревожила немцев", докладывал временный поверенный в делах СССР в Польше Ф. Бровкович. Секретарь германской миссии в Варшаве Демулен и корреспондент "Germania" Тогенбург посетили советское представительство (из-за отсутствия полпреда немецкий посланник фон Мольтке отказался от намерения самому нанести такой визит), чтобы заявить, что немецкие дипломаты и корреспонденты расценивают эту статью как отражение тех переговоров, которые ведутся между Москвой, Парижем и Варшавой о т[ак] н[азываемом] "Восточном Локарно"". "Появление этой статьи с очевидностью показывает стремление поляков использовать ведущиеся франко-советские переговоры для внедрения в сознание немцев, что они [немцы] совершенно изолированы и тем самым заставить их пойти на капитуляцию перед политическими требованиями, ныне к ним предъявляемым", полагал Бровкович, и в НКИД с ним соглашались109. Двумя неделями позже во французской печати появилась информация о якобы начавшихся параллельных переговорах СССР и Польши о заключении пакта о ненападении, которая была немедленно опровергнута советским официозом110. Возможно, что публикация статьи Ф. Марсаля и другие выступления французской печати о советско-польских переговорах были инспированы польской миссией в Париже, однако они могли отражать и действительные пожелания MИД Франции. В конце весны, когда переговоры полпреда В. Довгалевского с генеральным секретарем МИД Ф. Бертело о заключении пакта ненападения еще находились в предварительной стадии, Довгалевский получил сведения о высказываниях министра А. Бриана политикам, поддерживавшим тесный контакт с советским полпредством. 28 мая, разговаривая в кулуарах Палаты депутатов с видным коммунистом (позднее фашистом), депутатом Национального собрания Ж. Дорио, Бриан заявил ему: "Мы предложим вам соглашение между Францией и Польшей с одной стороны и с Россией – с другой стороны". Нечто подобное еще ранее (перед Пасхой) министр иностранных дел сказал и Анатолю де Монзи, председателю франко-советской парламентской группы. "Во всяком случае, возможно (и [э]то весьма вероятно), – заключал Довгалевский, – что между Францией и Польшей идет сейчас согласование и в этом именно надо видеть одну из причин оттягивания переговоров"111. Это предположение долго оставалось неподтвержденной догадкой. При встрече с Литвиновым в конце мая стареющий французский министр "остался верен себе"– "не ставил конкретных вопросов, не давал конкретных ответов и держался, как он обычно это делает, общих положений и выспренних Запись беседы Л.М. Хинчука с Б. фон Бюловым, Берлин, 5.6.1931. – АВП РФ. Ф.082. Оп.13. П.53. Д.10. Л.87. Дневник полпреда Л.М. Хинчука, Берлин, 19.6.1931. – Там же. Л.134 ("ужин с Рейхсвером" состоялся 17 июня; исполнявший обязанности заведующего 2-м Западным отделом НКИД Б. Штейн сделал на документе отметку: "Никому не показывать"). 109 Письмо Ф.А. Бровковича Н.Н. Крестинскому, 14.7.1931. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.283, 286 (с советской стороны в этих беседах с участвовали секретарь полпредства Юшкевич и корреспондент ТАСС в Варшаве Братин). Помета Стомонякова от 20 июля: "Правильно! NB" (Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.189). 110 Известия. 27.7.1931. 111 Письмо В.С. Довгалевского Н.Н. Крестинскому, 1.6.1931. – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.9. 107 108 деклараций". По всей вероятности, на Кэ д'Орсэ предпочли до поры до времени не связывать политические и коммерческие переговоры с Советами с восточноевропейскими проблемами. Однако в середине июня, обсуждая с американскими представителями проблему "русского демпинга", Бриан пустился в откровения относительно "восточного Локарно" – общего соглашения о ненападении между СССР, Польшей, Румынией и Францией, подкрепленного процедурами разбирательства и урегулирования споров. "Он сказал, что совсем недавно русские согласились благожелательно рассмотреть переговоры о таком соглашении, и в ответ на прямой вопрос Марринера сказал, что переговоры с этой целью в настоящее время ведутся в Париже между ним и советским послом и представителями Польши и Румынии"112. Трудно понять, чего хотел добиться Бриан этими заявлениями, ложность которых в свете советских архивных материалов не вызывает сомнений113. В любом случае, по мере развития франко-советских переговоров существующее положение должно было представляться внимательным наблюдателям (в особенности, из правого лагеря) все более нелогичным. В европейских дипломатических кругах росли ожидания того, что советско-французское сближение приведет к урегулированию взаимоотношений СССР и Польши. На следующий день после официального советского опровержения британский посол в Москве Э. Ови поставил перед Литвиновым вопрос о том, "какова будет реакция Польши" на пакт о ненападении между СССР и Франции – "последует ли за ним русско-польский договор о ненападении?" Нарком отвечал, что он так не думает, "однако Франция не сможет впредь вмешаться, если бы Польша напала на Россию"114. Втайне Литвинов ожидал, что французы нарушат свое молчание; позднее он назвал "поразительным" то обстоятельство, что "в течение переговоров Бертело с Довгалевским ни разу не была упомянута Польша и не были затронуты наши отношения с нею". У Литвинова складывалось впечатление, что руководители французской внешней политики "несколько тяготятся чрезмерными претензиями, предъявляемыми Польшей Франции", и он допускал, что "заключением пакта о ненападении с СССР Бриан сознательно стремится ослабить обязанности Франции в отношении Польши"115. Каковы бы ни были мотивы французской дипломатии и какие бы заверения о сохранении союза с Польшей она ни давала ей на протяжении франко-советских переговоров, у Варшавы было все больше оснований опасаться ослабления своих позиций vis-à-vis России. В начале августа 1931 г. Москву и Ленинград посетил редактор "Gazety Polskiej" И. Матушевский, в недавнем прошлом – руководитель военной разведки, дипломат, министр финансов. Посещение СССР Матушевский мотивировал желанием переговорить как "свободный публицист", занимающийся изучением экономического кризиса, с советскими хозяйственниками, включая наркома финансов и председателя Госбанка. Советская миссия в Варшаве усмотрела в этом попытку создать впечатление об оживлении двусторонних отношений, тем более что "Матушевского знают не только как довольно влиятельно пилсудчика, но и как дельного человека"116. Поездка Матушевского вызвала толки о предстоящем отзыве С. Патека. "Намечается, мол, новый курс в отношении нас, – докладывал полпред СССР в Польше, – каковой представляет Бек и каковой будет проводить новый польский посланник"117. Накануне завершения парижских переговоров MИД Польши был вынужден перейти к более решительным действиям. При посещении НКИД 4 августа посланник Патек заявил заместителю наркома Карахану о намерении перед отбытием в отпуск вручить ему "новые предложения и дополнения" относительно пакта ненападения. Получив разъяснения на этот счет, Карахан констатировал, что "никаких новых предложений, никаких новых шагов польское правительство не собирается делать". Заместитель наркома полагал (и его коллеги с этим были согласны), что "новое предложение Польши Edge to Secretary of State, tel., Paris, 17.9.1931. – NA. SD/462.00 R 296/3986. Наиболее вероятно предположение, что своим сообщением Бриан желал убедить госсекретаря Стимсона в способности Франции устранить политические препятствия к осуществлению проектов разоружения, вытекающие из неурегулированности ситуации в Восточной Европе. 114 E. Ovey to A. Henderson, desp., Moscow, 28.7.1931. – PRO. FO/371/15612/N5391. 115 Записка М. М. Литвинова Л. М. Кагановичу (копии членам Политбюро), 15.9.1931. – АВП РФ. Ф.10. Оп.4. П.21. Д.63. Л.245-246. 116 Письмо Ф.А. Бровковича Н.Я. Райвиду, 19.7.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.194. Матушевский действительно был принят руководителями НКФ и Госбанка СССР и остался доволен своей поездкой (Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 24.8.1931 (запись от 22 августа). – Там же. Л.230-229). 117 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Л.М. Карахану, 8.8.1931 (№. 345). – Там же. Л.211. 112 113 делается только для того, чтобы иметь возможность раскричать на весь мир о том, что Польша сделала Советскому правительству новое предложение о пакте"118. 6 августа по заданию НКИД Телеграфное агентство Советского Союза направило заграницу телеграмму: "Исходящие из Риги сведения, будто по инициативе французского правительства происходили переговоры между представителями СССР и Польши, лишены всяких оснований"119. Будучи верным по существу, советское опровержение отражало как опасения, что выступления печати "подскажут" Парижу новый образ действий, так и стремление указать полякам на тщетность их инициатив. Одновременно НКИД готовился к дипломатическому отпору. К середине августа 1-й Западный отдел разработал обширную историческую справку, заглавие которой ("о переговорах с Польшей о гарантийном пакте (1927-1931)") странным образом подтверждало тезис о непрерывности этих переговоров. Справка завершалась выводом: "позиция поль[ского] пра[вительства] в основных вопросах пакта осталась без изменения и зафиксированные еще во время переговоров 1927 г. разногласия полностью сохранили свою силу"120. На запросы западных миссий о возобновлении переговоров с Польшей сотрудники НКИД отвечали, что если Франция выскажет такое пожелание, Россия "вежливо, но твердо укажет, что она способна вести свои отношения с Польшей напрямую и без вмешательства третьей державы". Москва готова рассмотреть обращение со стороны Польши о двустороннем пакте, но не собирается вести с ней переговоры как с "членом группы" государств121. 10 августа в Париже был секретно парафирован советско-французский пакт о ненападении. Эта "блестящая победа нашей дипломатии", предсказывал Антонов-Овсеенко, "несомненно, отразится благоприятно на всем фронте наших международных отношений. Отразится и в Польше, которая всерьез оживит вопрос о пакте. За первым нечленораздельным демаршем Патека должно ожидать более серьезных шагов". Полпред в Варшаве ссылался при этом на то, что "местная печать начинает намекать на подготовку поль[ским] пра[вительством] переговоров о пакте. "ABC" ставит в связь с нею внезапное возвращение маршала в Варшаву"122. Руководящие польские круги, несомненно, информированы о завершении франко-советских переговоров (в середине августа начальник Восточного отдела Шетцель вернулся из Парижа), отмечал Антонов-Овсеенко. Отношение в Польше к договоренности между Францией и СССР – «спокойное, выдержанное, "сочувственное" – без особых забеганий». Комментируя выступления польской прессы ("Polonia", "Rzeczypospolita", "Kurier Poranny", "Kurier Warszawski", "Kurier Codzienny", "Gazeta Polskia"), посланник приходил к выводу о начале широкой кампании с целью подготовить общественное мнение к польско-советским переговорам о гарантийном пакте, "основное ударение при этом ставится на необходимость добиться четкого признания нами [СССР] западных границ Польши"123. Наконец, 22 августа во всех польских газетах было опубликовано сообщение парижского выпуска "Chicago Tribune" (оно было разослано ПАТ без каких-либо комментариев) о начале переговоров между Москвой и Варшавой с целью заключения договора о нейтралитете. 23 августа, за несколько часов до исторического визита Патека в НКИД, советские газеты вышли с новым и предельно категорическим опровержением: "ТАСС уполномочен заявить, что в парижских переговорах ни в какой мере не затрагивались отношения договаривающихся сторон с третьими государствами, в том числе и с Польшей; никаких переговоров между Москвой и Варшавой о пакте ненападения не ведется"124. Нетрудно поэтому представить себе негодование Литвинова, его коллег и подчиненных после ознакомления с демаршем Патека и врученным им проектом договора – с помощью всевозможных адвокатских ухищрений и спекуляций в печати поляки пытаются помешать вступлению Советского Союза в концерт великих держав. Москве, конечно, льстило символическое значение польской акции, Запись беседы Л.М. Карахана с С. Патеком, 4.8.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.443-444. Справка заведующего Отделом печати НКИД К.А. Уманского "Об официозных разъяснениях по вопросам франко-советских и советско-польских отношений", [28.8.1931]. – АВП РФ. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.138. Л.33. 120 Справка 1-го Западного отдела НКИД СССР о переговорах с Польшей о гарантийном пакте (1927-1931), [не позднее 16.8.1931] (с 12-ю документальными приложениями). – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.157-141. Справка поступила в Секретариат Карахана 24 августа (Там же. Ф.09. Оп.4.П.130.Д.137.Л.730). 121 W.Strang to A.Henderson, desp., Moscow, 10.8.1931. – PRO. FO/371/15585/N5682. 122 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Л.М. Карахану, 14.8.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.227. 123 Письмо В.А Антонова-Овсеенко Л.М. Карахану, 24.8.1931. – Там же. Л.236. 124 Известия. 23.8.1931 118 119 знаменовавшей: "рост нашей политической и экономической мощи усиливает заинтересованность капиталистических стран, в том числе и Польши, в улучшении отношений с СССР и заставляет их считаться с нами как с важнейшим международным фактором"125. Советской прессе предлагалось "констатировать изменения соотношения сил между СССР и капиталистическим окружением": "…Рост международно-политической мощи СССР подавно означает, что СССР не примет уже однажды отвергнутые им неприемлемые польские условия заключения договора о ненападении"126. Анализ советских публичных заявлений показывал, что "русские рассматривают последний польский поступок (excursion) как признание своей слабости и повторяют (несомненно, для того чтобы подчеркнуть то, что они считают растущей изоляцией Польши), что на протяжении всего хода переговоров французы не сделали ни единой ссылки на позицию Польши"127. Поэтому тревога по поводу новой "польской интриги" смешивалась в Москве с презрением и надеждой, что в ближайшее время подписание с Францией договора о ненападении поставит точку во франко-советских переговорах, а ее восточноевропейские союзники – "провинциальные" правительства лимитрофов окажутся перед лицом новой реальности. Срочно созванная 23 августа Коллегия НКИД обсудила "документ Патека" – врученный им "Tekst ukladu o nieagresji"128. Литвинов, Крестинский и Карахан решили "не предпринимать с нашей стороны новых шагов в связи с документом", а "при случае заявить полякам, что демарш Патека не внес ничего нового в ход переговоров, являясь скорее шагом назад". Руководители НКИД подразумевали, что в нарушение переговорного обычая (согласно которому проявляющая инициативу сторона демонстрирует склонность к уступкам), благодаря новому условию – о необходимости заключения СССР договора о ненападении с Румынией – польская позиция оказалась даже более жесткой, чем в 1927 г. "Это требование, – комментировал Карахан решение Коллегии, – является образцом наглости, мимо которой просто пройти нельзя", тем более что и другие "польские формулировки статей проекта пакта еще более неприемлемы, чем их формулировки 1927 г."129 Впрочем, Коллегия НКИД встала на точку зрения, что никакого нового польского предложения она не получала: "Документ, врученный Патеком 23-го августа, представляет собой простое письменное изложение тех возражений, которые делались поляками в прошлом против нашего проекта пакта", и сам посланник признал, что "его демарш представляет простое подведение итогов". Соответственно следовало держаться и прессе130. Пожалуй, единственным советским дипломатом, способным правильно оценить возникшую ситуацию, оказался полпред в Варшаве Антонов-Овсеенко. После громкого скандала, который вызвали в Москве его варшавские беседы в конце предшествующего года, и последующей сдержанности польской дипломатии в отношении пакта с Советами Антонов-Овсеенко остерегался вновь прослыть "оптимистом". Тем не менее, как показывают его августовские донесения, полпред склонялся к мысли о Письмо Л.М. Карахана и Н.Я. Райвида В.А. Антонову-Овсеенко, 26.8.1931 (копии в Ковно, Ригу, Таллинн, Гельсингфорс). – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.192. 126 ("Проект тезисов для печати. К вопросу о польско-советских переговорах", 29.8.1931 (пп. 6,7) (документ подписан заведующим 1-м Западным отделом Н.Я. Райвидом и заведующим Отделом печати К.А. Уманским). – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.473-474. 127 W. Strang to Marquess of Reading desp., Moscow, 31.8.1931. – PRO. FO/371/15585/N6078. 128 Оригинал документа см.: Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.184-181. При переводе (воспроизведенном в официальной советской публикации) было сделано два отступления от оригинала. Взаимное обязательство сторон воздерживаться "od wszelkich czynności agresywnych względnie inwazji" было передано как воздержание "от всяких агрессивных действий или нападения" (ст. 1). Было исправлено о непочтительное наименование Советского Союза ("Sowiety") в ст. 6. 129 Письмо Л.М. Карахана и Н.Я. Райвида В.А. Антонову-Овсеенко, 26.8.1931. Л.193. 130 Выписка из протокола № 47 заседания Коллегии НКИД 23.8.1931 (п. 1). – Там же. Л.188. Четвертый член Коллегии, курировавший 1-й Западный отдел Борис Стомоняков вернулся в Москву из отпуска лишь 1 сентября, однако и тогда не приступил к своим основным обязанностям в НКИД. Как бывшему торгпреду в Германии и члену Коллегии Наркомата внешней торговли Стомонякову было поручено представлять СССР на заседании советско-германской Согласительной комиссии, где предстояло разбирать взаимные претензии хозяйственных организаций. 14 сентября он выехал в Берлин и вернулся к обычным функциям лишь тремя неделями позже (cм.: Pismo Poselstwa RP w Moskwie "Posiedzenie Sowiecko-Niemeckej Komisji Koncylacyjnej w Berlinie", 5.9.1931 (kopia). – AAN. Ambasada RP w Moskwie. T.22. S.157; Notatka A. Ponińskiego "Wyjazd Stomoniakowa do Berlina", 15.9.1931. – Tam że. S.158). 125 серьезности желания Польши заключить договор о ненападении с СССР. Располагая лишь скудными сообщениями о демарше Патека 23 августа, уже на следующий день он дал точный прогноз. Проблема для Москвы состоит в том, писал он в Коллегию НКИД, что отраженная в документе Патека позиция Польши, "вполне вероятно", "одобрена и в Париже". "А тогда следовало бы ожидать, что Франция поставит подписание (ратификацию) пакта в зависимость от заключения нами такового с Польшей. Т. е. мы лишь вступаем в серию чрезвычайно затруднительных переговоров"131. В Москве, однако, усиливались настроения в пользу заострения курса, подтвержденного руководством НКИД 23 августа. Телеграмма ТАСС об официальном коммюнике ПАТ (опубликованном 25 августа) о демарше Патека была задержана на сутки и появилась вместе с официозным комментарием. Вероятно по инициативе Литвинова, "Сообщение ТАСС" не только устанавливало факт отсутствия переговоров, но и характеризовало врученный Патеком документ как "шаг назад"132. Тем самым проводилась мысль, что "никаких переговоров на основе патековского документа не может быть"133. В общем, руководители НКИД все больше убеждались, что "полякам нужен был этот шаг Патека для каких-то внешнеполитических маневров Польши – облегчение получения займа, шантаж Германии и Литвы, попытка примазаться к советско-французским переговорам, маневры по адресу Румынии или что-либо подобное". Варшавскому полпредству надлежало выяснить, что именно, но в НКИД и без того знали главный ответ: "Весь тон польской прессы, более чем сдержанный по отношению к СССР и враждебный по отношению к Германии, не оставляет сомнений в том, какие цели преследует указанный выше шаг Патека"134. Демарш Патека вписывался в общую картину многомесячных попыток "создать заграницей впечатление, как будто Польша ведет с нами параллельные переговоры о пакте". Согласно Крестинскому, "целью такого поведения Франции и Польши являлось запугать Германию возможностью политической изоляции в связи с изменением нами нашей ориентации и толкнуть Германию на политические уступки Франции"135. Усердие, с которым руководители советской дипломатии обличали мотивы польского демарша, позволяет понять хрупкость всей европейской политики НКИД, в 1931 г. отчаянно балансировавшей между ревизионистским государствами, прежде всего Германией, и главным гарантом Версальского порядка на континенте – Францией. Согласившись на сохранение в секрете франко-советских переговоров о ненападении, Москва втайне от Парижа информировала о них правительства Германии, Италии, Турции и Литвы. Бриан и его коллеги не сомневались и в том, что утечка сведений о парафировании франко-советского пакта организована Советами136. Открытое заигрывание Москвы с концепцией "пакта пяти" и лавина опровержений в связи с демаршем Патека переполнили чашу терпения французов. 26 августа временный поверенный в делах Франции в Москве Паяйр получил указание заявить Литвинову, что "неуместное (niewlaściwe) распространение и комментирование Письмо В.А.Антонова-Овсеенко Л.М.Карахану, 24.8.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.235 (курсив мой). В отличие от своих шефов Антонов-Овсеенко усматривал в жесткости польского проекта не провокацию, а дополнительное свидетельство готовности Варшавы вести серьезные переговоры: предложение "максималистское, в расчете на возможную поддержку Франции, за каковую Залеский ныне борется в Париже" (Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Л.М. Карахану, 30.8.1931. – Там же. Л.202). 132 В НКИД рассматривались два варианта опровержения – в форме интервью Литвинова или сообщения официозного агентства. "Проект сообщения ТАСС", подготовленный 1-м Западным отделом, такого утверждения не содержит, оно появилось в завизированном Литвиновым вечером 26 августа тексте (за исключением мелких стилистических особенностей он совпадает с опубликованным на следующее утро в "Известиях") (см.: Там же. Л.194-196). 133 Письмо Л.М. Карахана и Н.Я.Райвида В.А. Антонову-Овсеенко, 26.8.1931. Л.193. 134 Письмо Л.М. Карахана и Н.Я. Райвида В.А. Антонову-Овсеенко, 26.8.1931. Л.193-192. 135 Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу (в Политбюро ЦК ВКП(б)), 29.8.1931. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.661. 136 Об одном из вероятных каналов такой утечки (c использованием корреспондента United Press Ф. Ку (Kuh)) см.: O. Ken. Collective security or isolation? Soviet foreign policy and Poland, 1930-1935. St. Petersburg, 1996. P.35, 45 (note 50). В июле 1931 г. Ф. Ку встречался с полпредом СССР в Германии Хинчуком (см.: Запись беседы Л.М .Хинчука с Ф. Ку, Берлин, 6.7.1931. – АВП РФ. Ф.082. Оп.14. П.63. Д.5. Л.146-147). 131 парафированного в Париже франко-советского пакта ставит под угрозу (naraża poważnie na szwank) все франко-советские переговоры"137. Далеко не случайно поэтому, что 26 августа к перепалке телеграфных агентств подключилось французское «Havas». Изложив свою версию переговоров между Францией и СССР со ссылкой на официальные источники, оно не только подтвердило заявления Варшавы о непрекращавшемся советскопольском обмене мнений относительно пакта ненападения, но и оповестило, что "переговоры между Польшей и СССР относительно заключения пакта, в настоящий момент приостановшиеся, будут в скором времени возобновлены в Москве". Руководители восточноевропейского отдела 4-го Департамента Auswärtiges Amt немедленно пригласили для объяснений первого советника полпредства СССР С. Бродовского. М. Шлезингер напомнил ему, что Брокдорфу-Ранцау (основоположнику Рапалло и послу Германии в СССР) "всегда говорили в Москве, что мы [CCCР] наше предложение полякам сделали, будучи уверены, что они будут реагировать отрицательно". Бродовский согласился: "действительно, наши предположения были верны, потому что до сих пор поляки отвечают отрицательно"138. Вместо того чтобы пожинать плоды дружбы с Берлином и Парижем, советской дипломатии пришлось уворачиваться от критики, которая зазвучала одновременно из обеих столиц. Литвинов, выехавший вечером 26 августа в Женеву, перед отъездом дал разъяснения германскому послу фон Дирксену относительно ситуации, созданной "очень странным" поведением Патека139. Нарком проследовал через Варшаву и сделал остановку в Берлине, где заверил министра иностранных дел Ю. Курциуса в неизменности советской позиции, а представителей немецкой печати – в ложности "слухов о несуществующих переговорах". Москва между тем укоряла «Наvas» и предлагала внимательнее ознакомиться с «фактической стороной» советско-польских и франко-советских переговоров, которая уже была "исчерпывающе изложена" и "установлена" ТАСС140. Анализируя поступавшие в Москву материалы из европейских столиц, Крестинский был вполне удовлетворен результатами действий НКИД. "Тем, что мы опровергли измышления польской и французской печати, мы успокоили германские правительственные и политические круги, обеспечили себе полную поддержку Германии в Женеве и обеспечили благоприятную атмосферу для предстоящих в Германии импортных и экспортных переговоров и для Согласительной Комиссии, на которую мы идем с худшим багажом, чем немецкая сторона. <…> Теперь же отношения между нами и Германией лучше, чем когда бы то ни было, – резюмировал он. – Но не повредило ли наше выступление с опровержениями налаживанию наших отношений с Францией? Ни в каком случае"141. Отдавали ли руководители НКИД себе отчет в бесперспективности попыток вычеркнуть Польшу из числа международных партнеров СССР? Так или иначе, очень скоро эта линия вызвала беспокойство у советских вождей. 137 Notatka A. Ponińskiego "Zwrót w rokowaniach franko-sowieckich", Moskwa, 27.8.1931. – AAN. Ambasada RP w Moskwie. T.12. S.29. Эту тему Пайяр поднял в беседе с Литвиновым 24 августа; из-за отъезда наркома в Берлин французский дипломат не успел официально выразить ему недовольство своего правительства и предполагал, что это будет сделано его коллегами в Париже и Женеве (Tam że). 138 Запись беседы С.И. Бродовского с Р. Майером 26.8.1931 (Берлин, 27.8.1931). – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.74. "В разговоре главным образом принимал участие не Майер, а Шлезингер, что подтвердило лишний раз тот факт, что бездарный М[айер] целиком находится в руках Шлезингера, который сейчас, после отъезда Траутмана и Мольтке, фактически управляет восточноевропейской частью 4-го департамента" (Там же). Следует отметить, что Шлезингер был более яростным противником франко-польско-советских переговоров, чем другие сотрудники "русского отдела" МИД (F.M. Sackett to Secretary of State, Berlin, 2.9.1931. – NA. SD/751.6111/7). Лаконичное изложение Майером беседы с Бродовским см.: PRO. GMF/33/4539/L192984-192986. 139 H. Rumbold to Marquess of Reading, desp., Berlin, 28.8.1931. – PRO. FO/371/15585/N5957 (сообщение Ю. Курциуса). 140 Заявление М.М. Литвинова представителям иностранной печати в Берлине, 28.8.1931 //ДВП СССР. Т.14. С.499501; Известия. 28.8.1931. 141 Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу (в Политбюро ЦК ВКП(б)), 2.9.1931. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.659. 2. Сталин, Политбюро и Наркоминдел (сентябрь 1931 г.) В конце августа коридоры Кремля и Старой площади были полупусты. 25 августа НКИД направил запись беседы Карахана с польским посланником руководителям Политбюро – Сталину, Молотову, Кагановичу142. Однако в Москве находился лишь последний из адресатов – 38-летний Секретарь ЦК Лазарь Каганович, который впервые оставался "на хозяйстве" вместо Генерального секретаря, чья решающая роль в руководстве страной стала к тому времени неоспоримой. С начала августа Сталин отдыхал на юге, и в Секретариате ЦК сочли ненужным утомлять его материалами о таком незначительном событии, как визит Патека в Наркоминдел143. Председатель Совнаркома Вячеслав Молотов также пребывал в отпуске, который был ему продлен до 15 сентября144. Другой высокопоставленный участник дискуссий по международным делам – нарком по военным и морским делам Ворошилов – находился в инспекционной поездке по Волге, Уралу и Дальнему Востоку. После отъезда Сталина и Молотова разгорелся конфликт между влиятельнейшими хозяйственными деятелями – заместителем главы правительства и председателем Госплана Куйбышевым и наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе145. Куйбышев подал в отставку и заявил об уходе в отпуск "ввиду болезни" (он был предоставлен ему с 5 сентября, но сомнительно, чтобы в предшествующие дни Куйбышев проявлял активность в вопросах, прямо его не затрагивающих)146. Председательство на Политбюро и наблюдение за государственными делами были возложены на Кагановича, погруженного в многообразные заботы ("помнить об алюминии", "налечь на птицу", "быть объективным в отношении Р. и С." и проч.)147. С конца августа и до конца сентября из членов Политбюро на посту оставались лишь Калинин, Орджоникидзе, Рудзутак, авторитет которых в области международно-политических проблем был столь же невелик, что и у Кагановича148. Руководители НКИД, должно быть, полагали, что в такой обстановке они вправе действовать самостоятельно и формулировать позицию СССР в отношении переговоров с Польшей без оглядки на поредевшее Политбюро ЦК ВКП(б). В партийном руководстве, однако, не осталась незамеченной газетная кампания, которую развернул НКИД, и от него затребовали объяснений. В адресованной Политбюро записке от 29 августа исполнявший обязанности наркома Н.Н.Крестинский попытался оправдать активность своего ведомства по опровержению сообщений зарубежных агентств об отношениях СССР с Францией и Польшей. Крестинский уклонился от рассмотрения польского предложения, расценив его как "новый способ воздействия на Германию", который был "обезврежен" сообщением ТАСС от 27 августа, тогда как повторное заявление ТАСС 28 августа "нейтрализовало" "последнюю попытку Польши" – информацию агентства «Havas». "Я не согласовывал составленное в НКИД сообщение ТАСС'а с ПБ, потому что в одной своей части (о переговорах с Польшей) наше сообщение повторяло сообщения от 6/I, 27/VII, 6/VIII, 23/VIII и 27/VIII, а во второй своей части (о франко-советских переговорах) повторяло наши опровержения от 6/I и 27/VII, т. е. все это сообщение не содержало в себе ничего нового, не получившего в свое время санкции ПБ". Поскольку в своем ответном заявлении «Havas» ограничился констатацией действительного обстоятельства ("трижды за последние годы советское правительство предлагало Франции заключить договор о ненападении"), "наше выступление от 28/VIII достигло своей цели". Копия записи была направлена также Председателю ОГПУ СССР Менжинскому, вероятно, потому, что Патек сказал несколько слов и о "пограничных делах" ([Делопроизводственные пометы]. – АВП РФ. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.137. Л.13). 143 Каганович получил документ Карахана (для пересылки Сталину и для себя) лишь 3 сентября, после соответствующего запроса (Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 3.9.1931. С.79.). 144 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 59 от 30.8.1931. – РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.845. Л.6. (Там же. Л.9). 145 Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, [17.8.1931] // Там же.С.51. 146 Записка В.В. Куйбышева Л.М. Кагановичу, 10.8.1931 // Там же. С.710; Протокол № 59 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.8.1931. – РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.845. Л.9. 147 Cм.: Записка И.В. Сталина Л.М. Кагановичу ("на память"), [ранее 6.8.1931] // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Сталин и Каганович: Переписка. 1931-1936. М., 2001. С.37. Двумя годами позже, находясь на отдыхе, Сталин выговаривал Молотову за неожиданное решение уйти в длительный отпуск: "Разве трудно понять, что нельзя надолго оставлять ПБ и СНК на Куйбышева (он может запить) и Кагановича" (Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову, 1.9.1933 // Л.П. Кошелева и др. (сост.). Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. М., 1995.). 148 В рассматриваемый период в заседаниях Политбюро участвовали также Куйбышев (25 августа) и С. Косиор (5 сентября), и неизменно кандидат в члены Политбюро Микоян. 142 Интервью Литвинова его заместитель оценивал как "исчерпывающее и очень убедительное", так что, говорилось в заключительной части записки в Политбюро, "мы можем не возвращаться больше официально и официозно к вопросам польско-советских и советско-французских переговоров"149. Днем позже Крестинскому пришлось отстаивать эту позицию на встрече членов Политбюро, которые не удовлетворились его обещанием воздержаться от продолжения газетной полемики. Политбюро признало "неправильным выступление НКИД с опровержением по вопросу о переговорах с Польшей без предварительной постановки вопроса в Политбюро" и пожелало подробнее ознакомиться с "дальнейшим ходом этого дела"150. "...Мы по существу не дали оценку [поведению НКИД], хотя думаем, что они поторопились, – докладывал Каганович Сталину, – надо было выждать, прощупать, может быть, здесь есть стремление создать для французов повод сорвать договор с нами"151. Дальше этой догадки воображение Кагановича и его коллег не простиралось, но принятое ими постановление подвергало сомнению исходную посылку Наркоминдела – акция польского правительства не вносит ничего существенного в отношения СССР с Францией и Польшей. Неожиданно к дискуссии подключился Сталин. "Почему Вы ничего не сообщаете о польском проекте пакта (о ненападении), переданном Патеком Литвинову?" – вопрошал своего заместителя Сталин, узнавший о демарше посланника из газет. Это не помешало ему ясно сформулировать свою позицию: "Дело это очень важное, почти решающее (на ближайшие 2-3 года). Вопрос о мире, и я боюсь, что Литвинов, поддавшись давлению так называемого "общественного мнения", сведет его к пустышке. Обратите на это дело серьезное внимание. Пусть ПБ возьмет его под специальное наблюдение и постарается довести его до конца всеми допустимыми мерами. Было бы смешно, если бы мы поддались в этом деле общемещанскому поветрию "антиполонизма", забыв на минуту о коренных интересах революции и социалистического строительства"152. Записка Сталина создает впечатление, что он не раз обдумывал вопрос о заключении пакта с Польшей. Действительно, в ноябре 1930 г. Генеральный секретарь отчетливо высказался в пользу переговоров с поляками о договоре ненападения вопреки позиции руководителей НКИД153. В отличие от деятелей Наркоминдела и своих коллег по Политбюро (насколько об их позиции можно судить по оправданиям, которые направлял им Крестинский), Сталин был убежден в ценности политического урегулирования с Польшей per se, вне прямой зависимости от того, как оно повлияет на отношения СССР с великими державами. По существу, он приходил к заключению, которое несколькими месяцами ранее сделала британская миссия в Москве: "С политической точки зрения отношения с Польшей, вероятно, являются наиболее деликатными и наиболее важными из всех международных сношений СССР"154. С другой стороны, Сталин несомненно учитывал общие сдвиги в европейской политике. Весной 1931 г. полпред в Чехословакии Александр Аросев подготовил статью о возможных сценариях развития европейской ситуации после заключения австро-германского таможенного союза. Используя личные связи с Молотовым и Ворошиловым и стремясь продемонстрировать свою пригодность к должности полпреда во Франции (Аросев был о себе высокого мнения), он направил рукопись Сталину. В результате статью "одобрил Иосиф Виссарионович"155. Его санкция действительно была необходима: в аросевской статье содержался необычный для советской аналитики вывод о том, что СССР следует опасаться усиления позиций Германии в Европе. "Вместе с этим усилением совершенно неизбежна политическая переориентировка Германии. Тут мы должны будем учесть возможность такого Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу, 29.8.1931. – АВП РФ. Ф.010. Оп.14. П.21. Д.63. Л.661-665. Протокол № 59 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.8.1931. – РГАСПИ. Оп.162. Д.10. Л.177. 151 Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 31.8.[1931] // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ. соч. С.73. 152 Письмо И.В.Сталина Л.М.Кагановичу, Сочи, 30.8.[1931] // Там же. С.71. Любопытно, что Сталин решил высказаться лишь после того, как кампания «опровержений» в советской прессе достигла апогея. 153 См. часть 1. 154 Soviet Union. Annual Report, 1930 (Encl. to E.Ovey to A.Henderson, Moscow, 10.3.1931. – PRO. FO/371/15619/N1831 (para. 154). 155 Личное письмо А.Я. Аросева К.В. Ворошилову, Прага, 2.7.1931. – РГАСПИ. Ф.74. Оп.2. Д.96. Л.10. Сталин распорядился ознакомить с «заметками т. Аросева» всех партийных иерархов (36 человек!) (Сопроводительное письмо заведующего Секретным отделом ЦК ВКП(б) членам и кандидатам в члены Политбюро, членам Президиума ЦКК, секретарям ЦК ВКП(б), 19.5.1931. – Там же. Ф.558. Оп.11. Д.695. Л.55). 149 150 положения, когда Германия будет не в орбите французской политики, но самостоятельно займет антисоветскую линию"156. Одобрение Сталиным этой статьи показывает, что он, по меньшей мере, сомневался в необходимости следовать принципу, согласно которому Германия являлась главным препятствием к созданию антисоветского капиталистического блока и потому Советский Союз должен поддерживать ее в противостоянии версальским государствам. При этом он вполне осознавал, что, по соображениям баланса сил, СССР не следует усугублять внешнеполитические трудности Германии из-за финансового кризиса 1931 г. или демонстрировать свое недружелюбие. В начале августа, перед отъездом в Сочи, Сталин поставил на Политбюро вопрос об "освещении в печати экономического положения в Германии". Редакциям "Известий" и "Правды" было предписано "давать сообщения об экономическом положении в Германии в более умеренном тоне"157. В послании Кагановичу Сталин воздержался от дискуссии по международным проблемам и предпочел высказаться в том плане, в котором его авторитет руководителя правящей партии был неоспорим: он ссылался на "коренные интересы революции и социалистического строительства" и беспокоился относительно проникновения в партию мелкобуржуазных ("общемещанских") взглядов. Наученный борьбой с партийной оппозицией, Сталин в совершенстве владел навыками приписывания своим оппонентам нелепых аргументов и обывательских мотивов, разгромить которые затем не составляло никакого труда158. Неделей позже, изучив доставленные ему проект Патека и запись его беседы с Караханом 23 августа, Сталин детализировал свои суждения. Критику действий НКИД он сосредоточил на заместителе наркома, которого давно недолюбливал и который "вел себя во время "беседы" глупо и неприлично". При этом Сталин дал проницательный анализ слабостей советской дипломатической тактики: "Карахан не понял того, что после истории с французами (опровержение ТАСС, данное 1 1/2 месяца назад), ни одно государство не решится взять на себя инициативу насчет пакта о ненападении без того, чтобы не получить "неприятности" от "оппозиции". Карахан не понял того, что нам в конце концов безразлично по чьей инициативе происходят переговоры, лишь бы был подписан нужный нам пакт. И вот, вместо того, чтобы уцепиться за повод, данный Патеком и его проектом, Карахан – по глупости – оттолкнул Патека и испортил дело. Что касается проекта Патека, то он ничуть не хуже первоначального проекта французов, послужившего, как известно, одной из баз переговоров между нами и французами". "Для меня ясно, – заключал Сталин, – что Карахан и Литвинов допустили грубую ошибку..." Однако он воздержался от Ибрагим. Австро-германское соглашение // Новый мир. 1931. № 6. C.203-204 (курсив мой). Ср. с оценками полпреда в Германии, которые разделяло руководство НКИД: «Следует констатировать, что германо-австрийское таможенное соглашение является ничем иным как фактически первым этапом в реализации «Аншлуса»… С точки зрения наших интересов нам приходится руководствоваться двумя моментами. Внешнеполитически для нас несомненно выгоден переход Германии на более самостоятельные рельсы и возникновение новых усложняющихся моментов в области германо-французских отношений <…> С другой стороны, однако …дальнейшее развитие германской политики в области региональных соглашений может идти в опасном для нас направлении под углом зрения наших экономических интересов. Однако необходимо учитывать, что процесс это длительный и вступает лишь в начальную стадию» (Письмо Л.М. Хинчука Н.Н. Крестинскому (копии М.М. Литвинову, Б.Е. Штейну), Берлин, 26.3.1931. – АВП РФ. Ф.082. Оп.14. П.63. Д.5. Л.69,66). 157 Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 54 от 5.8.1931. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.10. Л.132.). Напротив, польский министр иностранных дел при общении с Антоновым-Овсеенко "не скрывал злорадства по поводу "катастрофы", постигшей Германию; прямо заявил, что внешняя политика последней была лишена солидной экономической базы; твердо заверил, что Германия так или иначе будет вынуждена финансовыми затруднениями склониться перед Парижем" (Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Л.М. Карахану, 8.8.1931 (№ 345). – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.212). 158 В том же письме Кагановичу Сталин дал образец демагогии, по своей гротескности не уступающий филиппике против анонимного "антиполонизма", – обличение "ослов из мещан и обывателей", предлагающих принять закон о "досрочном восстановлении в правах бывших кулаков", а также учреждений, "пытающихся растранжирить валютные ресурсы рабочего класса" (Письмо И.В.Сталина Л.М.Кагановичу, Сочи, 30.8.[1931]. С.72.). Сказанное, разумеется, не означает, что сталинское замечание относительно антипольских настроений в советских верхах не имело под собой почвы. Выразительные факты на этот счет были представлены в ноте польского правительства от 30 марта 1931 г. (см.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.). Проблемы. Документы. Опыт комментария. Часть I. 1928-1934. CПб., 2000. С.219-220). 156 призыва начать переговоры с Польшей, отметив, что для "ликвидации" этой ошибки "необходимо более или менее продолжительное время"159. Эти послания Сталина оказали бесспорное влияние на последующий ход событий. Однако члены Политбюро не спешили принимать его аргументацию. Молотов, который с конца августа находился в Сочи и тесно общался со Сталиным, воздерживался от письменного изложения своего мнения и поставил свою подпись лишь под поручением Кагановичу "разведать действительные намерения поль[ского] пра[вительства]"160. Искренним союзником Сталина мог оказаться нарком Ворошилов, с явным облегчением воспринявший августовский демарш Патека. "...Не исключено, а наоборот, почти предопределена возможность, что капиталисты и не рискнут на нас напасть, – говорил он на митинге в Новосибирске 30 августа. – Вот теперь, например, поляки выступили с предложением пакта о ненападении, при чем всячески это дело облекали в форму как будто бы они инициативу взяли, забыв, что в 1926 г. мы предлагали им подписать пакт о ненападении161". Таким образом, как и Генеральный секретарь, Ворошилов усматривал в польском предложении положительное содержание и, вопреки газетным сообщениям (являвшимися для него основным, если не единственным источником информации о демарше Патека), считал полезным перехватить инициативу и возобновить советское предложение Варшаве о заключении пакта ненападения. Мнение Ворошилова, впрочем, в те недели вряд ли запрашивали; расписание наркома обороны во второй половине 1931 г. почти полностью исключало его участие в дискуссиях о переговорах с Польшей162. Что же касается верного Кагановича, то он с немалым искусством отверг инвективы Сталина против антипольских веяний в Москве, интерпретировав его замечания насчет "антиполонизма" и "мелкобуржуазности" как относящееся к зарубежному "общественному мнению"163. Тем самым спор с НКИД переносился из принципиальной области (нужен ли СССР пакт с Польшей и как добиться его заключения) в иную плоскость – с помощью каких уловок можно сохранить выгоды, полученные благодаря умелому сближению с Францией весной-летом 1931 г.? К размышлениям на этот счет Наркоминдел вынуждали не только указания Сталина и запросы Кагановича. 29 августа близкая к МИД Франции "Le Temps" в передовой статье оспорила берлинское заявление Литвинова, указав, что поскольку советское правительство не отказалось принять проект Патека, советско-польские "переговоры реально существуют". При этом "Le Temps" обнародовала давно вынашивавшуюся Брианом концепцию: "Все заявления Литвинова не изменят того факта, что пакт о ненападении между Францией и СССР (а параллельно, разумеется, и экономическое соглашение...) будет заключен только в том случае, если Польша и Румыния будут также гарантированы от угрозы нападения со стороны СССР в форме ли непосредственного соглашения или же соглашения трех держав. Без этого условия между Москвой и Парижем не будет заключен никакой пакт"164. В особняке НКИД на Письмо И.В. Сталина Л.М Кагановичу, [Сочи], 7.9.[1931] // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ. соч. С.88-89. Письмо И.В. Сталина и В.М. Молотова Л.М. Кагановичу, 5.9.1931 (автограф Сталина) //Там же. С.82. "...Если есть сколько-нибудь серьезная зацепка, ухватитесь за нее", – говорилось далее в письме. Это мутное выражение, стилистически контрастирующее с отчетливыми заявлениями самого Сталина, возможно, понадобилось ему для того, чтобы побудить Молотова согласиться с этим поручением, которое в контексте писем Сталина от 30 августа и 7 сентября становилось дополнительным указанием в пользу вступления в переговоры с Польшей. 161 Речь К.Е. Ворошилова на митинге Ново-Сибирского железнодорожного узла 30.8.1931 (неправленая стенограмма) // РГА СПИ. Ф.74. Оп.1. Д.138. Л.195. 162 Через несколько дней после возвращения 19 сентября из почти двухмесячной командировки на восток Ворошилов выехал в Ленинград и оставался там до начала октября (Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 66 от 30.9.31. – Там же. Ф.17. Оп.3. Д.851.Л.7). Месяц спустя Политбюро постановило "разрешить т. Ворошилову отпуск с 14.X1. на 1 1/2 месяца" (Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 74 от 10.11.31. – Там же. Оп.162. Д.11.Л.47). О беседах Ворошилова с В. Адамом (12 ноября) и Г. фон Дирксеном (12 декабря), в ходе которых нарком объяснял потребность СССР в заключении пакта с Польшей см. ниже. 163 "Никто из серьезных людей" не поверит, что Польша является миротворцем, "но мелкобуржуазных дураков еще много". "Наши же дипломаты исходили только из необходимости успокоить немцев и, как вы предвидели в письме, поддались вою т[ак] наз[ываемого] общественного мнения и выскочили торопливо, не прощупав ничего", – с обманчивой льстивостью писал Каганович (Письмо Л.М.Кагановича И.В.Сталину, 3.9.[1931] // Там же. С.78.). Понятно, он говорил уже не о советском "общественном мнении", тем более что газетный "вой" в конце августа исходил как раз из кабинетов НКИД. 164 Цитируется по бюллетеню ТАСС. Характерно, что в бюллетене Бюро печати полпредства СССР во Франции от 2 сентября 1931 г. эта статья была изложена в смягченной форме и снабжена уничижительным комментарием: 159 160 Кузнецком мосту началось отрезвление, которое усилили донесения из Варшавы об аналогичных высказываниях посла Ж. Ляроша. "Никто из нас не знает и не может утверждать, что Франция имеет действительное желание подписать с нами пакт и что она сделает это без одновременного заключения соглашения между нами и Польшей", – вынужден был признать Крестинский в записке Политбюро, которую Каганович затребовал в НКИД после получения сталинского письма от 30 августа165. Исполняющий обязанности наркома располагал лишь "сводками откликов французской, польской и немецкой печати" на полемику вокруг перспектив польско-советского пакта. "Никаких серьезных материалов у них нет", – констатировал Каганович после встречи членов Политбюро 3 сентября, на которой они "слушали сообщение НКИД". Сопоставление письма Кагановича в Сочи, написанного по следам состоявшегося обсуждения, и материалов НКИД позволяет полагать, что наряду с письменными материалами Крестинского Политбюро ознакомилось и с позицией заместителя наркома Карахана. Положение Карахана было непростым. С одной стороны, он несомненно симпатизировал идее общего улучшения отношений СССР с Польшей. Первый посланник Советской России в Польше (1921 г.), он впоследствии "na gruncie moskiewskim odnosił się do spraw polskich w sposób rzeczowy i poprawny"166. Весной-летом 1929 г., когда по указанию Политбюро были предприняты действия по искусственному провоцированию напряженности в отношениях с Польшей, Карахан пытался смягчить советскую линию, не стесняясь официально формулировать свое "особое мнение"167. По иронии судьбы, в августе 1931 г. именно Карахану как временному куратору 1-го Западного отдела пришлось в общении с польским посланником проводить недружественные Польше установки НКИД. С другой стороны, "верный чичеринец" Карахан был личным противником наркома Литвинова, и его критика линии Наркоминдела могла выглядеть попыткой свести старые счеты. Складывавшиеся в Кремле настроения тем не менее позволяли Карахану предлагать собственное решение. Если Литвинов и Крестинский в лучшем случае допускали согласованность польского демарша с Францией, то Карахану она представлялась несомненной и служила исходной посылкой при обрисовывании целей польской дипломатии и выработке соответствующих рекомендаций. Он полагал, что главными целями предложения от 23 августа являлась подготовка почвы для отказа Франции от договора с Советским Союзом, демонстрация "польского пацифизма", устранение впечатления об изолированности Польши в результате франко-советских переговоров. "Нажим на немцев" занимал в этом перечне последнее место. Такая реконструкция мотивов Польши и Франции означала, что ответная советская реакция была по меньшей мере однобокой: "Нашими коммюнике и интервью Литвинова мы сломали то острие польскофранцузского маневра, которое было направлено против немцев. В этом пункте мы их игру сорвали целиком... Но дав отпор полякам в этом пункте, мы пока ничего или почти ничего не сделали в отношении других сторон польского демарша. Прежде всего необходимо сбить поляков с пацифистской позиции, устранить создаваемое ими впечатление, что они хотят пакта, сделали нам предложение, а мы пакта не хотим и не отвечаем на их предложение". "Коммюнике и пр. недостаточны, нужен ответный официальный шаг на польский демарш, – предлагал Карахан. – Наш ответ должен быть дан в письменном виде и основной тон и содержание его должны проявить наше желание и готовность подписать пакт, мы должны утверждать, что не видим трудности в самом содержании пакта, что опыт заключения и ведущихся переговоров говорит, что если есть добрая воля, не представляет трудности договориться о содержании пакта. В то же время со всей решительностью отвергнуть польские условия о прибалтах и Румынии как условия не вытекающие из пакта, необычные и являющиеся единственным препятствием к заключению пакта. Такой наш ответ сорвет маску с Польши". Наконец, подобный официальный шаг необходим и с точки зрения отношений с "Ясно, что все эти условия рассчитаны на успокоение чувствительных сердец Бернюсов и Ко (П. Бернюс – дипломатический редактор "Le Journal des Debats". – О. К.). Должно быть, расчет оказался верным, ибо с тех пор господа эти, по-видимому, притихли" (АВП РФ. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.138. Л.59). Гораздо ближе к истине было замечание Залеского о том, что председатель французского кабинета Лаваль был возмущен настойчивостью, с которой Литвинов в своем берлинском интервью повторял, что инициатива франко-советских переговоров исходила не со стороны СССР (J. Simon to W. Erskine, 10.12.1931. – PRO. FO/371/15586/N7936. 165 Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу, 2.9.1931. Л.656; Телеграмма Л.М. Кагановича И.В. Сталину, [3.9.1931] // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ.соч. С.76.). 166 Karty informacyjne MSZ, [1927]. – AAN. Ambasada RP w Moskwie. T.39. S.6. 167 См.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч, С.150, 153. Францией. После выступлений в печати "сейчас Франция может говорить[:] мы вели переговоры уже уверенные, что переговоры о пакте между Польшей и СССР развиваются, теперь СССР резко оборвал [их] и отвернулся от польского предложения... Имея в руках прессу, парламент и пр. франц[узское] пра[вительство] может в связи с такими "новыми фактами" начать движение против пакта, запросы в парламенте (о чем сообщает Довгалевский) и затем сказать нам, что Франция страна демократическая и они не могут идти против своего общественного мнения, что своим отказом разговаривать с Польшей мы сделаем невозможным подписание пакта в "ближайшее время" и все дело будет по существу сорвано [...]. Сейчас французы могут говорить: мы хотим пакта, но СССР не хочет пакта с Польшей. Надо их лишить этой возможности"168. Анализ Карахана и его рекомендации вызвали симпатию у членов Политбюро и были воспроизведены в шифрованной телеграмме Кагановича Сталину 3 сентября. Ее отклонения от исходного текста состояли лишь в утверждении, что стремление "напугать немцев", "заставить их пойти на политические уступки" являлось первоочередной целью польского предложения, и в более подробной обрисовке содержания ответного советского меморандума: "...Нужно совершить официальный шаг, который 1) подчеркнул бы нашу готовность заключить пакт, 2) содержал бы исчерпывающий текст пакта, приближающийся к тому проекту, который был нами вручен Польше в 1926 году с учетом элементов парафированного с Францией пакта, 3) отвергал бы и разоблачал бы нежелание Польши идти на пакт с нами с перечислением всех явно неприемлемых требований, в особенности, чтобы пакт с Польшей вступил в силу после подписания нами аналогичных пактов с прибалтами, 4) особо подчеркнул бы, что Польша выдвинула новое требование, никогда ею не выдвигавшееся, а именно, чтобы пакт с Польшей вступил бы в силу после того, как мы заключим пакт с Румынией". "Такой официальный акт, – резюмировал Каганович, – выбьет почву и затруднит Польше и Франции игру в пацифизм, а нам даст возможность перед всем миром раскрыть (их (?). – О. К.) карты. Кроме того, такой шаг затруднит Франции отступление от пакта с нами, ибо мы будем и перед Франц[узским] пра[вительством] козырять нашим предложением и сказать Франции: Вы колеблетесь из-за Польши, но вот мы готовы подписать с Польшей пакт такой же, как с Вами"169. При этом ни Карахан, ни Каганович – в отличие от Сталина – не предлагали искать средства для вступления в переговоры с Польшей ради заключения договора о ненападении. Карахан считал это невозможным. Из согласованности действий Парижа и Варшавы он поэтому делал вывод: "Было бы наивно думать, что отвечая Польше на ее демарш мы обеспечиваем подписание пакта с Францией". Предлагаемый Караханом и Кагановичем "официальный акт" имел задачей соблюсти приличия и заодно обнародовать существо разногласий с поляками, что, как полагали в Москве, выставит их в неприглядном свете. "Во всяком случае, – заключал Каганович телеграмму Сталину, – наши выступления для успокоения немцев другим концом ударили по нашей пацифистской позиции, и мы должны исправить это не только через прессу, но и официальным актом Сов[етского] [Запись Карахана (автограф)] (без названия и даты). – АВП РФ. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.138. Л.109-115. Конспект этой записи сделан на обороте документа от 3 сентября (Там же. Л.100). Предположению о том, что запись Карахана должна быть датирована 3 сентября противоречит то обстоятельство, что об упоминаемой им беседе посла Ляроша с турецким послом (правильно: временным поверенным в делах Турции в Варшаве) АнтоновуОвсеенко стало известно при посещении им турецкого посольства. Согласно дневнику полпреда, этот визит состоялся 4 сентября. Однако сам дневник снабжен исходящей датой 3 сентября, и, по всей вероятности, сведения о высказываниях Ляроша могли по телеграфу достичь НКИД ранее 4 сентября (Дневник полпреда В.А. АнтоноваОвсеенко, 3.9.1931. – Там же. Д.137. Л.107). Рекомендации Карахана относительно "официального шага" были воплощены в документе, подготовленном заведующим 1-м Западным отделом Райвидом (Проект меморандума польскому правительству, [б/д]. – Там же. Л.76-80). 169 Телеграмма Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 3 (3-5?).9.1931. – РГА СПИ. Ф.81. Оп.3. Д.101. Л.15-17 (машинопись, без подписи, датировано 5 сентября, содержит характерные для Кагановича ошибки в пунктуации). В издании переписки между Сталиным и Кагановичем вторая часть послания (с изложением "задач польского предложения" и проектом "официального шага" СССР) не воспроизведена, и документ опубликован по сохранившемуся оригиналу телеграммы. В пользу предположения, что цитируемый текст не является частью чернового наброска, впоследствии сокращенного, свидетельствует также заключительная фраза опубликованной шифровки: "Продолжение следует" (О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ. соч. С.76.). 168 пра[вительства]"170. В общем, на словах демонстрируя преданность Сталину, Каганович лавировал и намекал ему, что не следует горячиться и спешить с директивами насчет доведения "до конца всеми допустимыми мерами" переговоров с Польшей о заключении договора ненападения. В результате дискуссии в Политбюро 3 сентября Наркоминделу было предложено выявить реакцию "правительственных кругов, главным образом во Франции и в особенности в Польше" и представить к 10 сентября "подробный доклад о создавшемся положении и о возможных и необходимых наших шагах"171. 10 сентября все руководители НКИД, находившиеся тогда в Москве – Крестинский, Карахан и Стомоняков, предстали перед Политбюро. Вместо "подробного доклада" члены Политбюро получили "общие рассуждения", подкрепленные справками о переговорах 1926-1927 гг.172 Деятели Наркоминдела могли оперировать спекулятивными предположениями относительно мотивов Франции и Польши и теми немногими сведениями, которые поступили из полпредства СССР в Варшаве. "Пока не удалось воздействовать на эндеков – уклоняются от встречи со мною, – сообщал полпред. – А линия, занятая ими в вопросе о гарантийном пакте, целиком совпадает с правительственной". Что касается последней, при посещении госсекретаря Бека Антонов-Овсеенко смог лишний раз убедиться в том, что поляки заинтересованы в возобновлении переговоров без всяких предварительных условий. "Наш проект есть именно проект и подлежит обсуждению", – заявил Бек, по существу повторив публичное заявление Патека в "Газете Польской" 26 августа173. "НКИД пока оказался бессильным выполнить наше поручение – разведать поглубже действительные намерения польского правительства", – подытоживал Каганович дискуссию 10 сентября. – <...> НКИД внес предложение выступить нам сейчас с официальным письменным ответом на маневр Патека. Мы не приняли этого предложения"174. Каганович еще ранее обещал Сталину, что 10 сентября "решения принимать не будем"175. Теперь же он присоединялся к мнению Сталина (высказанному в письме от 7 сентября) о том, что на исправление "грубой ошибки" НКИД "потребуется продолжительное время", заявляя: "Поэтому выступать сейчас уже без соответствующего прощупывания вряд ли целесообразно"176. Таким образом, Каганович дезавуировал поддержанное им предложение об "официальном акте" советского правительства и продолжал лавировать. В итоге 10 сентября Политбюро ограничилось повторным требованием к НКИД представить "серьезный обстоятельный доклад в письменной форме по вопросу о том, насколько серьезны намерения Польши в переговорах о заключении с нами пакта о ненападении в связи с общим положением Польши и с группировками в правительственных и общественных кругах"177. Привычно твердя о фашизации Польши, советские руководители, как явствует из постановления Политбюро и материалов НКИД, в действительности не могли отделаться от ощущения, что буржуазный строй неразрывно связан с политическим плюрализмом и политику Польши определяет борьба "группировок в правительственных и общественных кругах". Не только в партийной печати, но и в документах Наркоминдела в ходу оставались "марксистские" рассуждения об экономических корнях агрессивности Польши – заинтересованности помещиков в земельных приращениях, стремлении буржуазии к расширению рынков. Соответственно, общенациональные задачи – обеспечение целостности и независимости Польши – оказывались в тени. Лишь немногие усматривали проблему не в "классовой природе", а в особенностях политического уклада Польши по сравнению с западными демократиями. "Если бы Польша была страной с нормальным демократическим строем, то можно было бы судить о том, каковы намерения правительства, но при существующем положении Советы совершено Телеграмма Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 3 (3-5?).9.1931. Л.17. Протокол № 60 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.8.1931. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.10. Л.183. 172 Двумя днями ранее члены Коллегии НКИД провели собственное заседание, на котором, по всей вероятности договорились поддержать идею Карахана об официальном ответе СССР польскому правительству. 173 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Б.С. Стомонякову, 4.9.1931 ("о гарантийном пакте"). – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.36. Л.219, 217. Госсекретарь выразил также надежду на то, что "непосредственный контакт нашего министра с вашим народным комиссаром осветит положение..." (Там же. Л.217). Однако Залеский не проявил инициативы, а Литвинов желания обсудить проблемы двусторонних отношений, и их встреча в Женеве на этот раз не состоялась. 174 Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 11.9.[1931] // Там же. С.93. 175 Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 6.9.[1931] // Там же. С.83. 176 Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 11.9.[1931].С.93 177 Протокол № 59 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.8.1931. – Там же. Оп.162. Д.11. Л.1. 170 171 не ведают, каковы планы маршала Пилсудского", – передавал французский посол Ж. Эрбетт слова Литвинова, сказанные ему при прощальной встрече в марте 1931 г. (когда Эрбетт указал на добрые отношения СССР с фашистской Италией, Литвинов ответил: "Именно, что и в этом случае мы также совсем не знаем, каковы намерения Муссолини")178. Ян Ковалевский усматривал в этих рассуждениях Литвинова проявление его общего подхода к взаимосвязи внутренней и внешней политики в охваченной кризисом Европе и напоминал о другом недавнем высказывании наркома: "При нынешней политической конъюнктуре мы верим в то, что у Польши нет агрессивных намерений в отношении СССР, но мы предвидим изменение расстановки политических сил в Европе – и это изменение может сказаться на настроениях в Польше. На этот случай мы хотим иметь гарантию в форме пакта о ненападении»179. Однако после того, как появилась возможность получить гарантии ненападения со стороны великой державы – Франции, у Литвинова попросту пропал интерес к аналогичному пакту с ее союзницей. Авторы проекта доклада НКИД в Политбюро (заведующий 1-м Западным отделом Райвид и референт Николаев) и обсуждавшие его Карахан и Крестинский испытывали немалые колебания. С одной стороны, в НКИД придавали несоразмерное значение позиции народовцев (и требовали от варшавского полпредства побольше материалов на этот счет) и придавали значение слухам о том, что позиция Залеского и Бека отлична от мнения Пилсудского. С другой стороны, в итоговый текст доклада была внесена (вероятно, Литвиновым, появившимся в НКИД 15 сентября) здравая констатация: "Было бы неправильно предполагать, что внешняя политика Польши может зависеть от отношения к ней тех или иных политических партий. Направление внешней политики целиком определяется планами диктатуры Пилсудского, поскольку буржуазная оппозиция в Польше чрезвычайно слаба, а в пределах правительственного лагеря законом является воля Пилсудского и его ближайшего окружения..." При редактировании исчезло жесткое заявление о том, что "остается в полной силе" программа Пилсудского по отторжению от СССР Советской Белоруссии и Советской Украины во имя создания великой Польши, а ухудшение отношений между Польшей и Германией является лишь преходящим эпизодом. Его заменило вялое упоминания о стремлении правящих кругов "к осуществлению известных федералистических идей Пилсудского". Рассмотрение всевозможных факторов польской политики приводило к выводам о "серьезной озабоченности правящих кругов Польши" (прежде всего – "крупным сдвигом в соотношении военных и политических сил между СССР и Польшей") и о том, что "польское правительство не ставит своей задачей немедленную войну против СССР". Отсюда оставался лишь шаг до признания заинтересованности Польши в пакте ненападения с Советами, но руководители НКИД вместо того оценили польскую инициативу как "пацифистские жесты", которые, "вероятно, продиктованы ожиданием для польского правительства лучших времен". Этот тезис (сформулированный, скорее всего, Литвиновым) фактически перечеркивал итоговую рекомендацию первоначального проекта доклада в Политбюро. Вслед за похвалами "ответной акции" НКИД (которая "разоблачила польскую тактику", "успокоила находящуюся в большой тревоге Германию" и т. д.), Райвид и Карахан предлагали (и Крестинский, как будто, не возражал) подтвердить свою прежнюю позицию: "Этим самым, однако, осуществлена лишь одна часть нашей внешнеполитической задачи в отношении Польши. Вторая часть должна заключаться в том, чтобы в соответствующее, благоприятное для этого время, выявить нашу готовность к заключению советскопольского пакта о ненападении и тогда окончательно разоблачить антисоветские планы правительства Пилсудского". Авторы этого шедевра "политической корректности" оставляли открытым вопрос, идет ли речь об эффектном пропагандистском ходе или о прикрытом трескучими фразами отступлении с занятых в августе позиций. В любом случае, они явно стремились сгладить разногласия НКИД с Политбюро. Литвинов, напротив, решил дать отпор некомпетентному, на его взгляд, вмешательству Политбюро в иностранные дела. Женевские наблюдения утвердили его во мнении, что поиск договоренности с Польшей излишен. Высказывания французского делегата Р. Массильи "о Справедливости ради отметим, что это воззрение было сформировано не только впечатлениями от десяти лет эмиграции в Англии и Франции, не только антипатией к личности Пилсудского и всякого рода "военщине", но и опытом трудных сношений с советским диктатором. Пятнадцатилетняя Елизавета Суриц на всю жизнь запомнила, с какой язвительностью – не смущаясь ее присутствием – Литвинов именовал Сталина "хозяином" во время женевских прогулок с ее отцом в 1937 г. (Интервью с Е.Я. Суриц. Москва, 17.11.1998). 179 Raport J. Kowalewskiego do Szefu Oddziału II Sztabu Głównego, Moskwa, 13.3.1931. – AAN. Attache wojskowi w Moskwie. T.93. S.354. 178 желательности улучшения наших [CCCР] отношений с Польшей, иначе Франция попадет в трудное положение", Литвинов прокомментировал: "Исполняют какой-то неприятный долг", под "улучшением отношений" "можно понимать избежание полемики". На самом же деле Польша "попала в неловкое положение даже перед Францией". Бриан и вовсе не искал встречи с Литвиновым, что "доказывает равнодушие его к польским проискам, иначе он пожелал бы поговорить со мной о польско-советских предложениях"180. В результате абзац, предложенный аппаратом НКИД, был снят, и докладная записка приобрела следующее завершение: "Понятно, что наша позиция была бы еще сильнее, если бы мы в наших выступлениях подробно разоблачили те условия, которыми Польша сделала невозможным заключение пакта с СССР. Однако опубликование и критика этих условий в тот момент еще больше бы усилили полемику с Польшей, в которой мы не были заинтересованы"181. В общем, Политбюро оставалось лишь поблагодарить Наркоминдел и отказаться от дальнейшей критики его действий. В дополнении к этому документу Литвинов, "ввиду крайней серьезности проблемы польскосоветских отношений, затрагивающих основы всей нашей внешней политики", счел "необходимым изложить вкратце свою точку зрения на эту проблему". "Предпосылкой к обсуждению" отношений с Польшей он предлагал считать следующие "совершенно бесспорные" положения. "Из Западных государств Германия является не только первой, но и единственной страной, установившей с нами полностью нормальные дипломатические отношения", и проявляет наибольшую заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Советским Союзом. Именно "о крепкий утес наших взаимоотношений с Германией" разбивались "попытки создания единого капиталистического фронта против СССР". Ослабление антагонизма между державами Согласия и Германией приводит к утрате этого фактора как важнейшей скрепы рапалльского сотрудничества, но, с другой стороны, "начатая Штреземаном политика сближения с Францией лишает Германию возможности продолжать считать отношения между СССР и Францией серьезным фактором советско-германских отношений", что придает Москве новую степень свободы. "Иначе обстоит дело со вторым фактором рапалльской акции": в отношении Польши "Германское правительство твердо отстаивает свой курс непримиримости" и потому "не может не придавать огромнейшего значения отношениям СССР с Польшей". Их "серьезное изменение" "автоматически влечет за собой со стороны Германии отказ от рапалльской политики и изменение, в сущности, советско-германских политических взаимоотношений". Неразрешимость вопроса о долгах и идеологическая антиверсальская установка СССР сильно ограничивают возможности сотрудничества с Францией даже после подписания с нею пакта о ненападении и торгового договора; перспектива прихода к власти в Англии консерваторов фактически исключает сближение с нею; "Италия не захочет оставаться единственной европейской страной, поддерживающей с нами приличные отношения". Утрата Германии в качестве стратегического партнера поэтому была бы невосполнима. Обращаясь к отношениям СССР с соседними западными государствами нарком указывал на десятилетние усилия Польши по "оформлению блока с Прибалтийскими странами и созданию для себя положения гегемона во всех государствах от Финляндии до Румынии". В результате "и без формального союза, в случае военного столкновения между нами и Польшей, последней рано или поздно придут на помощь Прибалтийские страны"; теперь Польша борется за заключение "общей военной конвенции", которая бы позволила ей "обеспечить себе командующую роль по всей нашей западной границе с самого начала столкновения". "Главным, если не единственным, препятствием в осуществлении такой политиковоенной задачи Польши является непримиримость Литвы", – напоминал Литвинов. – <…> Это упорство Литва может проявлять только опираясь на СССР и Германию. <…> Достаточно измениться советскоИз женевских телеграмм [Заметки Л.М. Карахана, не позднее 20.9.1931]. – АВП РФ.Ф.08.Оп.14. П.130. Д.138. Л.89. 181 Экономическое и политическое положение Польши в связи с предложением пакта о неагрессии [В Политбюро ЦК ВКП(б)], 15.9.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.256-237 (неподписанный экземпляр 1-го Западного отдела); Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.105-124 (экземпляр Стомонякова); Экономическое и политическое положение Польши в связи с предложением пакта о неагрессии (В Коллегию НКИД), 14.9.1931.– Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.119-101 (экземпляр 1-го Западного отдела); Экономическое и политическое положение Польши в связи с предложением пакта о неагрессии (В Коллегию НКИД), 14.9.1931.– Там же. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.137. Л.122-144 (экземпляр Карахана); Записка Н.Н. Крестинского Н.Я. Райвиду, 16.9.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.257. 180 германско-польским отношениям, чтобы не только полонофильские, но и другие партии в Литве почувствовали себя лишенными опоры и вынужденными идти на соглашение с Польшей". Тогда СССР окажется перед лицом "политического или даже военного финско-эстонско-латвийско-литовско-польскорумынского союза". Вслед за этим М.М.Литвинов напоминал основные эпизоды дискуссий с Польшей о пакте ненападения после прекращения в 1927 г. официальных переговоров на этот счет. Ссылаясь на свои женевские беседы, он уверял, что советские опровержения конца августа 1931 г. не только успокоили Берлин и Ковно, но не оказали никакого негативного влияния на переговоры СССР с Францией. "Я был поэтому крайне удручен и поражен, когда узнал, что наше опровержение вызвало недовольство в Москве, – переходил в наступление нарком. – ...Мы сорвали польский трюк. И какие основания думать, что наша акция имеет какие-либо отрицательные последствия, если не считать недовольства польской и отчасти французской прессы? Решительно никаких. Не в наших интересах помогать Польше получить иностранные займы, выжимать из Румынии новые уступки или помогать германской социал-демократии, толкающей Германию на дальнейшее сближение с Францией и Польшей. Именно поэтому НКИД и раньше опровергал неоднократно вздорные польские слухи о переговорах без всяких возражений с чьей бы то ни было стороны. Непонятно, почему на этот раз опровержение признается неправильным поступком". Резюмирующая часть документа была посвящена будущим возможным акциям СССР. Еще более категорично, чем Крестинский, Литвинов заявлял, что "ни в коем случае Польша не может быть причиной срыва переговоров и неподписания пакта с Францией", однако тут же признавал, что "она может нажать на Францию, чтобы та потребовала от нас одновременного заключения пакта с Польшей". "Если мы уже решились на пакт с Польшей..." – начал следующую фразу Литвинов и, спохватившись, исправил форму глагола на "решимся". Допуская, что выводы Политбюро относительно вступления в переговоры с Варшавой о договоре ненападения уже предрешены, он предлагал в том случае "сделать это в качестве уступки Франции". Сам он предпочитал ("в случае надобности") сделать аналогичную "уступку Франции в области наших отношений с Румынией", а не с Польшей182. В любом случае, "мы должны, однако, ждать соответствующих предложений от Франции". Нарком не видел "необходимости предпринимать какие бы то ни было шаги" и по отношению к Польше. Он отказывался принимать всерьез вручение Патеком проекта пакта и утверждал даже, что поскольку "ни один представитель Польши не говорил нигде публично о том, что польское правительство нам сделало предложение и что оно хочет возобновить переговоры", сообщения об этом агентства ПАТ следует отнести на счет "безответственной польской прессы". "Может быть, – примирительно заканчивал записку Литвинов, – в результате всестороннего рассмотрения вопроса мы придем к заключению о необходимости пожертвовать другими соображениями в пользу пакта, но, повторяю, сейчас этот вопрос перед нами не стоит. <…> Переговоры с французами возобновятся не раньше октября и, таким образом, у нас будет достаточно времени для обдумывания всей проблемы. Конкретные решения я предлагаю обсудить и принять только тогда, когда вопрос встанет перед нами конкретно"183. Разведывательный "материал", поступивший 18 сентября из ОГПУ, скорее подтверждал оценки Литвинова. "По сведениям лица, близко стоящего к польскому МИД, внешнеполитические задачи польской политики в последнее время характеризуются большей пассивностью, чем раньше, – говорилось в записке ОГПУ. – <…> С Парижем сейчас ведутся переговоры о заключении с СССР договора о ненападении. <…> Работа эта считается в нынешнем году самой главной. Рассчитывают, что она укрепит французскую систему союзов и объединит с Польшей лимитрофные государства". Утверждая, что Польша ведет серьезную подготовку к заключению пакта с Россией, агент Иностранного отдела ОГПУ вместе с тем оценивал ее как часть французского плана по "привлечению Германии на свою сторону". "В Варшаве говорят, что Париж ожидает, что Германия в этом году под влиянием Эти соображения отражали старую позицию Литвинова о желательности достичь примирения с Румынией путем признания ее прав на Бессарабию (см.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. "Нам нечего торопиться вынимать из румынской ноги бессарабскую занозу": Переписка Х. Раковского с М. Литвиновым // Источник: Документы русской истории. 2001. № 1. C.46-62. 183 Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу (копии членам Политбюро), 15.9.1931. Л.240-254. 182 кризиса очутится в безвыходном положении и что тогда будет легко достигнуть с ней компромисса и заставить отказаться от дружбы с СССР. На этом и основан весь расчет"184. Направляя Сталину "послание Литвинова о Польше", Каганович докладывал: "Должен Вам сказать, что из беседы с Литвиновым я еще более убедился в его своеобразном "германофильстве". Мы, говорит он, "сейчас танцуем на германской ноге", поскольку с французами ничего пока нет. Он не понимает, что мы не можем свою дипломатию подчинить одним отношениям с Германией, и вообще после его приезда из Женевы он производит впечатление человека чересчур самовлюбленного и уверенного в своем "величии"..."185 Действительно, на заседании Политбюро 20 сентября Литвинов говорил без обиняков. "Я знаю лучше, а вы здесь ничего не знаете", – заявил он (согласно записи Карахана). Литвинов доказывал опасность отчуждения Германии от СССР: "пакт с Польшей – гарантия границ". Франция "не раскрывает карты"; "мы должны дать ответ", но "пока Франция не скажет, мы не должны"186. Наркому оппонировал его заместитель Л. Карахан. "Фр[анция] Польшу не бросит" и для заключения пакта с Парижем СССР придется, как минимум, пойти на "признание переговоров и ведение переговоров" с Польшей. Вся польская политическая элита едина "в вопросе о пакте", национальные демократы поддерживают правительство. Поляки ставят вопрос ребром: "Россия должна выбирать" – "либо с Фр[анцией] и Польшей, или с Германией". Карахан не был склонен сбрасывать со счетов опасность разрыва советско-германского политического сотрудничества, но протестовал против того, чтобы сводить "всю внешнюю политику" "к одному "узлу" [–] Германии – она якорь спасения СССР, все должно быть подчинено этому "узлу"". "Неверно. Германия – лишь один из главных утесов... Л[итвинов] переоценивает значение Г[ермании] и не учитывает или недооценивает значение других факторов". "Л[итвинов] сводит все к отношениям Германии к Польше", утверждая, что "Германия может примириться с Францией, она может примириться с урегулированием наших отношений с Фр[анцией], но с Польшей никогда. Он забывает, что польский вопрос есть французский вопрос. Коридор разве это только польский вопрос, это в большей степени французский вопрос". Карахан соглашался с Литвиновым, что "игра", которую ведут Париж и Варшава, "неясная", даже "двойная", но все же это "одна и та же игра, только ходят разными картами", и расчет на франко-польские разногласия иллюзорен. Поэтому необходимо направить Польше меморандум, цель которого – "не заключение пакта и не на условиях Польши", а, во-первых, "планомерно подчеркнуть политику мира (ибо наш ушат холодной войны – против нашей пацифистской позиции, которая не исключает Польшу", и, во-вторых, заставить французов и поляков "раскрыть карты", "помочь выяснению позиций и успокоить"187. В итоге Политбюро постановило "отвергнуть установку т. Литвинова". "Исходя из прежних решений Политбюро о необходимости добиться заключения пакта с Польшей, – говорилось в резолюции, – предложить НКИД в 2-х декадный срок представить в Политбюро свои соображения о мероприятиях, необходимых в связи с этим в данное время"188. Тем самым решение высшего советского руководства напоминало о директиве четырехлетней давности: "Поручить НКИД в переговорах с Польшей исходить из необходимости доведения их до успешного конца"189. Поэтому создается впечатление, что Политбюро отвергло не только "установку" Литвинова, но и предложение "сорвать маску с Польши" – вручить ей "пацифистский" меморандум с констатацией расхождений между Москвой и Варшавой, и фактически предрешило вступление СССР в переговоры о заключении с Польшей пакта ненападения. Такая интерпретация, однако, противоречит отчету Кагановича перед Сталиным. "Никаких решений по существу не приняли, поручили ему [Литвинову] в течение двадцати дней подработать вопрос и вероятно уж обсудим его в Вашем присутствии", – с видимым облегчением [Сообщение ИНО ОГПУ] № 341412 (без названия, даты, подписи). – АВП РФ. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.138.Л.8888об. (приложено к: Сопроводительное письмо Начальника ИНО ОГПУ А.Х. Артузова Л.М. Карахану, 18.9.1931. – Там же.Л.76). 185 Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 16.9.[1931] // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ. соч. С.107 (курсив мой). 186 "Литвинов 20/9 в ПБ" [Заметки Л.М. Карахана]. – Там же. Ф.08. П.130. Д.138. Л.92. 187 [Заметки Л.М. Карахана]. – Там же. Л.94-98. 188 Протокол № 63 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.9.1931. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.11. Л.9. 189 Протокол № 94 (особый № 72) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 7.4.1927. – Там же. Д.4. Л.98. 184 рапортовал Лазарь Каганович190. «…В принципе решено, что необходимо реагировать еще как-то официально на известный шаг Патека, причем реагировать таким образом, чтобы не затруднять эвентуального заключения пакта с Польшей», – говорилось в инструктивном письме Наркоминдела191. Вероятно, мы никогда в точности не узнаем, приняло ли высшее советское руководство окончательное решение вступить в переговоры с Польшей до того, как 23 сентября 1931 г. в Москву пришло известие об изменении официальной позиции Франции. Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 21.9.[1931] // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ. соч. С.113 (курсив мой). Не исключено, конечно, что Каганович не понял сокровенного смысла постановления Политбюро. В заседании 20 сентября принял участие вернувшийся от Сталина Молотов. Давний недруг Литвинова, председатель Совнаркома мог позаботиться о том, чтобы основательно закрепить в решении Политбюро неприятную для руководителя НКИД идею заключения пакта с поляками и заодно намекнуть на его самоуправство – игнорирование "прежних решений Политбюро". 191 Письмо Л.М. Карахана и Н.Я. Райвида В.А. Антонову-Овсеенко, 26.9.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.263. Письмо открывалось сообщением о заявлении Бертело 23 сентября (см. ниже), что побуждало авторов скорее преувеличивать, нежели преуменьшать содержательное наполнение формулировок Политбюро. 190 3. Решение Политбюро и переговоры с Польшей о пакте ненападения (октябрь 1931 – январь 1932 г.) В Москве все больше тревожились молчанием французской дипломатии. 8 и 20 сентября в повестку Политбюро вносился вопрос о состоянии переговоров с Францией, касающихся подписания согласованного договора о ненападении и подготовки коммерческого соглашения. "Ввиду отсутствия новых сведений" выработка директив откладывалась192. Литвинов поручил полпреду во Франции Валериану Довгалевскому посетить своего главного контрагента – генерального секретаря МИД Филиппа Бертело, чтобы сдвинуть советско-французские переговоры с мертвой точки. Ровно через месяц после последнего визита Патека в Наркоминдел полпред СССР явился в МИД Франции. Бертело "отложил беседу по существу франко-советских переговоров до начала октября", заявив тем не менее, что подписанию франко-советского пакта "должно предшествовать или сопутствовать заключение польско-советского пакта". "Новое требование Бриана" он обосновывал "главным образом тем соображением, что общественное мнение Франции истолкует факт заключения пакта между СССР и Францией в том смысле, что Франция бросила Польшу на произвол судьбы"193. Прогноз Литвинова оказался ошибочным – сбывались предсказания Карахана. Это не поколебало наркома в оценке основных тенденций политики Франции и Польши: "Ниоткуда не следует, что французы с самого начала имели ввиду навязать нам пакт с Польшей", и заявление Бертело, очевидно, вызвано "нажимом, произведенным поляками". "Не думаю, – продолжал Литвинов, – что и теперь Польша (т. е. Пилсудский, ибо решает он, а не Залеский) действительно стремится к подписанию пакта с нами". Тем не менее, узнав о заявлении Бертело, Литвинов без промедления признал свое поражение. "У нас пока нет решения о вступлении в переговоры с Польшей, – писал он в Варшаву. – <…> Возможно, что будет признано предпочтительным придать переговорам с Польшей характер нашей уступки Франции. Такая постановка вопроса имеет... и ту выгоду, что Франция не сможет заставить нас принять навязываемые нам Польшей условия, которых от нас и сама Франция не требовала"194. 30 сентября Политбюро поручило НКИД "выяснить дополнительно положение с пактом и внести к следующему заседанию Политбюро свои предложения о дальнейших шагах"195. "Последнее заявление Бертело тов. Довгалевскому, – докладывал Литвинов Политбюро, – несомненно нарушает имевшуюся договоренность о несвязывании подписания пакта какими бы то ни было условиями". Правда, французы и раньше говорили, что пакт не будет подписан до достижения соглашения о советских заказах, "теперь, однако, Бертело выставил совершенно новое условие об одновременном и предварительном подписании советско-польского пакта или хотя бы получении уверенности в шансах подписания его"196. Взамен Москве сообщалось, что французская дипломатия взялась убедить поляков отказаться от ведения переговоров на основе польского проекта. Бриан и Бертело заявили министру иностранных дел Польши (посетившему в начале октября Париж) "о желательности заключения польско-советского пакта в редакции, аналогичной франко-советской"197. "Франко-советский текст был дан Залескому для ознакомления, и Залеский заявил, что он кажется ему приемлемым"198. В действительности, польский министр не прикасался к этому тексту и не взял на себя никаких обязательств ("т. е. одобрил текст для Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) № 63 от 30.9.1931. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.3. Д.849. Л.2. Телеграмма В.С. Довгалевского в НКИД, 23.9.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.535-536; Выписка из письма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 2.10.1931. – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.125. 194 Письмо М.М. Литвинова В.А. Антонову-Овсеенко, 26.9.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.266; аналогичные соображения см.: Выписка из письма М.М. Литвинова В.С. Довгалевскому, 5.10.1931. – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.131 195 Протокол № 66 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.9.1931 ("О Франции"). – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.11. Л.17. 196 Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу [копии членам Политбюро], 9.10.1931. – АВП РФ. Ф.010. Оп. 4. П.21. Д.63. Л.219. 197 Mысль об этом французам подал Довгалевский 23 сентября – прежде, чем получил такое же указание Литвинова (см.: Выписка из письма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 2.10.1931. Л.125). 198 Телеграмма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 6.10.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.562. 192 193 Франции, а отнюдь не для Польши")199. С другой стороны, и французская дипломатия не стремилась навязать Варшаве следование условиям франко-советского договора200. В начале октября все, однако, указывало на готовность французов заплатить обиженной Москве за вступление в переговоры с Польшей, добившись от нее согласия взять за образец будущего договора пакт СССР и Франции. По всей вероятности, Литвинов рассчитывал, что такой подход либо заставит поляков отказаться от принципа "круглого стола" и других неприятных Москве условий, либо побудит Францию отказаться от жесткого увязывания ее пакта с СССР с польско-советскими переговорами. На заседании Коллегии НКИД 8 октября обсуждались два варианта действий. Максим Литвинов предлагал "заявить Бертело, что мы ожидаем теперь от Польши официального и формального подтверждения приемлемости для нее текста советско-французского пакта, в результате чего польскосоветский пакт мог бы быть скорейшим образом подписан... Такая тактика имеет то преимущество, что Польша будет вынуждена либо сразу раскрыть свои карты, либо оттягивать свой ответ не нам, а самой Франции. Этот путь наиболее убедительным образом докажет и Франции и всеми миру, кто является виновником односторонней оттяжки и саботажа". "Eсли этот путь отвергается", нарком соглашался пригласить в НКИД руководителя польской миссии и, "сославшись на переданное нам заявление Бертело о приемлемости для Польши текста советско-французского пакта, просить скорейшего официального подтверждения этого заявления, изъявив с нашей стороны согласие на подписание такого пакта"201. Николай Крестинский соглашался с "тактическими преимуществами первого пути"202. Третий участник заседания Коллегии Лев Карахан, "отстаивавший наше непосредственное обращение к Польше и возражавший против первого варианта", оспорил аргументы Литвинова в собственном обращении к Политбюро. Карахан с большим скептицизмом оценивал роль Франции в предстоящих переговорах. "Действовать через Францию – это не прямой и не отчетливый путь. Он облегчит полякам и французам их игру, даст лучшую возможность для всяческих затяжек с их стороны, тогда как "делая прямое предложение" Польше, СССР может "сгладить впечатление от отпора, который мы дали полякам после вручения Патеком польского проекта пакта", "припереть поляков к стенке и укрепить нашу позицию в отношении Франции". Если Литвинов предлагал в случае обращения к Польше, "во избежание всяческих искажений", вручить Патеку или Зелезинскому письменное заявление, то его заместитель настаивал, что информировать французов о советском демарше также следует в письменной форме, "чтобы затруднить им дальнейшее вранье"203. 10 октября Политбюро под руководством Сталина204 завершило эту дискуссию, постановив: "Признать целесообразным одновременное обращение НКИД как к Бертело, в ответ на его запрос, так и к полякам". Политбюро согласилось с рекомендацией Наркоминдела не вручать полякам парафированный текст советско-французского пакта в качестве нового проекта советско-польского договора о ненападении205, а ограничиться кратким письменным заявлением206. Телеграмма М.М. Литвинова В.С. Довгалевскому, 15.11.1931 //Там же. С.656. Согласно объяснению министра, которое Патек в ноябре пересказал Литвинову, на запрос Бертело Залеский ответил, что "не находит в советскофранцузском пакте никаких моментов, противоречащих интересам Польши", и "совсем не было речи о том, чтобы Польша могла подписать пакт о неагрессии по французскому образцу" (Записи бесед М.М. Литвинова с С.Патеком, 14 и 15.11.1931 // Там же. С.647, 657). Выяснилось также, что парафированный текст договора был передан поверенному в делах Польши во Франции (Телеграмма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 20.11.1931 //Там же. С.666-667). 200 Телеграмма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 17.11.1931 // Там же. С.660. 201 Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу, 9.10.1931..Л.220. 202 Выписка из протокола № 56 заседания Коллегии НКИД от 8.10.1931. – АВП РФ. Ф.08. Оп.14. П.130. Д.137. 203 Записка Л.М. Карахана Л.М. Кагановичу (копии членам Политбюро), 9.10.1931. – Там же. Л.222-223. 204 Этот день стал первым рабочим днем Сталина после отпуска; вопрос о пакте с Польшей был внесен в повестку заседания 10 октября еще в предыдущем месяце. Возможно, Сталин специально приурочил свое возвращение в Москву к этому обсуждению. 205 Статья 1 пакта с Францией упоминала о подмандатных территориях и колониях, а статья 4 ссылалась на "совокупность территорий, определенных в 1-й статье", что, замечал Литвинов, "либо к Польше не может быть применимо, либо же может быть воспринято как гарантирование польского коридора и протектората над Данцигом, т. е. как подтверждение Версальского договора". "Если мы, однако, внесем хоть малейшие поправки, – опасался он, – это даст повод Польше со своей стороны вносить поправки и таким образом вновь проявить свое мастерство в бесконечном затягивании переговоров" (Записка М.М. Литвинова Л.М. Кагановичу, 9.10.1931. Л.221). 199 Материалы НКИД и Политбюро, относящиеся к концу сентября – началу октября, поражают своей сосредоточенностью на тактических вопросах и полным отсутствием принципиальных аргументов за и против вступления в переговоры с Польшей. Лишь отчасти это можно объяснить тем, что основные проблемы советской политики в сентябре уже были обсуждены на Кузнецком мосту и Старой площади и Политбюро, вслед за Сталиным, отвергло принципиальные возражения против нормализации отношений с Польшей. При всей своей самоуверенности в международно-политической области Сталин и другие советские вожди оказались способны лишь на общие оценочные суждения и были бессильны предложить дипломатическое решение. На протяжении трех недель они тщетно понуждали Наркоминдел двигаться в желаемом направлении. Реального продвижения к пакту с Польшей не происходило – и не произошло до тех пор, пока французская дипломатия не обусловила развитие отношений между Францией и СССР достижением польско-советского соглашения. Заявления Бертело мгновенно устранили основные разногласия между Литвиновым и Сталиным, НКИД и Политбюро207 и поставили в порядок дня практическую работу по организации переговоров между Москвой и Варшавой. По всей вероятности, ради сближения с Францией Наркоминдел принял бы ультимативно предложенный ею образ действий в отношении Польши даже в том случае, если бы высшее политическое руководство СССР оказалось совершенно индифферентно к перспективе заключения с поляками пакта о ненападении. По существу, решение о вступлении в переговоры было принято не в Москве или Сочи. Оно было принято в Париже, и сталинскому Политбюро оставалось лишь придать ему должную форму и определить тактическую линию советской дипломатии. Упоминание в резолюции Политбюро о "запросе Бертело", быть может, отражало смущение, вызванное осознанием этого факта: судя по имеющимся документам, ни с каким "запросом" к Москве генеральный секретарь МИД Франции не обращался. К 14 октября Литвинов, как предписывало постановление Политбюро, согласовал со Сталиным и Молотовым текст заявления советского правительства. Оно открывалось ссылкой на сообщения Довгалевского и Залеского руководителям французской дипломатии о согласии их правительств вести переговоры на основе парафированного франко-советского текста. Подтверждая "готовность Советского Правительства к подписанию такого пакта" с Польшей, "г-н Литвинов просил поэтому г. Поверенного в Делах не отказать снестись с Варшавой и сообщить ему, готово ли Польское Правительство подписать с Советским Правительством такой же пакт о ненападении, какой парафирован советско-французскими уполномоченными". 14 октября Литвинов вручил это заявление временному поверенному в делах Польши в СССР А.Зелезинскому. Послу СССР во Франции поручалось передать его Бертело, "объяснив, что ввиду интереса, проявленного французским правительством, и в интересах скорейшего разрешения вопроса, Вы обращаетесь за содействием к Бертело"208. Таким образом, соломоново постановление Политбюро об "одновременном обращение НКИД как к Бертело..., так и к полякам" было трансформировано (надо полагать, под давлением Сталина) в пользу подхода, отстаивавшегося Караханом. По своей форме и существу заявление 14 октября явилось нотой польскому правительству. Вместо того чтобы служить выяснению базы двусторонних переговоров, этот документ фактически их возобновлял и Польше вовсе не было нужды давать ответ "самой Франции" (как предлагал Литвинов). Комментируя мотивы и ожидаемый эффект заявления 14 октября, Литвинов и Стомоняков (вернувшийся к своим обязанностям члена Коллегии) пытались делать хорошую мину при плохой игре: оно "передает инициативу дальнейшего развития вопроса о гарантийном пакте с Польшей опять в наши руки и парализует тем самым дальнейшие попытки польского правительства создавать шумиху вокруг патековского "предложения" от 23 августа. Этим заявлением мы заставим, несомненно, поляков раскрыть свои карты и спутаем их игру, направленную к срыву нашего пакта с Францией". Руководители НКИД подчеркивали конфиденциальность советского заявления; НКИД воздержался от Поэтому подготовленные в НКИД новые проекты договора между Советским Союзом и Польшей оказались невостребованными (см.: Проект договора о ненападении между СССР и Польшей, 3.10.[1931]. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.269-267; Договор о ненападении. Проект. 10.10.1931. – Там же. Л.270-273). 206 Протокол № 68 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 10.10.1931. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.11. Л.23. 207 Ср. цитированные выше постановления Коллегии НКИД и Политбюро от 8 и 10 октября соответственно. 208 Запись беседы М.М. Литвинова с А. Зелезинским, 14.10.1931 [Приложение] // ДиМСПО. Т.V. С.501; Телеграмма М.М. Литвинова В.С. Довгалевскому, 14.10.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.572. информирования о нем немцев – "в надежде на то, что поляки, наученные горьким опытом, не поспешат на этот раз протрубить о новых переговорах"209. Варшава не только не "протрубила", но и затягивала ответ (на это повлияли и попутные обстоятельства – отъезд Пилсудского, болезнь Залеского и др.). Польская пресса проявляла исключительную сдержанность в обсуждении перспектив пакта. На запрос французского посольства представители МИД Польши поясняли, что она, вероятно, подтвердит свои предложения от 23 августа. По словам Бертело, "у французов осталось впечатление, что в Варшаве имеются две линии по вопросу о заключении пакта... Линия МИД при этом, конечно, более мягкая, а линия Пилсудского фактически против заключения пакта"210. В Наркоминделе зарождалась надежда, что политическое руководство откажется от курса на переговоры с поляками. Из последнего сообщения Бертело член Коллегии Стомоняков предлагал сделать два вывода, каждый из которых ставил под сомнение целесообразность принятых решений: "1) у Польши и Франции нет такой тесной согласованности в отношении СССР, как это часто предполагается, и 2) подтверждается неоднократно делавшийся у нас в последние пять лет в НКИД и, в частности, мною, вывод, что Пилсудский является противником пакта и всяких договоров с нами, чтобы не создавать демобилизационных настроений в Польше, не связывать себе рук и вообще иметь возможность использовать первый подходящий момент для войны с Советским Союзом. Пилсудский позволяет своей дипломатии (или, может быть, иногда даже сам ей предписывает) от поры до времени (sic) делать всякие миролюбивые заявления и предпринимать пацифистские маневры в отношении СССР, рассматривая все это как дымовую завесу для прикрытия вооружения Польши и приготовления к войне, которую он считает своей исторической миссией"211. Похоже, Литвинов был с этим согласен. Дороги назад, однако, уже не было: СССР обязался перед Францией следовать указанным ею курсом. Если Польша "хотела бы впутать нас в переговоры, максимально затягивать их и таким путем оттянуть или засаботировать подписание советско-французского пакта"212, то после своего – по сути, сталинского – демарша 14 октября советской дипломатии не оставалось ничего иного, как проявить уступчивость в отношении польских условий и постараться поскорее довести дело до конца. Именно эти обстоятельства позволяют объяснить удивительную сговорчивость Литвинова в ходе переговоров с посланником Патеком 14-16 ноября. Станислав Патек прибыл в Москву в началу второй декады ноября, располагая впечатлениями от встречи с Пилсудским, письменными инструкциями министра Залеского и наставлениями государственного секретаря МИД Бека213. 12 ноября в разговоре с Антоновым-Овсеенко, а двумя днями позже – на приеме у Литвинова посланник сообщил, что "его правительство не считает подходящим для Польши советско-французский пакт в котором имеется много лишнего и недостает того, что Польшу особенно интересует". Патек предложил "вернуться к [советскому] проекту пакта 1926 г. с дополнениями, сделанными им в документе, врученном т. Карахану". Это заявление не стало неожиданностью для советской стороны. Еще 26 октября в беседе с полпредом Залеский дал понять, что франко-советский пакт для Польши неприемлем214. Литвинов, однако, притворился, что не помнит содержания августовского документа, и, не возражая по существу, лишь "резервировал свое мнение в этом вопросе". Он также сделал вид, будто согласие с польским желанием означает возвращение к "старому" (советскому) проекту. На деле, ликовал Патек, "удержался польский проект". Второй – главной – победой польской дипломатии была капитуляция Литвинова перед требованием об Письмо М.М. Литвинова В.А. Антонову-Овсеенко, 16.10.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.275-274; Письмо Б.С.Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, [между 14 и 18.10.1931]. – Там же. Л.281. 210 Телеграмма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 19.10.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.581; Письмо Б.С.Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 26.10.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.287. 211 Письмо Б.С.Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 26.10.1931. Л.287-287об. "...Переговоры возможны, но я отношусь скептически к возможности скорого заключения пакта, поскольку Польша пакта не хочет...", – говорил Стомоняков германскому послу и подтверждал оценку августовского демарша как "простого блефа" со стороны поляков (Выписка из записи беседы Б.С.Стомонякова с Г. фон Дирксеном, 3.11.1931. – Там же. Л.289). 212 Письмо М.М. Литвинова В.А. Антонову-Овсеенко, 26.9.1931. Л.266. 213 По всей вероятности, посланнику была предоставлена значительная свобода маневрирования (см.: Дополнение к дневнику полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 26.10.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.283). 214 "Я не говорил Бертело, что мы готовы подписать совсем такой же пакт <…> Я сказал, что мы готовы подписать аналогичный пакт" (Там же). 209 одновременных переговорах СССР с западными соседями о заключении пактов ненападения "по всей линии от Финляндии до Румынии включительно". В обмен Варшава соглашалась изъять упоминание о "юнктиме" из своего проекта пакта. Нарком подтвердил прежнюю советскую позицию – "для нас действительно неприемлемы переговоры с Польшей о наших взаимоотношениях с третьими государствами", после чего приступил к переговорам с Патеком о том, как Польша могла бы содействовать заключению Советским Союзом договоров о ненападении со странами Балтии и Румынией. В завершение беседы посланник поощрил руководителя Наркоминдела заверением, что "если бы удалось благополучно разрешить вопрос о пакте по всей линии, то остальные разногласия серьезных затруднений не создавали бы"215. 18 ноября Коллегия НКИД, при участии приехавшего из Варшавы Антонова-Овсеенко, обсудила пути реагирования на новые заявления польского представителя216. Против предложения Патека вести переговоры на основе советского проекта с польскими поправками Коллегия не возражала. "Что же касается вопроса о том, "не следует ли нам вновь напомнить лимитрофам о предложенном нами [в 1927 г.] пакте, как это подсказывал мне Патек", сообщал Литвинов членам Политбюро, то "Коллегия подвергла этот вопрос тщательному рассмотрению и единодушно пришла к заключению о преждевременности такого шага". Руководители дипломатического ведомства исходили из предположения, что "Пилсудский по-прежнему противится пакту и идет на переговоры с нами лишь под давлением Франции", что "главной целью Польши является в настоящий момент затягивание переговоров с нами и оттягивание тем самым подписания советско-французского пакта". С другой стороны, "Бриан поставил нам условием подписания пакта с Польшей. Мы достаточно наглядно доказали нашу полную готовность выполнения этого условия и неосуществимость его по причинам, лежащим вне нашего контроля. Франции остается либо заставить Польшу подписать пакт без вовлечения в это дело новых стран, либо же, признав злую волю Польши, подписать с нами пакт без Польши". "Наша позиция будет, однако, осложнена, – продолжал Литвинов, – если обращением к лимитрофам мы фактически поставим дальнейшие переговоры как с Польшей, так и с Францией в зависимость от поведения лимитрофных стран. Мы знаем по опыту, как трудно договариваться о чем бы то ни было с "провинциальными" правительствами лимитрофов, в особенности с Финляндией. В лучшем случае переговоры с ними будут продолжаться месяцами, в особенности, если в ход будут пущены польские интриги". Нарком предсказывал, что особенно проблематичной окажется достижение договоренности с Румынией – польской союзницей, не намеренной уступать суверенитета над Бессарабией и Польшей, а также нейтрализация сопротивления пакту со стороны "финских лапуасцев" – "настоящих хозяев положения в стране". "Тем временем Франция будет считать себя совершенно свободной в отношении пакта с нами" и, что еще опасней, "вынуждена будет даже прекратить свое давление на Польшу, поскольку центр тяжести будет передвинут в другие страны". Отметив неизбежную потерю советского (и возрастания польского) престижа в случае прямого обращения Москвы к соседним государствам, Литвинов возвращался к тезису о "злой воле" Пилсудского: "...Было бы величайшей наивностью ожидать со стороны Польши подписания с нами пакта о ненападении, пока у нее остается хоть малейшая надежда на вовлечение нас в конфликт с Японией в ближайшее время". В итоге Коллегия НКИД не исключала "необходимость нашего обращения к лимитрофам в дальнейшем, в зависимости от тактики Франции", но в существующей ситуации предлагала усилить обработку французов, разъясняя "явную невозможность вовлечения в переговоры [СССР] с Францией все новых и новых стран" ("Недаром Патек упоминал о возможности привлечения к пакту и Чехословакии. Этим заранее создается повод для новой проволочки"). Пока же "дальнейшее зависит от самих лимитрофных стран и от Польши"217. Запись беседы М.М. Литвинова с С. Патеком, 14.11.1931// ДВП СССР. Т.14. С.647-648; Рапорт С. Патека А. Залескому, 16.11.1931 // ДиМСПО. Т.V. С.506. 216 См.: Письмо Б.С.Стомонякова Ф.А. Бровковичу, 16.11.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15.П.155.Д.7. Л.289). Накануне, 17 ноября, Сталин принял Антонова-Овсеенко и около часа беседовал с ним наедине (Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина // Исторический архив. 1994. № 6. С.41). 217 Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину [копии четырем другим членам Политбюро], 19.11.1931. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21.Д.63. Л.647-650. Не исключено, что поставленные в записке проблемы обсуждались в ходе встречи Литвинова, Крестинского и Карахана со Сталиным, Молотовым и Кагановичем. Она продолжалась три с половиной часа (Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина. С.41). 215 Фактически Наркоминдел призывал не спешить с принятием польских условий, и так это было понято в Кремле. Ответное постановление Политбюро, принятое на заседании 20 ноября, отсвечивало полемикой, горело нетерпением. Литвинову поручалось "сегодня же, или, в крайнем случае, завтра, начать формальные переговоры с Патеком о заключении пакта ненападения", "завтра же составить проект интервью или сообщения в печати о советско-польских переговорах"218. Оценки Сталина и его коллег по Политбюро, в отличие от их выводов, могли не слишком отличаться от того, что думали о злокозненных планах Пилсудского в Наркоминделе219. Похоже, в Москве настолько запугали себя предположениями о стремлении Варшавы "засаботировать" переговоры СССР как с Польшей, так и с Францией, что после трехмесячной дискуссии о возможности и условиях переговоров высшие советские руководители не желали терять ни часу220. "На днях мы придрались к одной беседе Патека с Литвиновым, – с нарочитой небрежностью, граничащей с явной ложью, писал Ворошилову Сталин 27 ноября, – и с места в карьер заявили Патеку, что считаем начавшимися переговоры о пакте ненападения". Польский посланник якобы "вертелся и увертывался", но "ему пришлось примириться с фактом"221. В действительности, подчиняясь требованию Политбюро, по возвращении с заседания нарком иностранных дел пригласил к себе Патека и утром 21 ноября принял его в особняке НКИД 222. Посланнику было заявлено о "согласии Советского правительства на возобновление переговоров". После обмена с Патеком краткими заявлениями, подтверждавшими намерения сторон, Литвинов "предложил приступить сейчас же к постатейному обсуждению пакта". Посланник сослался на то, что не имеет с собой необходимых бумаг, ожидает свежую почту из Варшавы. Начало деловой дискуссии было намечено на понедельник 23 ноября223. Повествование Сталина об этой беседе с Патеком как важной победе СССР, сильно расходясь с реальностью, нечаянно подтверждало, кто именно стоял за решением Политбюро 20 ноября и какое значение он ему придавал. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) был доволен результатом: переговоры начались. Другой заботой Кремля было поддержать свой престиж и прикрыть отступление перед Польшей арьергардными маневрами. Именно такой смысл приобрели предложения Коллегии НКИД после того, как высшее руководство распорядилось перейти к формальным переговорам о пакте. Во-первых, их Протокол № 76 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.11.1931. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.11. Л.64. Годом ранее Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) побил все рекорды абсурда в описании целей польской политики в отношении СССР (см.: Письмо И.В. Сталина В.М. Молотову, 1.9.1930 // Л.П. Кошелева и др. (сост.). Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925-1936 гг. М., 1995. С.209). Разумеется, невозможно сказать, насколько он действительно верил в то, что говорил. 220 По иронии судьбы, именно 14 ноября поверенный в делах СССР в Варшаве с тревогой отмечал, что польская пресса не уделяет вопросу о пакте с СССР "никакого внимания", а в разговорах как эндеки, так и пилсудчики "выражают свое недоверие" официальным заявлениям о готовности Польши к переговорам о ненападении. Глава советской миссии считал, что Польша готовит "какую-нибудь новую провокацию, которая бы поставила в невозможные условия ведение каких бы то ни было переговоров". Будет ли эта провокация связана с Литвой или с Дальним Востоком? – гадал он (Письмо Ф.А. Бровковича Б.С. Стомонякову, 14.11.1931. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.15. П.155. Д.7. Л.293-292). Доклады такого рода, несомненно, поддерживали подозрительность и подкрепляли мрачные предположения центрального аппарата НКИД. Справедливости ради отметим, что осведомленные наблюдатели в Варшаве – германский посол фон Мольтке и французский поверенный в делах де Бресси – в те дни полагали, что хотя в Бельведере и на Вежбовой заинтересованы в успехе переговоров с СССР, Станислав Патек делает все возможное для их срыва. Фон Ринтелен, прослуживший шесть лет на посту советника германской миссии в Варшаве, выражал уверенность в том, что патековская "тактика саботажа" пользуется поддержкой маршала (и «в интересах Германии» фон Ринтелен желал ему долгих лет жизни) (J.C. Wiley to Secretary of State, Warsaw, 23.11.1931. – NA. SD/760c/6111/20; J.C. Wiley to Secretary of State, Warsaw, 24.11.1931. – Ibid. /21). 221 Письмо И.В. Сталина К.Е. Ворошилову, 27.11.1931 // А.В. Квашонкин и др. (сост.). Советское руководство. Переписка. 1928-1941. М., 1999. С.162. 222 Вечером 20 ноября Литвинов вновь встретился с руководящей тройкой Политбюро (Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина. С.41), но о чем у них шла речь, неизвестно. 223 Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину (копия В.М. Молотову), 21.11.1931. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21.Д.63.Л.644. К записке прилагался "проект сообщения ТАСС" (там же. Л.646), текст которого идентичен опубликованному в советской печати 22 ноября 1931 г. 218 219 следовало вести, "исходя, согласно предложению Патека, из старого советского проекта пакта"224. Вовторых, Политбюро "предрешало" вручение французам меморандума с изложением хода переговоров, "включая "недоразумения" в заявлениях Бертело и Залеского". Этот пункт, впрочем, остался невыполненным. Вероятно, Довгалевский возразил против такого демарша: как раз 20 ноября он вновь беседовал с генеральным секретарем МИД о том, чтобы в качестве компенсации за "недоразумение", происшедшее благодаря французскому посредничеству, Париж побудил поляков снять требование об увязке советско-польских переговоров с заключением договоров ненападения между СССР и остальными западными соседями. Увы, сообщал Довгалевский, "мои повторные попытки добиться от Бертело обещания, что он побудит поляков отказаться от припутывания лимитрофов, не только не увенчались успехом, но и вызвали с его стороны даже некоторое раздражение"225. Итак, Россия вновь оказалась один на один с Польшей, и вступать в формальные переговоры ей предстояло с позиций, чрезвычайно ослабленных за минувшие три месяца. Советскую сторону на переговорах представляли Литвинов и Стомоняков. 23 ноября состоялось первое заседание с польским посланником "по делу пакта о неагрессии". Польскому дипломату без большого труда удалось добиться принятия польского варианта ст. 1, в которой нападение определялось как любой насильственный акт, нарушающий политическую независимость и территориальную целостность другой договаривающейся стороны226. "По существу разногласия по ст. 1-й не имеют никакого значения, – информировал Литвинов Сталина. – Если я предложил ему различные формулировки, то только для того, чтобы показать Патеку свою уступчивость, отказавшись от них и приняв целиком его редакцию"227. Эта уступчивость выразительно демонстрировала изменения в подходе Москвы к проблеме ненападения за пять лет, истекших с августа 1926 г., когда тогдашний полпред СССР Войков вручил проект договора министру Залескому. В апреле 1927 г. Коллегия НКИД вначале согласилась обсудить с поляками формулу ненападения, затем рекомендовала «в особом протоколе зафиксировать понятие о ненападении, предложив полякам проект формулировки этого понятия», и наконец постановила «сообщить Патеку, что …его определение термина «агрессия» мы принимаем, оставляя за собой право сделать по этому поводу дополнительное предложение»228. Вскоре Стомоняков известил Патека о принятии советской стороной третьего абзаца ст. 1 в польской редакции, т. е. о включении в договор широкого толкования обязательств ненападения, в соответствии с которым стороны обязывались взаимно воздерживаться "от всякого акта насилия, нарушающего целостность и неприкосновенность территории или политическую независимость другой договаривающейся стороны"229. В беседе с Патеком Литвинов точно выполнил эту директиву, однако в составленном им сообщении для прессы об этом говорилось в более корректных выражениях, близких к согласованной с Патеком записи беседы ("pro memoria") 14 ноября. Советник полпредства в Берлине даже жаловался в НКИД на "двусмысленность" тассовской телеграммы, которая дает основания полагать, "что мы согласились вести переговоры на базе польского контрпредложения" ("так это поняли некоторые газеты") (Письмо С.И. Бродовского Б.С. Стомонякову, 24.11.1931 (с пометами Стомонякова и Литвинова). – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.148). 225 Телеграмма В.С. Довгалевского М.М. Литвинову, 20.11.1931. – ДВП СССР. Т.14. С.666-669. Что касается А. Бриана, он производил впечатление "совершенно одряхлевшего и почти конченого человека". "Беседовать с ним очень трудно, ...очень тягостно", – сообщал Довгалевский, переживший министра всего на два года (Письмо В.С. Довгалевского Н.Н. Крестинскому, 21.11.1931. – Там же. Л.143). 226 Протокол [№ 1] заседания по делу пакта о неагрессии, 23.11.1931. – АВП РФ. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.233 (оригинал, подписанный Стомоняковым и Патеком); Дополнение к протоколу № 1 заседания по делу пакта о неагрессии от 23 ноября 1931, 26.11.1931 (подписано Стомоняковым). – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.323320. 227 Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину (копия В.М. Молотову), 21.11.1931. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.642. 228 См.: Справка 1-го Западного отдела НКИД СССР о переговорах с Польшей о гарантийном пакте (1927-1931), [не позднее 16.8.1931]. Л.154-151 (решения Коллегии НКИД от 5, 8 и 18 апреля 1927 г.). 229 Приложение к "Сравнительной таблице нашего проекта пакта 1926 года и польского проекта пакта 1931 г." (Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.153.). В соответствующих статьях договоров о ненападении, заключенных СССР в 1926-1927 гг. (с Афганистаном, Литвой и Ираном), воспрещались лишь «нападение» и «агрессивное действие» либо «введение своих вооруженных сил на территорию другой Стороны». Предложив новую формулу понятия «ненападение» польская дипломатия ссылалась на определение видного финского юриста, эксперта Лиги Наций Р. 224 Приступая к переговорам с Францией, в июне 1931 г. высшее советское руководство согласилось принять ст. 1, начинавшуюся словами: «Франция и СССР взаимно обязуются не прибегать к войне и не предпринимать какого-либо нападения», что в наибольшей степени ограничивало взаимные враждебные действия. Изменение позиции Москвы вызвала непонимание даже у полпреда Валериана Довгалевского, пользовавшегося почти неограниченным доверием центральных органов. Вопреки директиве в переговорах с Бертело Довгалевский «счел целесообразным настаивать на опущении слов «не прибегать к войне»», которые, по его мнению, «могли поддаваться слишком широкому и абсолютному толкованию». «Без этих слов статья меняет свой характер, трактуя лишь об агрессивной войне», – не без гордости сообщал полпред. В НКИД реагировали на эту инициативу отрицательно. «Это же для нас хуже!! – записал Стомоняков, исполнявший тогда обязанности первого заместителя наркома. – Француз[ское] предложение было против (помощи) выступления Франции на стороне Польши в случае войны последней с нами !…»230 В начале августа формула ненападения дважды обсуждалась на Политбюро231. В результате согласованный текст договора СССР с Францией содержал обязательство каждой из сторон в отношении другой стороны “не прибегать ни в коем случае …ни отдельно, ни совместно с …третьими Державами ни к войне, ни к какому-либо нападению и уважать неприкосновенность территорий, находящихся под ее суверенитетом…” Таким образом, по одному из главных вопросов различий между позициями Польши и СССР более не существовало232. Напротив, советское требование относительно взаимного соблюдения нейтралитета в случае нападения на одного из участников договора со стороны третьего государства, вытесненное из согласованной ст. 1, стало предметом острой дискуссии, начатой на втором заседании (26 ноября) и продолжавшейся почти до самого конца переговоров. Патек настаивал на том, что достаточно предусмотреть обязательство "не оказывать помощи и поддержки нападающему государству". Его партнеры, ранее согласившиеся на такую формулу в договоре с Францией, упорно отстаивали применение понятия "нейтралитет", поскольку оно, объяснял Стомоняков, шире, чем "неоказание помощи", и включает вооруженное противодействие нарушению нейтралитета (например, Бельгия в 1914 г.). Тем самым Польше предлагалось взять на себя обязательство вооруженного отпора тем, кто попытается силой заставить ее отказаться от неоказания помощи государству, совершившему нападение на СССР. Польский посланник выразил решительное несогласие и с другим советским условием – упомянуть в ст. 2 о неучастии сторон в соглашениях, враждебных другой, назвав его "нетерпимым ограничением суверенитета", "рычагом воздействия извне". Наконец, Патек отказывался заменить упоминание об обязательствах Польши, вытекающих из ее участия в Лиге Наций и оборонительных пактах, глухой ссылкой на сохранение в силе ранее заключенных договоров (как это было сделано в договоре СССР с Францией). Со своей стороны, Литвинов отклонил новое предложение поляков, основанное на франко-советском тексте, – внести в пакт положение о праве каждой из договаривающихся сторон денонсировать его в случае агрессии другой стороны против третьего государства233. Первые советско-польские заседания разочаровали руководителей НКИД. Они рассчитывали, что Патек как доверенный представитель Пилсудского будет не только отстаивать польскую позицию, но и идти на уступки. Посланник же действовал напористо, а при возникновении неодолимых препятствий ссылался на директивы МИД и, извлекая обычные в таких случаях дипломатические преимущества, предоставлял руководителям Наркоминдела искать выход из создавшегося положения. Литвинов, как Эриха. Впрочем, ключевая часть этого определения – ненарушение «политической независимости или территориальной целостности другой Стороны» – фигурировала уже в Рижском договоре 1921 г. (она была включена в статью о взаимном обязательстве России и Польши не участвовать в коалициях, враждебных другой стороне»). 230 Письмо В.С. Довгалевского Н.Н. Крестинскому, Париж, 8.7.1931 (с пометами Стомонякова от 16 июля). – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.17. 231 См.: Г.М. Адибеков и др. (ред.). Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки». 1923-1939. М., 2001. С.255. 232 О причинах этого изменения в позиции Москвы см. ниже. 233 Протокол № 2 заседания по делу пакта о неагрессии, 26.11.1931. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.313-312; Дополнение к протоколу № 2 заседания по делу пакта о неагрессии от 26 ноября 1931, 28.11.1931 (подписано Стомоняковым). – Там же. Л.332-324. сказал он Патеку 26 ноября, надеялся согласовать текст польско-советского договора за одно-два заседания и передать его на утверждение высшего политического руководства234. Стомоняков вообще склонялся к мысли, что решение вести переговоры с польским посланником в Москве было ошибкой. "Поскольку Патек не является переговорщиком в действительном смысле этого слова, а лишь передаточным пунктом (к тому же крайне бесталанным), эти переговоры можно было бы вести письменно или же закончить на одном заседании с тем, чтобы предоставить поль[скому] пра[вительству] сказать свое последнее слово"235. Личность старого адвоката, словоохотливого и уклончивого, стала к тому времени традиционной мишенью для иронических и желчных высказываний советских дипломатов. Приступ стомоняковской язвительности был, впрочем, вызван отнюдь не отсутствием у него дипломатического дарования: Патек, добившись признания собственного проекта в качестве основы переговоров, вместе с тем стремился извлечь наибольшую выгоду из неловкого предложения СССР исходить из парафированного франко-советского текста. Неуязвимый тезис: Польша не Франция, а СССР – это все же СССР, проходил красной нитью через его рассуждения. Скорого конца переговорам уже не предвиделось. "Ягодки еще впереди", – предупредил Патек 26 ноября, и Литвинов, ссылаясь на эти слова, в тот же день обратился к Сталину с предложением "образовать небольшую комиссию Политбюро для руководства переговорами", чтобы "давать ответ как по выяснившимся, так и по неизбежным новым и более существенным разногласиям"236. Генеральный секретарь немедленно (опросом) провел решение Политбюро о создании "комиссии по советско-польским делам в составе тт. Сталина, Молотова, Литвинова и Стомонякова"237. Включение в комиссию Политбюро руководителя ведомства являлось распространенной практикой. Куда менее ординарным было одновременное участие в ней высших руководителей партии и правительства, а также ее название, указывавшее на то, что в компетенцию комиссии входит рассмотрение широкого круга вопросов и принятие по ним решений от имени Политбюро. Вместе с тем образование комиссии по советско-польским делам выводило эту область за рамки компетенции созданной тремя днями ранее Комиссии по международным делам (Сталин, Молотов, Каганович)238. Появление нового органа, в котором отсутствовали представители дипломатического ведомства, сопровождалось распоряжением Совнаркома о проведении заседаний Коллегии НКИД не чаще одного раза в декаду (вместо обычных 2-3 заседаний в неделю), что резко снижало ее роль в процессе выработки политических решений239. В полном составе комиссия по советско-польским делам заседала по меньшей мере трижды – 30 ноября и 12 декабря 1931 г. и 3 января 1932 г.240 На новой встрече с Литвиновым и Стомоняковым 1 декабря Патек сообщил ответ Варшавы по выявившимся разногласиям. Новые препирательства привели к скромным результатам. Советская сторона согласилась с тезисом о денонсации (взамен за устранение польской оговорки о том, что нападение третьего государства на одну из договаривающихся сторон будет считаться агрессией лишь при условии ее "мирного поведения"241) и с общими положениям ст. 3 о сохранении в силе ранее После заседания Политбюро 20 ноября (и не позднее 25 ноября) Наркоминдел направил членам и кандидатам в члены Политбюро (кроме С.М. Кирова и украинских руководителей – С.В. Косиора, Г.И. Петровского, В.Я. Чубаря), а также А.А. Андрееву, П.П. Постышеву, Е.М. Ярославскому и В.Р. Менжинскому "Сравнительную таблицу нашего проекта пакта 1926 года и польского проекта пакта 1931 г." (АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.149-152.). По всей вероятности, Литвинов и его коллеги полагали, что вскоре им предстоит, вникнув в эту таблицу, принять решение относительно условий советско-польского договора. 235 Письмо Б.С.Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 28.11.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.319. 236 Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину, 26.11.1931. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.635-636. 237 Протокол № 78 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 1.12.1931 (опросом от 26.11.1931). – РГА СПИ. Ф.17. Оп.182. Д.11. Л.73. Литвинов явно предпочел бы обойтись без Молотова: до образования комиссии Политбюро протоколы советско-польских заседаний он направлял лишь Сталину (как обычно, два экземпляра), членам Коллегии, в 1-й Западный отдел НКИД и в варшавское полпредство. 238 См.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч. С.562-563. 239 См.: S. Dullin. Des hommes d’influences. Les ambassadeurs de Staline en Europe 1930-1939. P., 2001. P.85. 240 Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина // Исторический архив. 1994. № 6. С.42-43. 1995. № 2. C.129. 241 В 1926 г. при заключении договора о ненападении и нейтралитете с Германией Москве пришлось согласиться на формулу, обусловливающую обязательства нейтралитета «миролюбивым образом действий» другой стороны в отношении третьих государств. Спустя полгода такая же оговорка появилась и в пакте СССР с Литвой. Однако в 234 принятых сторонами своих международных обязательств (при условии внесения указания на отсутствие в них "элементов агрессии"). Было также достигнуто взаимопонимание по ст. 4, определяющей общие принципы разрешения спорных вопросов: Польша отказалась от абсолютно нереалистического требования об арбитражном рассмотрении в пользу согласительной процедуры. В общем, констатировал Стомоняков, польский представитель проявлял твердость и даже стал "развязен". При обсуждении даты следующего заседания Патек предложил 7 декабря, Литвинов – 10-е. "Назначение тов. Литвиновым сравнительно отдаленного срока для следующего заседания после того, как он был сторонником более частых заседаний, видимо, произвело впечатление на Патека...", – отмечал Стомоняков242. Дезориентировать польского посланника удалось лишь отчасти. Он решил, что Советы хотят оттянуть подписание согласительной конвенции (которой польский МИД придавал иррационально большое значение и которую он желал подписать сразу после заключения пакта ненападения), но продолжал думать, что Москва крайне заинтересована в скорейшем завершении начатых переговоров243. Четвертое заседание в Наркоминделе позволило закрепить предварительную договоренность по ранее обсуждавшимся разногласиям и найти новые частные решения. Из тактических соображений Патек упорствовал в требовании для будущей согласительной комиссии полномочий разбирать старые конфликты и отклонил предложение Литвинова предусмотреть в договоре процедуру его продления после истечения пятилетнего срока действия. В ответ на решительный отказ поляков от закрепления в пакте понятия "нейтралитет" применительно к случаю нападению третьего государства на одну из сторон, Литвинов перешел в наступление. Он вручил Патеку "компромиссное" предложение: описать обязательства нейтралитета, не употребляя самого этого понятия, в особом Заключительном протоколе244. Между тем намеченное на 14 декабря польско-советское заседание было по просьбе Патека, ожидавшего новых инструкций с Вержбовой, перенесено на 16-е. Но и тогда он не смог ничего сообщить о позиции своего правительства (Залеского и Бека не было в Варшаве). Несмотря на это, посланник отметил, что идея особого протокола о нейтралитете вызвала волнение в правительственных кругах. "Таким образом, протокол о нейтралитете составляет главное препятствие и он [Патек] лично и частно очень просит его снять" (Патек мог бы добавить, что в договоре между СССР и Литвой (ст. 3) также не использовалось понятие «нейтралитет», но никакого особого протокола на этот счет к договору не прилагалось). Литвинов не уступал, и, играя на юридических иллюзиях Патека относительно неотложности переговоров о согласительной конвенции, широким жестом предложил подписать ее одновременно с гарантийным пактом, если за образец будет взята советско-германская конвенция 1929 г.245 На следующий день Литвинов, Стомоняков и Патек вновь сошлись на заседание. "Большое, несколько сумбурное", оно "не дало никаких результатов, вследствие чего было решено отказаться от составления обычного протокола". "На все возможные лады Патек убеждал тов. Литвинова отказаться от наших требований по нейтралитету и неучастию во враждебных комбинациях, обещая взамен ...поставить в Варшаве лично вопрос о разногласиях по согласительной процедуре. , – рассказывал член Коллегии НКИД полпреду в Варшаве. – Тов. Литвинов, – отказываясь делать какие бы то ни было ходе переговоров 1931 г. польская дипломатия не использовала эти прецеденты, предпочтя обменять обсуждаемую формулировку на более существенный пункт о денонсации. Действительно, упоминание в договоре о «мирном поведении» в условиях непризнания Советским Союзом женевского и гаагского международных институтов, которые только и могли дать обязывающее заключение на этот счет, не имело реальной юридической силы. Это признавал и Г. Штреземан, первым предложивший СССР такую редакцию (см.: Письмо Н.Н. Крестинского М.М. Литвинову, Берлин, 23.4.1926 // Г.Н. Севостьянов (отв. ред.). Дух Рапалло. Советско-германские отношения 19251933. М., 1997. С.37). 242 Протокол № 3 заседания по делу пакта о неагрессии, 1.12.1931. – АВП РФ. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.235-237 (оригинал, подписанный Стомоняковым и Патеком); Дополнение к протоколу № 3 заседания по делу пакта о неагрессии от 1 декабря 1931, 2.12.1931 (подписано Стомоняковым). – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.359351. 243 Рапорт Патека в МИД Польши, 1.12.1931 // ДиМСПО. Т.V. С.516-517. 244 Протокол № 4 заседания по делу пакта о неагрессии, 10.12.1931. – АВП РФ. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.245-247 (оригинал, подписанный Литвиновым и Патеком); Дополнение к протоколу № 4 заседания по делу пакта о неагрессии от 10 декабря 1931, 13.12.1931 (подписано Стомоняковым). – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.378371. 245 Запись переговоров по делу пакта о ненападении 16 декабря 1931 г., 16.12.1931. – Там же. Л.396-390. формальные уступки без уступок с польской стороны и указывая на создавшееся неравенство при переговорах, когда он, Литвинов, в зависимости от дискуссии принимает решения и дает окончательные ответы по ряду вопросов, в то время как Патек отказывается решать даже мелкие вопросы и взамен за серьезные уступки с нашей стороны предлагает лишь передавать наши требования в Варшаву, – все же, в конце концов, дал ему понять, что при условии договоренности по другим вопросам мы готовы были бы пересмотреть нашу позицию о нейтралитете. В результате бесконечных разговоров было решено, по предложению тов. Литвинова, что Патек отложит свою поездку в Варшаву с тем, чтобы потом поехать в Варшаву уже только с одним или двумя крупными разногласиями. В заключение Патек заявил, что он очень разочарован этим оборотом дела, ибо он был убежден, на основании хода переговоров, что мы уступим как по вопросу о нейтралитете, так и по вопросу о неучастии во враждебных комбинациях. Тов. Литвинов констатировал, что поскольку содержанием пакта должны были бы быть обязательства ненападения, нейтралитета и неучастия во враждебных комбинациях, польская сторона стремится на две трети сократить это содержание и таким образом свести по существу обсуждаемый гарантийный договор к повторению пакта Келлога. По заявлению тов. Литвинова, большое политическое содержание этой дискуссии заключается в том, что в то время, как мы стремимся наполнить пакт возможно большим содержанием, обеспечивающим мир и развитие наших отношений, Польша от этого уклоняется и стремится придать пакту лишь формальное значение и тем самым уклониться от всякого углубления польско-советских отношений"246. Это был сильный и искренний ход. Перед началом официальных переговоров Ю. Бек и С. Патек подчеркивали, что заключение между СССР и Польшей четвертого – после Рижского договора 1921 г., пакта Келлога 1928 г. и Московского протокола 1929 г. – соглашения о мирном сосуществовании имеет смысл лишь постольку, поскольку оно внесет новое содержание – станет договором "по всей линии", т. е. приведет к заключение СССР пактов со всеми западными соседями. "Без этого, – резюмировал Литвинов польские заявления, – пакт с нами интерес для Польши не представляет"247. Москва уступила и по договоренности с Варшавой выразила правительствам стран Балтии свою заинтересованность в возобновлении переговоров, незамедлительно согласилась с соответствующим пожеланием Румынии. Выполнив (хотя и в обтекаемой форме) главное условие Польши, советская дипломатия по существу требовала от нее помочь исполниться предсказанию Патека о том, что остальные разногласия серьезных трудностей не создадут248. Согласившись с идей заключения пакта "по всей линии", Москва заявляла, что эта линия должна простираться не только "вширь", но и "вглубь". 21 декабря на пятом официальном заседании "по делу пакта о ненападении" удалось составить протокол, зафиксировавший договоренность по большинству статей, принятие Патеком ad referendum редакционных поправок к ст. 2 и 3 и сохраняющиеся разногласия249. Польскому представителю удалось выдержать советский напор относительно введения в пакт понятия нейтралитета или описания его в особом протоколе, в результате ст. 2 (о неоказании помощи нападающему) повторяла франко-советский текст. В итоге четырехнедельных переговоров остался непреодоленным конфликт между подходами СССР и Польши к взаимным обязательствам по отношению к третьим странам в условиях мира. Поначалу эти позиции были диаметрально противоположны. Москва предлагала принять взаимное обязательство "не принимать участия ни в каком соглашении политического и экономического характера, которое было бы направлено против другой стороны" (ст. 2 советского проекта). Если бы поляки верили в намерения большевистской России уважать международное право, они, вероятно, сочли бы небезвыгодным согласиться с таким условием. Но дело обстояло иначе, и польский проект предлагал зеркально противоположную формулу: обязательства ненападения и неоказания поддержки нападающему "не могут ни в коем случае ограничить или видоизменить права и обязательства, вытекающие для Польши из ее участия в Лиге Наций..., а также обязательства Польши, вытекающие из оборонительных пактов, заключенных Польшей в связи с пактом Лиги Наций" (ст. 3). Разумеется, у Письмо Б.С. Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 19.12.1931. – Там же. Л.406-405. См. также: Запись переговоров по делу пакта о ненападении (17 декабря 1931 г.). – Там же. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.58-74. 247 Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину (копия В.М. Молотову), 21.11.1931. Л.644. 248 См.: Запись беседы М.М. Литвинова с С. Патеком, 14.11.1931. С.650. 249 Протокол № 5 переговоров по делу пакта о ненападении (21 декабря 1931 г.). – АВП РФ. Ф.05. Оп.11.П.78.Д.85. Л.97-107 (оригинал, подписанный Литвиновым и Патеком). Опубликовано (под иным названием и с мелкой редакционной правкой): ДВП СССР. Т.14. С.719-721. 246 участников переговоров не было иллюзий в возможности включения столь "идеологизированной" и односторонней декларации в советско-польский договор. По существу, эта формула позволяла полякам идти на небольшие уступки, советская сторона приняла ее основное содержание в качестве первой части ст. 3. Добившись исключения ссылок на Лигу Наций, советские переговорщики подрубили собственный сук: без таких ссылок советско-польский договор признавал сохранение в силе всех ранее заключенных Польшей соглашений. Поэтому Литвинову и Стомонякову пришлось уговаривать польскую сторону внести уточняющую оговорку ("поскольку эти соглашения не заключают в себе элементов агрессии"). С точки зрения НКИД главное препятствие состояло в упорном нежелании поляков согласиться на принятие скорректированной статьи 2 советского проекта в качестве второй части статьи 3 будущего договора. На этом дискуссии прервались – польский посланник отбыл перед Рождеством в Варшаву. 30 декабря Пилсудский принял Залеского, Бека и Патека. По всей вероятности, маршал посоветовал им не переоценивать полезность для Польши будущего пакта с Советами и не торопиться с его подписанием, тем более что параллельные переговоры между СССР и Румынией еще не начались250. 13 января С. Патек вновь появился в НКИД, и на вопрос Литвинова, "что хорошего он привез из Варшавы", ответствовал, что считает хорошим отсутствие чего-то нового, "ибо еще перед его отъездом мы приближались к концу переговоров". Польская сторона выражала готовность произвести завершающий размен советских и польских пожеланий, что позволило бы преодолеть остающиеся второстепенные разногласия, но отвергала дискуссию по дополнению статьи 3. "Нам важно не только подписание документа, но получение уверенности, что у сторон нет никаких камней за пазухой и никаких задних мыслей, – рассуждал Литвинов (применял ли он это пожелание к своему государству?). – Как можно говорить о мирных отношениях, если одна из сторон сознательно оставляет за собой право участия во враждебных соглашениях против другой стороны". Нарком ссылался на наличие подобной статьи во всех пактах ненападения, заключенных СССР с другими государствами, на нежелание подавать "плохой пример другим странам". Патек был неколебим и отказался составлять обычный протокол заседания с констатацией взаимных уступок, пока не получит окончательный ответ советского правительства по поводу обязательств сторон по ст. 3251. Литвинов обещал "доложить своему правительству", и на следующий день предложил Сталину и Молотову собрать заседание комиссии Политбюро либо провести телефонный опрос ее членов для того, чтобы решить, как быть дальше. Нарком чувствовал себя неловко и почти оправдывался по поводу остающегося крупного разногласия ("Во все время переговоров я подчеркивал большое значение, которое мы придаем этой статье, без которой пакт для нас не имел бы большого интереса", и т. д.). Он предлагал "согласиться на перенесение этой статьи в особый протокол, на что я имею еще некоторую надежду добиться согласия Патека"252. Примирительный настрой Литвинова на последней стадии переговоров с Патеком основывался на ожидании, что "после подписания пакта с Польшей быстро подвинутся вперед переговоры с остальными нашими партнерами"253. В декабре с помощью поляков советская дипломатия подготовила условия для открытия переговоров с западными соседями о двусторонних пактах ненападения. В начале января начались переговоры румынского и советского уполномоченных в Риге, МИД Финляндии и полпреда СССР в Хельсинки. Литвинов стремился избежать одновременности переговоров, понимая, что уступку, сделанную одному из партнеров, придется распространять и на других. Однако его рекомендация замедлить переговоры с балтийскими странами до согласования пакта с Польшей была отвергнута (Кремль явно стремился форсировать заключение пактов "по всей линии"). В начале января нарком констатировал, что его опасения сбываются: финский министр Юрье-Коскинен "танцует от Cм.: P.S. Wandycz. August Zaleski. Ministr spraw zagranicznych RP w 1926-1932 w świetle wspomnień i dokumentów. Paryż, 1980. S.97. 251 Запись беседы М.М. Литвинова с С. Патеком, 13.1.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.23-25. Литвинову приходилось заканчивать переговоры без Стомонякова, который в начале января выехал в Ригу для ведения переговоров с графом Стурдзой о заключении пакта ненападения между СССР и Румынией. 252 Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину и В.М. Молотову, 14.1.1932. – АВП РФ. Ф.05.Оп.11. П.78. Д.85. Л.105106. Приняли ли Сталин и Молотов этот вариант, неизвестно; на встречах Литвинова с Патеком 18 и 23 января он не обсуждался. 253 То же. Л.106. 250 польской печки" и ничего другого не приходится ждать от эстонцев, латышей и румын254. Казалось, ключ к переговорам СССР со всеми лимитрофами хранится в польском МИД, и поляки считали, что могут проявить упорство (и даже упрямство) в полемике с НКИД. Безвыходность ситуации, в которой оказалась Москва, побуждала ее искать слабые звенья. Заведующий 1-м Западным отделом Райвид предлагал наркому "покончить скорей с Финляндией" –подписать договор с нею раньше, чем с Польшей, что "укрепит нашу позицию по отношению к Польше и Румынии в вопросе о неучастии во враждебных группировках". В отличие от Литвинова, Райвид считал, что "финны на это пойдут"255, и оказался прав. 19 января на переговорах в Хельсинки произошел перелом, а утром 21 января, "продемонстрировав остатки той "независимости", которой финны кичились до сих пор", министр Юрье-Коскинен и полпред Майский подписали договор о ненападении256. Одновременно переговоры Стомонякова с графом Стурдзой зашли в тупик. Положение Польши, крайне заинтересованной в сохранении "единого фронта" лимитрофов, стало весьма проблематичным. Для того чтобы не отстать от финнов, Варшаве следовало стремиться к окончанию переговоров с СССР, а чтобы поддержать Румынию – отложить подписание пакта. Как показали заявления Патека Литвинову 19 января, польская дипломатия сумела быстро разрешить эту дилемму. Советской стороне было, во-первых, предложено трактовать вопрос о неучастии во враждебных соглашениях в той форме, которая еще ранее была выдвинута МИД Финляндии и на которую Москва уже в целом согласилась. Во-вторых, Патек ввел в дискуссию тезис о парафировании пакта перед его подписанием. Литвинов отверг эти подходы и угрожал обнародовать разногласия257. 23 января он, с торжеством указав Патеку на подписание Гельсингфорсского пакта, усилил свое давление. В результате полемики нарком все же предложил формулу неучастия "ни в каких соглашениях, агрессивных и явно враждебных другой стороне". Такая редакция ограждала польские интересы, как они излагались в ходе переговоров с СССР на протяжении пяти лет. В протоколе констатировалось: "соглашение не достигнуто"258, но по существу переговоры были закончены. Ввиду известной позиции Сталина, подкрепленной резолюциями Политбюро, угроза Литвинова отказаться от парафирования текста не могла материализоваться259. Варшаве оставалось лишь получить согласие советской стороны на замену слова "агрессивных" выражением "с агрессивной точки зрения" – выражением, звучащим на русском языке странно и малоприятным для Москвы, которая предпочла бы иметь больше простора в интерпретации соглашений Польши с другими странами260. Парафирование договора о ненападении между СССР и Польшей, состоявшееся в Москве 25 января, стало бесспорным успехом польской дипломатии. Текст договора включал наиболее важные положения августовского проекта С.Патека, и представитель СССР был прав в своих ламентациях Ф.Бертело: договоренность с Польшей оказалась возможной "благодаря тому, что мы шли от уступки к уступке"261. См.: Личное письмо М.М. Литвинова Б.С. Стомонякову, 8.1.1932 (изложено в: А.И. Рупасов. Советскофинляндские отношения: середина 1920-х – начало 1930-х гг. СПб., 2001. С.171). 255 Письмо Н.Я. Райвида М.М. Литвинову, 16.1.1932 (там же). 256 Анализ хода советско-финских переговоров, тактики и мотивов сторон, причин быстрого заключения пакта о ненападении см.: Там же. С.168-174. Из-за отъезда главы МИД Финляндии в Женеву советская сторона настолько торопилась, что приняла неудачную для нее редакцию ст. 3, по которой договаривающиеся стороны взяли на себя обязательства не участвовать в соглашениях, "явно враждебных другой стороне и (вместо «или». – О. К.) противоречащих, формально или по существу, настоящему договору" (подробнее см.: Там же. С.175). Польские дипломаты, однако, не заметили этой выгодной для них оплошности. 257 Запись беседы М.М.Литвинова с С.Патеком 19.1.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.38-39. 258 Протокол № 6 по делу пакта о ненападении 23 января 1932 г. – АВП РФ. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.158-161 (оригинал с подписями Литвинова и Патека); Запись беседы М.М.Литвинова с С.Патеком 23.1.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.51-52. 259 Нарком направлял Сталину и Молотову полную запись своих переговоров с Патеком 19 и 23 января, однако его докладных записок, относящихся к финальной стадии переговоров, не обнаружено. Вероятно, санкция "советского правительства" запрашивалась им в устной форме (по телефону). 260 Положение о неучастии во враждебных соглашениях составило третью статью окончательного текста, а ранее согласованная ст. 3 – четвертую. 261 Телеграмма В.С. Довгалевского в НКИД, 25.1.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.56. 254 Являлись ли эти уступки необходимыми для заключения договора с поляками, не вызовет ли оно отчуждения Германии от СССР – эти вопросы буквально преследовали советских дипломатов в конце 1931 – начале 1932 г. Роль античных фурий взяли на себя представители германского МИД. 4. Германские протесты и предостережения (ноябрь 1931 – январь 1932 г.) Согласие советского руководства вступить в переговоры с Польшей вызвало острое недовольство и обеспокоенность правительства Германии. По всей вероятности, оно надеялось, что давление на СССР со стороны Франции в пользу заключения пакта с поляками может быть частично компенсировано активностью германской дипломатии. С середины ноября Auswärtiges Amt развернул наступление на Москву с целью удержать ее в русле своей антипольской стратегии. Поначалу (до того, как 22 ноября в советской и польской печати появились официальные сообщения о начале переговоров Литвинова и Патека) немецкая дипломатия пыталась возобновить свои старые увещевания о ненужности и вредности любого общеполитического соглашения СССР с Польшей (хотя "с точки зрения всеобщего мира" германское правительство не может-де возражать против советско-польского пакта ненападения)262. Поскольку решение о переговорах Советы уже приняли, первые «дружеские» демарши Дирксена в НКИД и посещение послом в Париже фон Хешем своего коллеги Довгалевского263 во второй половине ноября по существу подготавливали почву для предъявления Москве требований по выхолащиванию содержания договора с поляками. Официальная позиция Берлина, как она была изложена статссекретарем МИД фон Бюловым полпреду Хинчуку в начале декабря, состояла в том, что "немцы приветствуют наши переговоры с Францией и Польшей и что на этой почве никаких принципиальных разногласий у нас нет"; МИД Германии желает лишь "указать на некоторые пункты этого соглашения, которые имеют значение не только для нас [СССР], но и для них [Германии]". 5 декабря 1931 г. немецкий посол вновь посетил наркома Литвинова "исключительно в связи с нашими переговорами с Польшей". Дирксен передал разработанную в МИД записку («Bemerkungen»), в которой содержался политико-юридический анализ возможных условий советско-польского договора264. Немецкие возражения вращались вокруг трех проблем: (1) взаимный нейтралитет и обязательства СССР перед Польшей в случае ее войны с Германией, (2) определение нападения как нарушения территориальной целостности и политической независимости, и (3) сохранение в силе ранее заключенных соглашений. Если Варшава была склонна ограничить пакт обязательствами ненападения, а Москва – придать ему вид гарантийного договора, включающего обязательства нейтралитета и неучастия во враждебных комбинациях, то немцы в своих теоретических посылках исходили из того, что нейтралитет, в случае конфликта участника пакта с третьим государством, входит в понятие ненападения. Однако к советскопольскому соглашению, разъяснялось в записке Auswärtiges Amt, это общее правило совершенно неприменимо, "ибо Польша как член Лиги Наций согласно статье 16 Устава не может обеспечить никакого обязательного нейтралитета". Это замечание затрагивало больную струну советской дипломатии – ее опасения, что в случае военного конфликта СССР с одним из государств, входящих в Лигу Наций, Совет Лиги признает агрессором Советский Союз и тем самым санкционирует оказание ему коллективного международного противодействия. Соответственно Москве предлагалось отказаться от попыток внести в текст договора с Польшей обязательство взаимного нейтралитета и вместо этого сохранить полную свободу действий в случае германо-польской войны. Ознакомившись с запиской МИД, Литвинов не без иронии заметил Дирксену, что при полном несходстве мотивов Германии и Польши их настояния в этом пункте оказываются весьма сходными. "Я готов подумать о том, не следует Запись беседы М.М. Литвинова с Г. фон Дирксеном, 16.11.1931 // ДВП СССР. Т.14. С.658. См.: Запись разговора В.С. Довгалевского с Л. фон Хешем, 20.11.1931. – АВП РФ. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.142. 264 АВП РФ.Ф.05. Оп.12. П.86. Д.67. Л.4-7. Москва располагала и другим документом германского МИД, в котором рассматривались условия договора о ненападении между СССР и Польшей, – "Vermerk" (n.d.). Этот документ был передан в секретариат Стомонякова 7 декабря 1931 г. и 4 января возвращен Литвинову; на нем, однако, имеется неожиданная помета наркома: "Пол[учено] от Дирксена 5/IV/31" (Там же. Л.1-3). В равной степени трудно утверждать, что этот документ был передан в НКИД в апреле 1931 г. или что Литвинов просто ошибся (и этот материал был вручен ему 5 декабря). Характеристика немецкой записки в дневнике Литвинова соответствует обоим документам ("Vermerk" и "Bemerkungen"): они близки не только по теме, но и по содержанию. Немецкая дипломатия не была осведомлена о содержании польского проекта 1931 г. и строила свою аргументацию на условиях советского проекта 1926 г. (с принятыми в 1927 г. поправками) и "секретном" тексте договора между СССР и Францией. 262 263 ли нам, – говорил нарком немецкому послу 5 декабря, – прекратить настойчивость в отношении слова "нейтралитет". Во всяком случае, статья будет средактирована таким образом, чтобы под нее нельзя было подводить случаев нападения Польши на Германию или другое государство"265. Ввиду позиции Польши на московских переговорах это обещание ничего не стоило Литвинову, который готовился предложить полякам дополнить пакт о ненападении особым протоколом, в котором излагались бы обязательства нейтралитета без использования самого этого термина. С другой стороны, это не помешало советской стороне на все лады убеждать поляков закрепить в пакте принцип неоказания помощи нападающей стороне. Дискуссия о том, не нарушит ли советско-польский пакт букву и дух Берлинского договора, заключенного между СССР и Германией в 1926 г., переместилась поэтому в плоскость рассуждений о том, будет ли обеспечено автоматическое освобождение СССР от обязанности не нападать на Польшу в случае начала ее вооруженных действий против Германии (например, для выполнения союзных обязательств, вытекающих из франко-польского договора). Беспокойство немцев было тем большим, что в старом советском проекте тема досрочной денонсации вообще не затрагивалась. Поскольку 1 декабря С. Патек поставил перед Литвиновым и Стомоняковым вопрос о дополнении ст. 2 пунктом о денонсации (и заручился их принципиальным согласием), то в своих "контрзамечаниях" Москва могла с легкостью заверить Берлин, что условия будущего пакта позволят каждой из сторон самой определять, совершила ли другая договаривающаяся сторона агрессию против третьего государства и принимать соответствующее решение266. Другие немецкие пожелания радикально расходились с польской позицией и не устраивали саму Москву. В первую очередь это относилось к трактовке нападения как нарушения целостности и государственной независимости, содержавшейся в августовском проекте Патека в качестве неотъемлемой части ст. 1. Германский МИД доказывал юридическую нелогичность введения в нее специального определения Gewaltakt. Доказывая выгодность "короткой формулировки" ст. 1 МИД ссылался даже на такое компрометирующее Integritätklausel обстоятельство как ее текстуальная близость ст. 10 Устава Лиги Наций. "Упоминания о целостности территорий нельзя будет избежать, – сразу же предупредил Литвинов Дирксена, – поскольку это предложено Польшей и содержится во французском пакте"267. Тем не менее несколькими днями позже статс-секретарь МИД Б. фон Бюлов вернулся к этой теме. Признание интегритета, заявил он полпреду Льву Хинчуку 9 декабря, создавало бы плохой прецедент не только для СССР, но и для Германии и Литвы. Хинчук отвечал, что "никакого поворота в этом вопросе у нас нет" и о признании границ нет и речи. Однако он дал понять Бюлову, что советскогерманское взаимопонимание относительно будущего Польши в основном принадлежит прошлому: "Отклонение польского предложения означало бы, что мы допускаем нападение Польши на одну из Республик ССР и свое собственное нападение на Галицию или другую часть Польши"268. "Совершенно верно, – говорилось в пространном ответе НКИД в конце декабря, – что обязательство о ненападении на какую-нибудь страну означает ненарушение целостности страны и поэтому особое упоминание о ненарушении целостности является излишним. Когда, однако, одна сторона предлагает формулировку, оговаривающую специально ненарушение целостности, то возражать против такой формулировки, а тем более ультимативно абсолютно невозможно"269. Это была лишь часть правды: Наркоминдел предпочел прятаться за поляков, нежели объяснять собственную заинтересованность в Integritätklausel. Несмотря на то что международные органы (Постоянная совещательная комиссия по разоружению и др.) подвергали рассмотрению возможные критерии определения нападения, краткое пояснение этого понятия в ст. 10 Устава Лиги не получило официального развития. Как Устав Лиги Наций, так и Рейнский пакт 1925 г. ставил решение вопроса о том, имела ли место агрессия в зависимость от решения Совета Лиги. Кроме того, после заключения пакта Бриана-Келлога об отказе от войны как орудия национальной политики в Женеве появились Дневник М.М. Литвинова. Прием Дирксена 5.12.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.349. Gegenbemerkungen zum Entwurf eines polnisch-sowjetischen Nichtangriffpaktes, [не позднее 28].12.1931]. –Там же. АВП РФ. Ф.010.Оп.4. П.21. Д.63. Л.565-567. Русский текст ("Контрзамечания к проекту советско-польского пакта о ненападении") см.: Там же. Ф.05. Оп.12. П.86. Д.67. Л.15-17. 267 Дневник М.М. Литвинова. Прием Дирксена 5.12.1931. Л.348. 268 Запись беседы Л.М. Хинчука с Б. фон Бюловом, Берлин, 9.12.1931. Л.384-383. 269 Контрзамечания к проекту советско-польского пакта о ненападении, [не позднее 28].12.1931]. Л.17. 265 266 проекты приравнения отказа от мирного разрешения споров к акту нападения270. В интересах Советского Союза, упорно воздерживавшегося от участия в Лиге Наций и не признававшего международного арбитража, было ослабить возможность произвольной интепретации военных действий между СССР и другим государством со стороны "международного сообщества" Женевы и Гааги. До призыва Литвинова закрепить международно-правовым актом развернутое определение агрессии оставалось еще более года271. Несомненно, однако, что нарком и его коллеги в конце 1931 г. отдавали себе отчет в общеполитических выгодах принятия той ясной формулы, которая содержалась в польской редакции ст. 1. C другой стороны, Москва была заинтересована в недвусмысленном признании со стороны Польши своего суверенитета над большей частью Украины и Белоруссии, а также Грузией, находившихся с 1921 г. под советским контролем. Неподдельные опасения советских руководителей в отношении польского прометеизма (который они возводили в статус "федеративной программы" Пилсудского) во многом основывались на понимании того, что значительная часть населения западных районов СССР была готова принять польское вмешательство как свое освобождение от жесткой большевистской длани272. В тексте франко-советского договора констатировалось, что "уважение суверенитета или господства другой стороны на совокупности ее территорий" означает обязательство каждой из договаривающихся сторон по отношению к другой "никоим образом не вмешиваться в ее внутренние дела, в частности, воздерживаться от всякого действия, клонящегося к возбуждению или поощрению какой-либо агитации, пропаганды или попытки интервенции, имеющей целью нарушение территориальной целости другой Стороны, или изменение силой политического или социального строя всех, или части, ее территорий" (ст.5). Среди международных партнеров Советского Союза в то время не было страны, сходные обязательства которой были бы так важны для него, как обязательства Польской Республики. Верно и обратное: никто более поляков не имел стольких оснований требовать прекращения советского вмешательства в их внутренние дела. Острота взаимных претензий обрекала оба государства на бесконечные препирательства в том случае, если бы в договор о взаимном ненападении была включена соответствующая статья. Неудивительно, что предложение такого рода отсутствовало как в старом советском, так и в новом польском проекте пакта о ненападении, и что ни Литвинов, ни Патек не поднимали этого вопроса в ходе переговоров. Поэтому единственной возможностью закрепить в договоре с Польшей суверенитет Москвы над западными советскими республиками (в развитие постановлений Рижского мирного договора, подписанного еще до образования Союза ССР) являлось указание на принципы территориальной целостности и политической независимости, как это предлагалось Варшавой. Высшие советские руководители понимали неприемлемость этих принципов для германской внешней политики, которая вступала в фазу открытого ревизионизма, и постарались сгладить впечатление о своей солидаризации со сторонниками послевоенного статус-кво. На встрече с послом фон Дирксеном 12 ноября нарком по военным и морским делам подтвердил, что договор с Польшей не вызовет "ухудшения или изменения в дружественных отношениях Советского Союза с Германией". По существу, однако, заявления Ворошилова о приверженности советского правительства антиверсальскому курсу скорее разочаровывали: "ведь Советский Союз заключил мирный договор с Польшей", напомнил нарком, "и до известной степени признал ["польскую восточную"] границу"273. Германской дипломатии См.: Записка А.В. Сабанина М.М. Литвинову, 5.8.1931. – Там же. Ф.09. Оп.6. П.52. Д.40. Л.20-26. Конвенция об определении агрессии, внесенная советской делегацией на обсуждение Генеральной комиссии по разоружению в феврале 1933 г., была разработана Литвиновым и правоведами НКИД в декабре 1932 г. 25 января 1933 г. нарком представил эту инициативу на утверждение Политбюро, изобразив ее как «новое юридическое средство дипломатической пропаганды наряду с декларацией о разоружении». По мнению С. Дуллан, действительная новизна проекта ускользнула от внимания высшего советского руководства (S. Dullin. Op. cit. P.5253). 272 O. Ken. «Alarm wojenny» wiosną 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie // Studia z dziejów Rosji i Europy ŚrodkowoWschodnej. Т.XXXV. S. 41-74. 273 Копия доклада Г. фон Дирксена в МИД Германии, 12.12.1931 (получено агентурным путем) // Ю.Л. Дьяков, Т.С. Бушуева. Фашистский меч ковался в СССР: Красная армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922-1933. Неизвестные документы. М., 1992. С.128-129. Тремя неделями ранее нарком Ворошилов заверял начальника Truppen Amt'а (фактически – Генерального штаба) В. Адама в том, что "разговоров о границах и вообще о Германии мы вести с поляками не собираемся. С Польшей мы можем говорить только о взаимном обязательстве не нападать друг на друга" ([Фрагменты записи беседы К.Е. Ворошилова с В. Адамом], 12.11.1931 // Там же. С.125.) 270 271 было трудно возражать против такой интерпретации (как и против включения в преамбулу договора между СССР и Польшей ссылки на Мирный договор 1921 г. как на "основу их взаимоотношений и обязательств"). Выдвигая возражения против политического урегулирования Советским Союзом своих отношений с Польшей в 1926-1927 гг. и 1931 г., немцы обычно ограничивались рассуждениями об опасности признания Москвой западных польских границ, которая-де таится в формулировках об уважении "территориальной целостности". В действительности с точки зрения германских "национальных интересов" главную угрозу представляла не возможные интерпретации этой формулы, а как раз подтверждение Советским Союзом своего признания границ Польши на востоке. В свое время Г. Штреземан предупреждал Москву, что будущее германо-советских отношений зависит от того, "удовлетворит ли она каким-либо способом потребность Польши в обеспечении ее восточной границы"274. Если пятью годами позже рейхсканцлер и министр иностранных дел Г. Брюнинг воздерживался от подобных откровений, то это скорее отражало его скептическое отношение к развитию политического сотрудничества с Россией, нежели изменение германской позиции в этом вопросе. Неудивительно, что германские дипломаты в дальнейшем предпочли не вспоминать о заявлении Ворошилова: прямой разговор о судьбе восточной польской границы предполагал такую близость интересов и такую степень доверия, какие в советско-германских отношениях – будь то контакты между дипломатами или военными – были уже утрачены275. На следующий день, 13 декабря, Сталин принял Эмиля Людвига, прибывшего в Кремль в сопровождении заведующего Отделом печати НКИД Уманского. В ходе почти двухчасовой беседы со Сталиным писатель задал вопрос (надо полагать, инспирированный Auswärtiges Amt) о судьбе советсконемецкой дружбы в случае "признания нынешних границ Польши со стороны СССР". В ответ Сталин сделал пространное заявление, в котором возложил на "некоторых поляков и французов" ответственность за распространение слухов, вызывающих "известное недовольство и тревогу" "некоторых немецких государственных деятелей". "Мы точно так же, как и поляки, должны заявить в пакте, что не будем применять насилия, нападения для того, чтобы изменить границы Польши, СССР или нарушить их независимость <…>. Без такого пункта о том, что мы не собираемся вести войны, чтобы нарушить независимость или целость границ наших государств, без подобного пункта нельзя заключать пакт. Без этого нечего и говорить о пакте. Таков максимум того, что мы можем сделать". С точки зрения СССР, заинтересованного в гарантийном пакте с Польшей, обязательства ненападения являлись минимумом, но Сталин в этом полемическом рассуждении исходил из германских интересов и обещал Берлину, что в обмен на уступку в данном вопросе Москва не предпримет ничего, что вредило бы германской политике: "Является ли это признанием версальской системы? Нет. Или, может быть, это является гарантированием границ? Нет. Мы никогда не были гарантами Польши и никогда ими не станем, так же как Польша не была и не будет гарантом наших границ. Наши дружественные отношения к Германии остаются такими же, какими были до сих пор"276. Устные и письменные объяснения дипломатов и даже публичные изъявления симпатии к немцам, прозвучавшие из Кремля, не устранили напряженности, возникшей между СССР и Германией. Пробыв несколько дней на родине, посол фон Дирксен "с нескрываемым волнением" говорил советнику полпредства в Германии, что "успел убедиться, до какой степени здесь [в Берлине] обеспокоены правительственные и политические круги ходом и всей обстановкой" польско-советских переговоров. Спора нет о том, что мы [СССР] не можем отказаться от заключения пакта. Все здесь понимают это, но в 274 J. Korbel. Poland Between East and West: Soviet-German Diplomacy Toward Poland, 1919-1933. Princeton, NJ, 1963. P.195 (из инструкции Штреземана послу в Москве Брокдорфу-Ранцау 27 марта 1926 г.). Подробнее см.: H.L. Dyck. Weimar Germany and Soviet Russia 1926-1933: A Study in Diplomatic Instability. L., 1966. P.33-37. 275 В этой связи характерны неоднократное откладывание руководством НКВМ поездки генерала В. Адама в СССР и отказ обсуждать с ним и другими представителями рейхсвера оперативные планы в отношении Польши (Письмо военного атташе СССР в Германии В.К. Путны "Дорогому Жоржу" [Я.К. Берзину(?)], Берлин, 5.5.1931 (незаверенная копия). – РГВА. Ф.9. Оп.29с. Д.187. Л.73-74; Выписка из письма военного атташе СССР в Германии Яковенко, 30.8.1931. – Там же. Д.102. Л.187; Выписка из письма помощника военного атташе СССР в Германии Зенека, 1.9.1931. – Там же. Л.180). 276 И. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г. // Он же. Сочинения. Т.13. М., 1952. С.116-117. то же время опасаются слишком далеко идущих уступок наших польским притязаниям"277. Одновременно автор немецких меморандумов по поводу условий договора СССР с Польшей, директор Правового департамента МИД Фридрих Гаус подтвердил, что советские объяснения по двум важнейшим пунктам (обязательства нейтралитета и определение нападения как нарушения территориальной целостности) не удовлетворяют Германию. Желает того Советский Союз или нет, заявил Гаус, "но эти пункты чреваты громадными политическими последствиями"278. В рождественские праздники Герберт фон Дирксен срочно возвратился в Москву, и уже через несколько часов после прибытия сделал наркому Литвинову представление – зачитал и передал ему новую записку Гауса ("Weitere Bemerkungen") по поводу советско-польских переговоров. Большая часть этого документа была посвящена критике самого рассмотрения Gewaltakt в советско-польском договоре. Во-первых, отмечалось в записке МИД, вторая часть ст. 1 не имеет формы интерпретации первой фразы – "она дает не определение обязательства о ненападении, а определение совершенно не встречающегося в первой фразе понятия "насильственное действие" и идет гораздо дальше того, что обычно понимается под нападением. «Очень широко сформулированное постановление о "целостности"» вкупе с использованием понятия "политической независимости" создает "установку на признание состояния владения" и имеет самостоятельное международно-правовое значение. "Равным образом не может параллель относительно клаузулы о целостности в статьей 10-й Устава Лиги Наций рассеять наши сомнения относительно этого постановления в советско-польском пакте, – констатировалось в документе МИД, – ввиду того, что наряду со статьей 10-й в Уставе как равноценный политический контрбаланс имеется известная статья 19-ая". (Эта статья резервировала возможность "приступить к новому рассмотрению договоров, сделавшихся неприменимыми, а также международных положений, сохранение которых могло бы подвергнуть опасности всеобщий мир", и была знаменем усилий Германии и Италии по "мирной ревизии" версальских установлений.) Если СССР заинтересован в том, чтобы уточнить понятие «нападение», рассуждали руководители германской дипломатии, то вместо "нежелательных распространительных толкований" следовало бы написать, например, следующее: "Нападение имеет место, если одна сторона вторгается своими вооруженными силами в область другой стороны и не эвакуирует эту область по ее требованию". Таким образом, германский подход по своему существу оказывался диаметрально противоположным позиции Польши (с которой советская сторона в конце ноября немедленно согласилась): ст. 1 будущего договора основывалась на понимании агрессии как "всякого акта насилия", даже если он был бы предпринят "без объявления войны и с избежанием всех ее возможных проявлений". В свете этого принципиального расхождения второстепенным выглядело беспокойство германского МИД относительно сохранения за СССР возможности автоматически денонсировать пакт с Польшей в случае ее нападения на Германию и возражения против фактической легализации союзного договора между Польшей и Францией (что подразумевалось при подтверждении сторонами своих обязательств перед третьими странами)279. После дискуссии с Литвиновым фон Дирксен по его просьбе 26 декабря был принят первым заместителем наркома Крестинским, а 29 декабря вновь появился в кабинете наркома. В изнурительных спорах относительно условий договора с Польшей обе стороны повторяли ранее сформулированные аргументы. В конечном счете Литвинов прочел записку с изложением советских контраргументов280. В Письмо И.С. Якубовича Н.Н. Крестинскому, 25.12.1931. – АВП РФ. Ф.082. Оп.15. П.68. Д.7. Л.1 (изложение беседы с Дирксеном 21 декабря). 278 Там же (изложение беседы с Гаусом 22 декабря). 279 Weitere Bemerkungen zum entwurst eines sowjetisch-polnischen Nichtangriffspaktes, [ранее 25.12.1931]. – Там же. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.93-96 (русский текст: "Дальнейшие замечания к проекту советско-польского пакта о ненападении" (Там же. Л.90-92)). Точное содержание статей договора, согласованных Советами с Польшей, оставалось неизвестно немцам. При встрече с Крестинским 26 декабря Дирксен сказал, что намерен просить Литвинова предоставить ему текст согласованных статей. Заместитель наркома выразил сомнение в том: что такая просьба может быть удовлетворена (Дневник Н.Н. Крестинского. Прием фон Дирксена 26.12.1931. – Там же. Ф.0122. Оп.15. П.154. Д.2. Л.418). 280 См.:Письмо М.М. Литвинова Л.М. Хинчуку, 28.12.1931. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.564. Эта записка была сообщена также полпреду в Германии, но не передавалась в руки германских дипломатов («Gegenbemerkungen zum Entwurf eines polnisch-sowjetischen Nichtangriffpaktes» (Там же. Л.565-567)). 277 завершение беседы с Крестинским, отмечал тот в своем дневнике, "Дирксен не смог привести никаких новых возражений и почти согласился со мной". Посол, однако, просил: "Скажите Вашему правительству, что хотя Вы считаете совершенно неправильными наши опасения, но что эти немецкие опасения настолько сильны, что с ними политически нужно посчитаться". Заместитель наркома в ответ посоветовал послу "успокоить" свое правительство – ничего другого не остается: "ведь мы уже согласовали интересующие его статьи с поляками". Крестинский также "высказал удивление по поводу того, что германский МИД задерживает опубликование беседы Эмиля Людвига со Сталиным", которое "внесло бы значительное успокоение в общественно-политические круги"281. В действительности накануне (25 декабря) соответствующие фрагменты из записи беседы Сталина с Э. Людвигом все же появились в "Berliner Tagenblatt"282. Однако ожидаемого серьезного эффекта эти разъяснения, как и аргументация Наркоминдела, не возымели. В Берлине усваивали новый тон в общении с советскими представителями. Руководитель 4-го департамента МИД Рихард Майер начал беседу с временным поверенным Сергеем Александровским заявлением: "Он должен прямо сказать, что в Москве, очевидно, не отдают себе отчета во всей опасности того переворота (Umschturz), который проделывается самой же Москвой. ...Он вынужден констатировать создание новой обстановки и при этом прямо противоположной основам рапалльской политики". Ссылка Александровского на авторитет Сталина не помогла: "М[айер], уверяя во всяческом уважении к т. Сталину, буквально заявил, что его разъяснения, данные "какому-то Людвигу", не имеют никакого государственного значения. Это документ о том, как думает Сталин..." Александровский просил конкретизировать немецкие опасения, и Майер выдвинул на первый план малозаметное упоминание о денонсации договора: "Ему известно от Дирксена, что в советско-польском пакте имеется статья, содержащая оговорку, что в случае нападения Польши на третье государство, СССР имеет право без предупреждения денонсировать договор. М[айер] поручил пересмотреть все существующие аналогичные договоры и нашел, что такая формула существует, может быть, только в советско-литовском и еще каком-то договорах. В договорах всех других стран существует иная формула: прямого, автоматического прекращения действия договора в случае предусматриваемого соответствующей статьей нападения одной из договорных сторон на третье государство. Почему СССР не хочет применить эту формулу – автоматическое прекращение действия договора? Условие денонсации заставляет М[айера] задать вопрос, а кто же гарантирует, что СССР захочет денонсировать в нужный момент? Ведь право не есть обязанность. <…> Советско-французский пакт катастрофичен в своем содержании. Но он не так волнует его потому, что как раз реально политически из него вытекает не особенно многое для Германии. Существует Локарно. <…> Совсем другое дело с Польшей". Ведь в случае ее выступления на стороне Франции "Польша будет уже не нападающим государством, а лишь исполняющим свои союзные обязанности", и в обстановке польско-немецкой войны "СССР не сможет протестовать или отказаться от соблюдения нейтралитета" в отношении поляков. Советник полпредства заверил, что и в этом случае СССР сохранит свободу рук. На обвинение в нелояльности он ответил невероятным для рапалльских отношений обвинением в подготовке агрессии против Польши: "Наши пакты с Францией и Польшей могут быть неудобны Германии лишь тогда, когда она сама собирается напасть". Беседу с Александровским руководитель «русского отдела» МИД завершил заявлением: "В Москве должны понять одно – дело обстоит очень серьезно, если все останется так, как М[айер] об этом информирован. Это не его личное мнение. Так же думают Брюнинг, Гинденбург, Бюлов и др. Если обнаружатся позже те скверные последствия, о которых он предупреждает, СССР не сможет сказать, что он не был вовремя осведомлен как об отношении Германии, так и об этих последствиях". Майер напомнил о возможности образования единого экономического фронта против Советского Союза (в его тоне " звучала вполне ясная угроза") и о том, что "СССР был вовремя предупрежден хотя бы уже его разговором с Литвиновым 4-го сентября 1931 г. в Женеве"283. Переход германской дипломатии от просьб и советов к угрозам и Дневник Н.Н. Крестинского. Прием фон Дирксена 26.12.1931. Л.423-418. Крестинский в эти дни еще находился в отпуске, но согласился принять посла, т. к. знал "тревожные настроения" немцев (Там же. Л.423). 282 В высшей степени характерно, что в СССР запись беседы Сталина с Людвигом была опубликована лишь четырьмя месяцами позже. 283 Запись беседы С.С. Александровского с Р. Майером, Берлин, 4.1.1932. – Там же. Ф.082. Оп.15. П.68. Д.7. Л.24-17 (курсив мой; слово «Umschturz» в оригинале передано кириллицей). 7 января на ту же тему с Александровским 281 созданию для себя алиби на случай разрыва с СССР завершило замечание фон Дирксена заведующему 2м Западным отделом НКИД: еще "в 1928 г. с немецкой стороны в Берлине было сделано заявление, что заключение советско-польского договора неизбежно должно задеть германо-советские отношения. Таким образом, германское правительство уже тогда высказало свою точку зрения на этот вопрос"284. Сотрудник 4-го департамента МИД В. фон Типпельскирх, которому "пришлось говорить, докладывать и т. д. со всеми политическими деятелями сегодняшнего дня", убеждал полпредство СССР в Берлине, что с опубликованием текстов советско-французского и советско-польского договоров разразится буря, если не прямо катастрофа"285. Ничего подобного, однако, не случилось, когда в конце января советская печать обнародовала парафированный Литвиновым и Патеком текст советскопольского договора о ненападении. Нажим на Москву со стороны Германии, достигший в первой половине января 1932 г. своего апогея, вскоре уступил место примирительным заявлениям. Тактика немецкой дипломатии была проста: не давать волю чувствам и скрывать свои непреодолимые расхождения с СССР, дабы не усугублять свое и без того затруднительное положение. Германская печать, не без подсказки Auswärtiges Amt, сочувственно комментировала согласованный СССР и Польшей текст договора и отмечала, что у Германии нет оснований чувствовать себя ущемленной, приводя, констатировал Крестинский, «те самые аргументы, какими мы в наших предыдущих разговорах здесь [в Москве] и Берлине успокаивали немцев”286. Советская сторона, охотно объясняли западным дипломатам на Вильгельмштрассе, лояльно информировала немцев о своих переговорах с поляками, что позволило избежать каких-либо недоразумений287. Посол фон Дирксен при посещении первого заместителя наркома иностранных дел 27 января на этот раз "очень спокойно говорил о пакте". "Он при этом прибавил, что наличие в пакте с финнами статьи, гарантирующей границы и отсутствие таковой в польском пакте производит на него и на германское общественное мнение очень благоприятное впечатление, являясь объективным подтверждением правильности нашего [советского. – О. К.] толкования второго абзаца I ст. пакта, где говорится о насильственных актах, нарушающих целостность и неприкосновенность территории"288. Cоветник германского посольства в Москве Ф. фон Твардовский беседовали (раздельно) Типпельскирх и Шлезингер (Дневник С.С.Александровского, 7.1.1932. – Там же. Л.11, 1412). 284 Запись беседы Д.Г.Штерна с Г. фон Дирксеном, 21.1.1932. – Там же. П.67. Д.3. Л.23. Две других беседы Штерна и Дирксена о советских пактах с Францией и Польшей состоялись 5 и 14 января 1932 г. 285 Запись беседы С.С. Александровского с В. фон Типпельскирхом. 7.1.1932. – Там же. П.68. Д.7. Л.11. Через несколько месяцев Типпельскирх возглавил "Русский" отдел Auswärtiges Amt. 286 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 27.1.1932. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.81. 287 F.M. Sackett to Secretary of State, Berlin, 27.1.1932. – NA. SD:761.62/266. Истинный дипломат, фон Дирксен продолжал эту линию даже в послевоенных мемуарах. Конечно, рассказывал он, "экстравагантные требования, которыми Рихард Мейер бомбардировал меня из Берлина, не могли быть полностью удовлетворены", "однако наше главное требование было недвусмысленно удовлетворено, а именно, что Советский Союз воздержался от гарантий, даже в самой косвенной форме, в отношении ныне существующих границ между Германией и Польшей" (H. von Dirksen. Moscow, Tokyo, London: Twenty Years of German Foreign Policy. Norman, Okla., 1952. P.106 (цит. по: Г. фон Дирксен. Москва, Токио, Лондон. Двадцать лет германской внешней политики. М., 2001. С.157)). 288 Письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 27.1.1932. Л.80. В действительности особой статьи о гарантии границ в договоре СССР с Финляндией не было. Согласно ст. 1 этого договора, стороны "гарантируют взаимно неприкосновенность границ", установленных между ними Тартуским договором. Упоминание о "гарантии" объяснялось незавершенностью – вплоть до весны 1938 г. – демаркации советско-финской границы (см.: А.И. Рупасов, А.Н. Чистиков. Советско-финляндская граница. 1918-1939. СПб., 2000. С.74-105), а также существованием в Финляндии оппозиционного правительству лапуаского движения, требовавшего ее пересмотра. В этой обстановке, по всей вероятности, МИД Финляндии счел ненужным раздражать соседа отказом от заявления о неприкосновенности границ. С другой стороны, в декабре 1931 г., при определении переговорной позиции СССР, заведующий 1-м Западным отделом НКИД Райвид высказывался против сохранения этого пункта в советском проекте договора ("вряд ли финны на эту формулировку пойдут и нам не стоит из-за этого спорить") (А.И. Рупасов. Указ. соч. С.168). Важно также, что стороны не брали на себя соответствующих обязательств, а лишь подтверждали приверженность существующему территориальному разграничению между ними; ссылка на уважение обязательств Мирного договора присутствовала и в договоре СССР с Польшей. Таким образом, никакого принципиального значения для советской политики в отношении соседних государств упоминание или неупоминание о взаимной гарантии общих границ в договорах о ненападении не имело и не порождало прав или обязанностей договаривающихся сторон. хвалил советских коллег за опубликование парафированного текста, соглашался, что Литвинову было неудобно ехать в Женеву без достижения согласия с Польшей, и отмечал, что в успокоении Берлина "большую роль сыграло интервью тов. Сталина, а также заверения, которые Посольство получило от НКИД по вопросу о стабильности германо-советских отношений"289. Германский дипломат не мог знать, что ровно через два года, 30 января 1934 г., именно на его долю выпадет указать представителю НКИД на то, что "в свое время Дирксен и он очень усиленно обращали наше [СССР] внимание на опасные последствия нашего [советского] пакта ненападения с Польшей". "Не подлежит сомнению, сказал Т[вардовский], что в тот день, когда был подписан пакт, было убито Рапалло, т.к. по существу в основе рапалльской политики лежало заявление, сделанное Чичериным Брокдорфу-Ранцау о том, что в случае столкновения Германии с Польшей к советской границе будет приковано не менее 15 польских дивизий"290. Запись беседы Д.Г. Штерна с фон Твардовским, 28.1.1932. – АВП РФ. Ф.082. Оп.15. П.67. Д.3. Л.23. Твардовский подходил на роль сладкогласной сирены больше своих коллег, ибо не участвовал в предшествующих демаршах посольства. 290 Запись беседы Д.Г. Штерна с фон Твардовским и фон Хильгером, 30.1.1934. – Там же. Оп.17. П.77. Д.3. Л.42 (курсив мой). 289 5. От парафирования договора к его ратификации (февраль – ноябрь 1932 г.) Прошло полгода, прежде чем парафированный текст договора о ненападении был подписан представителями Польши и СССР, а после подписания – еще пять месяцев до его ратификации Варшавой и Москвой. Переговоры, сопровождавшие этот процесс, были связаны с двумя главными требованиями Польши, которые рассматривались ею как составная часть соглашения с Советами о пакте ненападения. Первое из них состояло в принятии Советским Союзом обязательств ненападения по отношению ко всем своим соседям в Европе – от Финляндии до Румынии. Второе условие ратификации и вступления в законную силу советско-польского договора было оговорено в самом его тексте. Согласно ст. 5, обе договаривающиеся стороны обязались передавать "спорные вопросы, в отношении которых в надлежащий период времени не могло быть достигнуто соглашения дипломатическим путем", на согласительную процедуру. Соответствующая конвенция о применении согласительной процедуры объявлялась "неотъемлемой частью настоящего Договора" и подлежала ратификации одновременно с ним. Наибольшие политические трудности вызывала реализация первого условия. Слабым звеном в задуманном Варшавой "едином фронте лимитрофов" с самого начала являлась Румыния. Январские переговоры в Риге между советским и румынским уполномоченными натолкнулись на нежелание Бухареста ставить под сомнение свой суверенитет над Бессарабией и требование Москвы признать наличие территориального спора между двумя странами. Это расхождение лишало всякого смысла принятие Советским Союзом обязательства не нападать на Румынию. Формулирование той самой ст. 1, которая была с легкостью согласована обеими сторонами при подготовке договора СССР с Польшей, превратилось в неразрешимую проблему. К октябрю 1932 г., после нескольких туров переговоров при польском и французском посредничестве, формальные разногласия между СССР и Румынией свелись к тому, употреблять ли слово "existants" применительно к упоминаемым в согласованном проекте спорам. Вопреки настояниям Литвинова Кремль отказался снять свое требование о включении в пакт ссылки на "существующие споры"291. В начале 1932 г. лишь разносторонне одаренный граф Михаил Стурдза, на протяжении трех недель дискутировавший в Риге с Борисом Стомоняковым, сумел в полной мере осознать "мораль румыно-советских переговоров" и предвидеть их исход. "Самая простая проницательность, самое слабо обостренное чувство подскажут…, – писал он главе правительства Румынии, – что Бессарабия не является для СССР ни простым вопросом престижа, ни незначительным территориальным вопросом. Бессарабия осталась до настоящего времени для Советов одним из самых главных резервов драмы, которую они тщательно готовят. Бессарабия – политическая брешь, заботливо охраняемая в границах буржуазного мира, зародыш военного прорыва в их планах разрушения этого мира"292. Вряд ли кто-либо из членов высшего советского руководства специально формулировал внешнеполитические цели СССР в отношении Румынии, однако обсуждение в НКИД и Политбюро ЦК ВКП(б) ближайших задач советской дипломатии свидетельствует в пользу правоты М.Стурдзы. В переговорах с Румынией политическое руководство СССР делало ставку на то, что занятая им ультимативная позиция либо приведет к очевидной дипломатической победе, облегчающей предъявление Румынии новых требований в отношении спорной провинции, либо принесет иную выгоду – усугубит противоречия между Румынией и ее союзницами и, в конечном счете, оставит ее один на один с усиливающейся советской державой. Жесткость в переговорах с Румынией была призвана компенсировать ту, как сокрушенно писал член Коллегии НКИД, "необыкновенно быструю уступчивость, которую мы, после долгих споров, проявили в переговорах с Польшей о заключении пакта о ненападении"293. Избранная Москвой линия поведения противостояла внешнеполитическому Подробнее см.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч. С.348-354. Письмо М. Стурдзы Н. Йорге, Рига, 30.1.1932 // Советско-румынские отношения: Документы и материалы. Т.I. 1917-1934. М., 2000. С.367. 293 Письмо Б.С.Стомонякова М.М. Литвинову, Рига, 21.1.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.22. Д.65. Л.79. Впрочем, если Стомоняков, исходя из заключения соглашения с Польшей, культивировал жесткость в отношении Румынии, то Литвинов (вообще считавший, что было бы лучше признать суверенитет Румынии над Бессарабией) в середине осени 1931 г. предлагал договориться с румынами и отвергнуть предложения поляков о заключении пакта ненападения. 291 292 императиву Польши о "пакте по всей линии": политико-дипломатическая брешь – не столь важно, на Буге или на Днестре, – должна была оставаться открытой при любом исходе переговоров СССР с его западными соседями. Согласование текста договора между СССР и Польшей поэтому не только не устранило соперничества за влияние в восточноевропейском регионе, но даже обострило старое противоборство. Неудивительно, что член Коллегии НКИД с ожесточением комментировал сообщение, которое сделал Литвинову Залеский на встрече в Женеве 26 февраля (о желании Польши ввести в силу парафированный пакт одновременно с другими соседями СССР от Балтики до Черного моря), и польскую восточную политику в целом. "Таким образом, – указывал Стомоняков, – подтверждается дававшаяся нами неоднократно оценка поведения Польши в этих переговорах. Пилсудский не хотел и не хочет пакта. Он пошел на переговоры под влиянием Бриана и Бертело. Когда нажим Франции на Польшу прекратился, Польша перестала проявлять к нему интерес и дала соответствующие директивы своему верному вассалу – Эстонии"294. 4 мая 1932 г. переговоры Москвы со странами Балтии о пактах ненападении завершились: нарком Литвинов и посланник Сельямаа поставили свои подписи под договором о ненападении между СССР и Эстонией (советско-латвийский пакт был подписан в Риге тремя месяцами ранее). Хельсинки, Рига и Таллинн не скрывали своего намерения ратифицировать пакты с СССР в самом близком будущем. Согласие СССР на одновременное заключение пакта со всеми лимитрофами, включая Румынию, превращалось из успеха польской дипломатии в новое осложнение для восточной политики Варшавы. Дальнейшая солидаризация с неуступчивой Румынией перерастала в зависимость от нее и грозила отчуждением Польши от балтийских стран. Перед завершением советско-эстонских переговоров польское руководство вновь предложило Румынии и СССР свое посредничество, одновременно предупреждая союзницу, что в случае провала второго раунда переговоров Польша подпишет пакт с Советами самостоятельно. В конце мая Залеский информировал об этом решении наркома Литвинова 295, тем самым признав обременительность для Польши дальнейшей поддержки Румынии. Месяцем позже польский министр вручил главе советского дипломатического ведомства новый проект договора между СССР и Румынией. "Литвинов обещал обсудить предложение Залеского и дать ответ, но тут же заметил от себя, что несогласие Румынии упомянуть о наличии спорных вопросов помешает заключению пакта и что Польше в таком случае придется подписывать пакт без Румынии, Залеский промолчал, не заявил о неприемлемости для него такой перспективы. По ряду имеющихся информаций Польша готова ратифицировать пакт одновременно с прибалтами без Румынии. Полагаем, что формулировка ЗалескогоТитулеску неприемлема и что в вопросе о Бессарабии надо остаться на прежней позиции", – телеграфировали Сталину руководящие члены Политбюро, прося сообщить свое мнение. Тот, разумеется, согласился296. 28 июня Политбюро утвердило телеграмму наркому Литвинову, которая подтверждала прежнюю советскую позицию и предписывала "принимать меры к тому, чтобы задержка заключения пакта с Румынией не имела своим последствием отсрочки подписания и ратификации пакта с Польшей"297. Литвинов получил это указание одновременно с известием о том, что Латвия первой из соседних стран ратифицировала пакт с Советским Союзом. Руководитель НКИД перешел в наступление и заявил Залескому, что "если польское правительство действительно хочет благополучного окончания Письмо Б.С.Стомонякова В.А. Антонову-Овсеенко, 5.3.1932. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.16. П.160. Д.8. Л.11. Запись беседы М.М. Литвинова с А. Залеским, Женева, 24.5.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.330. 296 Телеграмма В.М. Молотова, Л.М. Кагановича, К.Е. Ворошилова и Г.К. Орджоникидзе И.В. Сталину, 26.6.1932 // О.В. Хлевнюк и др. (сост.). Указ. соч. С.194. Информационная часть шифротелеграммы почти дословно повторяла соответствующее сообщение Литвинова в НКИД и записку его заместителя в Политбюро (см.: Телеграмма М.М. Литвинова в НКИД СССР, Женева, 23.6.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.380; Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу, 25.6.1932. – АВП РФ. Ф.09. Оп.7. П.35. Д.5. Л.55-56). Цитируемые формулировки интересны тем, что отражают восприятие женевских переговоров руководящей группой Политбюро. Это послание, предлагавшее Сталину ответить на риторический для советской политики вопрос, подтверждает, что переговоры с Румынией находились под личным контролем Генерального секретаря (см.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч. С.326). Возможно, это частично вызывалось опасениями, что без такого контроля Литвинов может зайти слишком далеко в уступках Румынии и поставит Политбюро перед необходимостью согласиться с ними. 297 Протокол № 106 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.6.1932. – РГА СПИ. Ф.17. Оп.162. Д.13. Л.3, 9. 294 295 переговоров, то единственным средством является скорейшее подписание пакта, после чего румынское правительство станет более разумным"298. Через несколько дней Пилсудский дал указание МИД Польши о подписании договора ненападения с СССР, отложив его ратификацию до заключения советско-румынского пакта. Подписание было поручено Станиславу Патеку, однако 5 июля советник польской миссии предупредил Наркоминдел, что "он болен и долго не сможет выходить". Патек "уже начал характерные для него фокусы", оценил это известие Стомоняков. Он предполагал, что Патек, «получив поручение подписать пакт, разрабатывает какой-то большой "стратегический" план, сносится с Варшавой и, может быть, с лимитрофами и, чтобы выиграть время, сказался больным». Тем не менее, "поскольку связь с Румынией обеспечена и Румынии от Польши бежать некуда, а прибалты являются все же "ненадежными клиентами", Польша, надо полагать, заинтересована в том, чтобы действительно поторопиться с заключением пакта"299. Из-за отсутствия наркома Литвинова подписать договор со стороны СССР выпало на долю его заместителя Крестинского, который полутора годами ранее не стеснялся признать, что "вообще был бы огорчен, если бы нам пришлось заключить пакт с поляками"300. Чувства его вряд ли изменились. За десять дней до того, как Крестинский поставил подпись под договором о ненападении, он направил в Политбюро ЦК ВКП(б) предложение по организации обмена политзаключенными, которым предполагалось сопроводить это подписание. Особое внимание заместитель наркома уделил яркой фигуре Б. Тарашкевича, ожидавшего в Польше суда. "Для нас Тарашкевич представляет ценность не только как видный работник Польской Компартии вообще, но и особенно как признанный вождь рабочекрестьянских масс Западной Белоруссии. Его пребывание на советской территории имеет огромное значение на случай войны с Польшей, – докладывал Крестинский. – Тов. Тарашкевич принес бы нам в этом случае огромную пользу не только в агитационно-пропагандистской работе на Белорусском фронте, но, вероятно, сыграл бы большую роль в органах революционной власти в случае занятия нами Западной Белоруссии"301. Судя по всему, Крестинский довольно ясно представлял вероятное развитие событий после принятия Союзом ССР обязательств воздерживаться от "всякого акта насилия, нарушающего целость и неприкосновенность территории или политическую независимость" Польской Республики. 25 июля 1932 г. в особняке Наркоминдела на Кузнецком мосту договор о ненападении между СССР и Польшей был наконец подписан. По завершении процедуры Крестинский осведомился у посланника, когда он намерен приступить к переговорам о примирительной процедуре. "Вопрос мой был вызван тем, – писал Крестинский в Варшаву, – что полномочие у Патека было подписать и пакт, и конвенцию о примирительной процедуре. Патек на это ответил, что он в среду или четверг (27 или 28 июля) уезжает в Варшаву, чтобы повидаться с возвращающимся из своего имения маршалом и переговорить с МИД, и приступит к дальнейшим переговорам по возвращении302. Вместе с посланником Пилсудский вызвал к себе государственного секретаря Ю. Бека, начальника Восточного отдела Т. Шетцеля и военного атташе в Москве Я. Ковалевского. "По сведениям С. Семполовской, которая беседовала с Патеком после его возвращения от маршала, вопрос о ратификации дело далекого будущего. Пилсудский заявил им, что пока довольно того, что сделано, что сейчас Польша не поставлена в такие условия, при которых ей нужно было особенно торопиться"303. Телеграмма М.М. Литвинова в НКИД СССР, Женева, 30.6.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.393. Письмо Б.С. Стомонякова Б.Д. Подольскому, 7.7.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.90-89. 300 См. выше (часть 1). 301 Записка Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу, 15.7.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.236. 302 Письмо Н.Н. Крестинского Б.Д. Подольскому, 25.7.1931. – Там же. Л.82. 303 Письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, Варшава, 6.8.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.63. Л.255. От такого ответа Патек якобы "растерял все свое повышенное настроение, которое как рукой сняло" (Дневник временного поверенного в делах Б.Д.Подольского, 6.8.1932. – Там же. Д.64. Л.316). Возможно, к этому посещению Пилсудского относится и другое свидетельство известной общественной деятельницы, выполнявшей деликатную миссию представителя советского Красного Креста в Польше и неофициально информировавшей полпредство о настроениях правительственных кругов. "Бек исключительно влиятелен; С[емполовск]ая с просьбой не разглашать рассказывает, что Патек на себе испытал это: в последний раз он с Ковалевским пробыл (sic) три дня (sic) у маршала и убедили его в определенных вещах, но приехал Бек и, после 15-минутной с ним беседы маршал снова их призвал и изменил свои решения сообразно тому, что говорил Патеку несогласный с ним Бек» (Там же. Д.64. Л.334-333.) 298 299 Откладывание переговоров о согласительной конвенции и ратификации договора с Польшей "очень обрадовало" члена Коллегии НКИД Стомонякова, поскольку увеличивало разрыв во времени между ратификацией аналогичных договоров СССР с балтийскими странами. "Таким образом, мы можем с удовлетворением констатировать, – писал Стомоняков своему коллеге, – что борьба, которую Польша в течение 6 лет ведет за образование единого фронта лимитрофов под руководством Польши в деле заключения пактов, кончается не в ее пользу. Мы будем иметь, по-видимому, три этапа вместо одновременного введения в силу всех пактов. Сначала вступает в силу финляндский пакт, потом латвийский и эстонский и уже после этого польский, вероятно, вместе с румынским, а может быть даже и одновременно с французским"304. В отношении пакта СССР с Румынией этот прогноз оказался ошибочным. В начале ноября переговоры между ними окончательно зашли в тупик, что были вынуждены признать правительства Польши и Франции, пытавшиеся помочь отысканию компромисса. В октябре 1932 г., в обстановке нарастания социально-политического кризиса в Германии и общеевропейской нестабильности, правительство Папена объявило, что до удовлетворения требования Германии о "равноправии в вооружениях" она покидает Конференцию о разоружении и прекращает свое членство в Лиге Наций. Потребность в укреплении международного режима безопасности требовала от Парижа и Варшавы по меньшей мере нормализовать свои политические отношения с Советским Союзом. 21 октября влиятельные пилсудчики – редакторы "Gazety Polskiej" И. Матушевский и Б. Медзиньский и вицеминистр финансов А. Коц – устроили завтрак для полпреда Антонова-Овсеенко и говорили с ним об "общности нашего с вами положения перед лицом германской опасности", о том, что в Польше, в отличие от Англии и Германии, "интервенционистские тенденции" "совершенно незначительны" и "вы должны бы стремиться к дружественным отношениям с нами"305. В конце октября Залеский сообщил полпреду Антонову-Овсеенко, что продолжение польского посредничества возможно лишь в случае предоставления Румынией "гарантии доброй воли". Если же соглашение между СССР и Румынией окажется невозможным, то "Польша сочтет себя свободной в ратификации пакта". В предвидении этого министр предложил "вскоре закончить вопрос о согласительной конвенции"306. Эта важная беседа с советским представителем была одной из последних акций Августа Залеского на послу главы Министерства иностранных дел. Перевод любимца Пилсудского Юзефа Бека в МИД в ноябре 1930 г. явился (как докладывал Антонов-Овсеенко) симптомом изменения в "советской политике" польского правительства, предпринявшего тогда попытку вступить в переговоры об урегулировании отношений с СССР. Назначение его 2 ноября 1932 г. министром иностранных дел означало, среди прочего, решимость закрепить перемены, происходившие в польско-советских отношениях за минувшие два года307. Когда Антонов-Овсеенко 14 ноября заметил Беку, что неопределенность положения компрометирует намеченный Польшей политический курс на установление "ясных, недвусмысленных добрососедских отношений", новый министр ответил обещанием дать указание Патеку о вступлении в переговоры с НКИД о заключении согласительной конвенции308. На этот раз Патек действовал без промедления и 16 ноября предложил Литвинову завершить переговоры о согласительной конвенции, начатые годом ранее. Они были нелегкими. Если Польша, как и большинство других государств, вступавших в переговоры о заключении согласительных конвенций с Советами, была заинтересована в создании Письмо Б.С. Стомонякова Н.Н. Крестинскому, Берлин, 26.7.1932. – Там же. Л.240-240об. Стомоняков находился в Германии на лечении и запамятовал, что "латвийский пакт" вступал в силу ранее финляндского (28 июля и 9 августа соответственно). 305 Дневник полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, 24.10.1932 (запись 21 октября). – Д.64. Там же. Л.336. 306 Телеграмма В.А. Антонова-Овсеенко в НКИД, Варшава, 31.10.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.595 307 Одновременно был окончательно решен вопрос о замене С. Патека Ю .Лукасевичем в качестве нового посланника Польши в СССР (другим кандидатом на эту должность был Б. Медзиньский). Ощущение, что достигнутый осенью 1932 г. рубеж в отношениях СССР и Польши склоняет к кадровым переменам, присутствовало и в Наркомате по иностранным делам. В конце ноября, в связи с желанием В. Антонова-Овсеенко "перебраться в СССР", Крестинский предложил ему пост представителя НКИД в Тифлисе. Полпред отказался, но продолжал ожидать решения о своей "дальнейшей работе" (Личное письмо Н.Н. Крестинского В.А. Антонову-Овсеенко, 29.11.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.23; Личное письмо В.А. Антонова-Овсеенко Н.Н. Крестинскому, Варшава, 6.12.1932. – Там же. Л.24). 308 Запись беседы В.А. Антонова-Овсеенко с Ю. Беком, 14.11.1932 // ДВП СССР. Т.15. С.608-609. 304 автономного института рассмотрения двусторонних споров и наделении его возможно большими полномочиями, то советские руководящие инстанции относились к согласительной процедуре как обременительной для них уступке международному праву. В силу очевидных причин (и в полном противоречии с российской политикой времен Николая II) советская дипломатия изначально отрицательно относилась к принципу судебного разрешения международных конфликтов и основанному на нем арбитражу309. Взамен ей пришлось согласиться на использование двусторонних согласительных комиссий как правового механизма разрешения споров. Впервые образование таких комиссий было предусмотрено советско-латвийским договором о ненападении (парафированным в марте 1927 г., но так и не подписанным сторонами). В начале 1929 г., когда вслед за заключением с Германией особой конвенции о согласительной процедуре, перед Москвой встал вопрос о применимости этого инструмента в отношениях с другими государствами, Коллегия НКИД констатировала "отсутствие политической заинтересованности Союза в заключении согласительных конвенций с иностранными государствами" и рекомендовала всячески уклоняться от вступления в переговоры на этот счет310. "Коллегия исходила при этом из того основного положения, что при отношении к нам капиталистического мира и при характере возникающих с ним конфликтов согласительные комиссии лишь в редких случаях будут приводить к удовлетворительным результатам". С другой стороны, разъяснял тогдашнему полпреду в Польше член Коллегии НКИД, "количество спорных вопросов, возникающих из неправильного применения договоров или их нарушения, в которых мы (т.е. СССР) заинтересованы, крайне невелико. Зато другая сторона заинтересована во многих таких делах, поскольку наш аппарат дает больше оснований для жалоб на нарушение договоров или прав граждан"311. Соответственно главными задачами при переговорах с лимитрофами назывались лишение согласительных комиссий атрибутов постоянного органа по расследованию инцидентов и внесение в конвенции формулировок, обеспечивающих для Москвы возможность "непринятия практических мер по спорным вопросам, подвергнутым согласительной процедуре"312. Принципиальные разногласия по существу согласительной процедуры заняли немалое время на польско-советских заседаниях в декабре 1931 г. (в особенности на переговорах 1 и 16 декабря). Литвинов и Стомоняков добились отказа от намерения Польши поручить руководство согласительной комиссией нейтральному председателю (т.е. лицу, являющемуся гражданином какой-либо третьей страны) и расширить полномочия комиссии вплоть до включения в ее компетенцию разбора старых конфликтов, связанных с исполнением Рижского мирного договора. В конечном итоге польская дипломатия предпочла пожертвовать содержанием согласительной конвенции, нежели идти на большие уступки в отношении текста пакта о ненападении, а советская сторона согласилась на одновременное введение в силу пакта и конвенции при условии, что при составлении последней за образец будет принята советскогерманская согласительная конвенция (продобно тому, как это было сделано)313. В Протоколе подписания № 2, скрепленном Патеком и Крестинским 25 июля, констатировалось "отсутствие между сторонами существенных разногласий… по поводу представленного советской стороной проекта согласительной конвенции". Речь поэтому могла идти лишь о внесении поляками поправок к этому проекту. Таких поправок было предложено четыре. Первая из них придавала согласительной комиссии постоянный характер, что позволяло передавать ей спорные вопросы в любое время. Во-вторых, "принимая во внимание значительность границ между СССР и Польшей", предлагалось исключить из компетенции согласительных комиссий вопросы об изменении территориального статута; согласительная комиссия при этом могла бы служить второй инстанцией при разрешении пограничных Правда, на Московской конференции по сокращению вооружений (1922 г.) М.М. Литвинов заявлял, что возглавляемая им делегация «никогда не отвергала в принципе идею арбитража» и лишь отмечает недостаточность этого инструмента. Декларация 1922 г. явилась изолированным эпизодом, не имевшим серьезных последствий (см.: M.W. Graham. The Soviet Security Treaties // American Journal of International Law. Vol.23. Issue 2 (Apr. 1929). P. 338, 343-344). 310 Выписка из протокола № 23 заседания Коллегии НКИД от 6.3.1929. – Там же. Ф.0122. Оп.13. П.145. Д.9. Л.10. 311 Письмо Б.С. Стомонякова Д.В. Богомолову, 9.3.1929. – Там же. П.144. Д.2. Л.43. 312 А.И. Рупасов. Указ. соч. С.178. 313 Дополнение к протоколу № 3 заседания по делу пакта о неагрессии 1 декабря 1931, 2.12.1931. Л. 355; Запись переговоров по делу пакта о ненападении 16.12.1931, 16.12.1931. Л.390-386; Запись беседы М.М. Литвинова с С. Патеком, 13.1.1932. С.25. 309 конфликтов, рассматриваемых пограничными комиссиями. Третье возражение касалось советского пожелания, чтобы процедура работы комиссии устанавливалась не конвенцией, а решениями самой комиссии. Наконец, Варшава настаивала на предоставлении Москвой обязательства автоматически распространить на отношения с нею арбитражную процедуру, если СССР в будущем даст согласие на арбитраж какому-либо государству. Впрочем, в тексте польского проекта, который Патек передал главе НКИД, были и другие новации. Так, ст. 10 адресовала стороны к правилам Гаагской конвенции 1907 г. о мирном разрешении споров и "ведении расследований (дознаний)"314. После изучения польского варианта Литвинов заявил, что он "радикально отличается от внесенного нами в свое время". Это относится, говорил Литвинов Патеку 17 ноября, как к статьям о постоянной работе согласительной комиссии, так и к "некоторым другим положениям польского проекта", которые уже "были предметом требований со стороны других наших контрагентов, но мы их неизменно отклоняли. Мы попали бы в неудобное положение, если бы после этого приняли предложения, предлагаемые Польшей". Рассмотрение проекта Патека "может потребовать длительных переговоров", предупредил Литвинов, особенно если польская сторона будет настаивать на своих пожеланиях относительно постоянного характера и компетенции согласительных комиссий. Вместо этого посланнику предлагалось "выбрать любую конвенцию, заключенную нами с другими странами", в качестве прототипа польско-советского соглашения о согласительной процедуре. Литвинов отверг и последнее предложение Патека – об обещании распространить на споры с Польшей арбитражную процедуру, если СССР признает такую процедуру в отношениях с каким-либо государством315. МИД Польши в целом согласился с предложенным Литвиновым образом действий, сообщил Патек на следующей встрече (19 ноября), однако возражает против отказа от последнего польского предложения. "...Мы отнюдь не отказываем Польше в арбитраже, – прервал его Литвинов, – а только не желаем заранее связывать себя, что отнюдь не означает, что если у нас будут арбитражные договоры с другими странами, мы обязательно откажем в этом Польше". Патек ответил, что «от этого условия Варшава не откажется и поставит вопрос ультимативно». Руководитель НКИД дал понять, что если такое обязательство со стороны СССР останется в секрете, то оно будет предоставлено Польше в обмен на ее отказ от внесения других поправок316. 21 ноября посланник вручил "новый контрпроект, составленный, как он выразился, в духе финской, французской и других конвенций"317. В тот же день член Коллегии Стомоняков и заведующий 1-м Западным отделом Райвид представили наркому заключение по новому польскому проекту. По большинству статей они считали возможным ограничиться небольшими поправками. Главные возражения были связаны с редакцией двух статей (ст.2 и 4), которая была заимствована из советскофинляндской конвенции от 22 апреля 1932 г. Переговоры с финнами о ее заключении велись в большой спешке, отчасти вызванной желанием отделить государства восточной Балтии от Польши. Полпред Майский, которому было поручено ведение переговоров, предлагал отступить от обычного требования о том, что на заседание комиссии могут приглашаться только эксперты, но никак не свидетели. Заместитель наркома Крестинский от имени Коллегии обратился в Политбюро с компромиссным предложением разрешить вызов свидетелей с согласия обеих сторон. Высшая инстанция (возможно, под влиянием аргументов Стомонякова) указала "не уступать в вопросе о свидетелях", но разрешила добавить, что, "кроме экспертов, в случае согласия обоих сторон, могут быть приглашены и другие лица" ("сообщения которых", пояснялось в директиве Майскому, "будут признаны полезными"). Полпред отклонился от этой директивы и, якобы из-за недостаточного знания французского языка, согласился на термин "déposition" (свидетельское показание) – вместо "information". В результате неопределенные "лица" оказывались именно свидетелями318. Последующие переговоры с Латвией о согласительной Дневник М.М. Литвинова. Прием Патека 16.11.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.339; "Польский проект согласительной конвенции, врученный Патеком тов. Литвинову 16 ноября 1932 г." (перевод, с пометами Литвинова). – Там же. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.15-21. 315 Дневник М.М.Литвинова. Прием Патека 17.11.1932. – Там же. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.342-341. О реакции Литвинова на третью польскую поправку в документе не упоминается (об этом см. ниже). 316 Дневник М.М.Литвинова. Прием Патека 19.11.1932. – Там же. Л.344 317 Дневник М.М.Литвинова. Прием Патека 21.11.1932. – Там же. Л.346; Согласительная Конвенция между Польшей и Союзом ССР (вручено Патеком Литвинову 21.12.1932). – Там же. Л.44-38. 318 О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч. С.305-308. 314 конвенции, констатировал Стомоняков, были для советской стороны "очень неприятны и порой мучительны – исключительно из-за финляндской конвенции"; сходные требования поначалу выставила и Эстония. В июне Москве удалось сломить сопротивление Риги и Таллинна, однако прецедент Гельсингфорсской конвенции оставался в силе. Если протестовать против права комиссии допрашивать свидетелей (о чем также упоминалось в польском проекте) НКИД не составляло труда, то относительно замены "показаний" на "сообщения" (в ст. 2) Стомонякову и Райвиду приходилось высказывать лишь пожелание. "Статья четвертая, – отмечалось в их заключении по проекту Патека, – является почти точным воспроизведением текста финляндской конвенции, который, однако, надо признать неудачным. Этот текст дает возможность полякам, если не формально, то фактически превратить Согласительную Комиссию в постоянный институт" (поскольку устанавливает регулярный созыв комиссии). Записка Литвинову завершалось следующими рекомендациями: "Представленный сегодня Патеком проект настолько отличается от проекта, предложенного им 16 с.м., что не подлежит сомнению, что этот новый проект предложен им по своей инициативе и не является результатом варшавских инструкций. Из этого надо сделать вывод, что Патеку даны достаточно широкие полномочия и что он торгуется, стремясь путем всяких запугиваний получить от нас наиболее выгодный для Польши проект. Мы поэтому предполагаем, что при соответствующем нажиме с нашей стороны он пойдет на дальнейшие уступки. Сильным козырем в наших руках является по-прежнему то обстоятельство, что 25 июля Патек сам подписал протокол, в котором зафиксировано, что у Польши нет принципиальных возражений против нашего проекта согласительной конвенции. Можно, в конце концов, предоставить уступку в вопросе об арбитраже в качестве цены за соответствующие уступки Патека в отношении о посредниках, свидетелях, документах и т. п."319 Эту программу советской стороне удалось реализовать лишь в минимальной степени. Окончательная договоренность между главой НКИД и посланником Польши включала полное или частичное признание всех четырех польских поправок320. Подписанная 23 ноября 1932 г. конвенция о согласительной процедуре между Союзом ССР и Польшей устанавливала участие совместной согласительной комиссии в рассмотрении пограничных конфликтов, но сохраняла неподотчетность ей территориальных вопросов. "Оговорка относительно территориальных вопросов..., – пояснялось в Протоколе № 1, являвшемся приложением к конвенции, – означает, что из согласительной процедуры исключаются все споры, касающиеся либо изменений, либо юридических оснований территориального статута обоих Государств, установленного согласно Рижского Договора от 18 марта 1921 года"321. Польские пожелания относительно компетенции согласительной комиссии и порядка ее работы нашли отражение в соответствующих статьях, без изъятий повторявших "финляндскую" редакцию. Наконец, одновременно с конвенцией Литвинов и Патек подписали Заключительный протокол, основная часть которого гласила: "В случае, если Союз Советских Социалистических Республик заключит Арбитражную Конвенцию с третьим государством, Правительство Польской республики будет иметь право требовать заключения между ним и Правительством Союза Советских Социалистических Республик специальной Конвенции, основанной на аналогичных началах. То же право принадлежит Правительству Союза Советских Социалистических Республик". Во втором абзаце оговаривалось, что хотя, будучи секретным, этот протокол не подлежит ратификации, его постановления имеют ту же силу, как если бы он был включен в ратификационную грамоту322. Согласительная конвенция и конфиденциальные приложения к ней ставили Польшу в едва ли не исключительное положение среди других международных партнеров Советского Союза. Пожалуй, ни одному другому государству не удалось получить от него столь широких обязательств о взаимоприемлемом разрешении споров и одновременно закрыть последнюю политико-юридическую возможность подвергнуть сомнению Записка Б.С. Стомонякова и Н.Я. Райвида М.М. Литвинову, 21.11.1932. – АВП РФ. Ф.010. Оп.4. П.21. Д.64. Л.4745. 320 При прощании 21 ноября Литвинов и Патек условились встретиться на следующий день. Запись беседы 22 ноября в изученных архивных делах отсутствует, но итоговые совместные документы возмещают этот пробел. 321 Протокол № 1, Москва, [23].11.1932 (заверенная копия, изготовленная перед подписанием протокола Литвиновым и Патеком). – Там же. Ф.05. Оп.11. П.78. Д.85. Л.8. Протокол № 1 заменял обмен секретными нотами, предложенный для урегулирования этого вопроса Стомоняковым и Райвидом. Протокол не имел грифа секретности, но не подлежал опубликованию. 322 Заключительный протокол ("доверительно"), Москва, 23.11.1932 (заверенная копия). – Там же. Л.9. 319 установления Мирного договора. Немногословный Ю.Бек откликнулся на подписание согласительной конвенции специальным интервью представителю ТАСС, чтобы подтвердить ее принципиальное значение для польских интересов и, прибегнув к эвфемизму о "взаимной доброй воле", воздать должное сговорчивости Москвы323. Оставалось покончить с формальностями. 25 ноября Совет Народных Комиссаров утвердил договор между СССР и Польшей от 25 июля и конвенцию от 23 ноября 1932 г. и представил их для ратификации Центральным Исполнительным Комитетом СССР. "По условиям договоренности с Польским правительством необходимо провести через Президиум ЦИКС ратификацию польского пакта 27-го ноября 1932 г.", – телефонировал Литвинов в Кремль324. В указанный день ЦИК СССР в Москве и Президент Польши в Варшаве ратифицировали эти двусторонние акты. В полдень 23 декабря министр Бек и посланник Антонов-Овсеенко обменялись ратификационными грамотами. В преддверии поворотного для судеб Европы 1933 года пакт о ненападении между СССР и Польшей вступил в силу. 6. Вместо заключения Суждение о переменах, которые внесло в советскую внешнюю политику заключение договора о ненападении с Польшей, оценка их глубины и устойчивости и, тем самым, – значения этого акта для истории отношений России с Польшей, зависит от ответа на вопрос: почему советское руководство решило заключить пакт о ненападении с Польшей? Природа рассматриваемого сюжета побуждает начать поиск такого ответа в пределах "истории трактатов" (storia di trattati, как элегантно называют итальянцы историю внешней политики и дипломатии). Стабилизация внешнего положения Советской России, ее участие в международных сношениях направляли иностранную политику в русло осторожного соблюдения старого принципа баланса сил. "Поддержать слабейшего" – так, "по-народнически" формулировал его Чичерин в конце 20х гг. В широком значении этот постулат не исключал и даже предполагал оказание СССР содействия движениям национальных меньшинств – "подрывной" по своему существу деятельности, однако в целом ориентировал внешнюю политику Москвы на поддержание международного равновесия и получение выгод от участия в мирной эволюции мировой системы. Возрождение империалистической Германии создавало предпосылки для постепенной эволюции внешней политики СССР от противодействия гегемонии версальских государств к поддержке стран, заинтересованных в недопущении германского господства на континенте, и в рамках этой эволюции – к нормализации отношений с Польшей325. Убедительность такого объяснения ослабляют, с одной стороны, представленные выше документальные сведения о том, как принималось решение о вступлении в переговоры с Польшей и, с другой стороны, общие наблюдения над международной политикой Москвы. Понятие эволюции предполагает наличие целостного организма или системы, но применительно к советской внешней политике уместно усомниться в существовании подобной целостности. "Выделять "внешнюю политику" из политики вообще... есть в корне неправильная, немарксистская, ненаучная мысль", – объяснял Ленин326. Применительно к СССР 20-30-х гг. это было верное описание его "иностранной политики". Люди, профессионально занимавшиеся ею – руководители и сотрудники НКИД, дипломаты и аналитики, мыслили в категориях главным образом внешней политики и международной дипломатии. Те же, кто ими повелевал, обычно обсуждали международные дела в духе обывательского зубоскальства или идеологической геополитики327. Как мы видели на примере переписки 323 J. Beck. Przemówienia, deklaracji, wywiady. Warszawa, 1939. S.41. Постановление СНК СССР № 1747/365c от 25.11.1932. – Государственный архив РФ. Ф.3316. Оп.2. Д.1226. Л.1; Срочная телефонограмма М.М. Литвинова А.С. Енукидзе, 25.11.1932 (17 ч. 20 мин.).– Там же. Л.2. 325 Подробнее эти тезисы представлены: О. Ken. Collective Security or Isolation. Soviet Foreign Policy and Poland, 1930-1935. St.Petersburg, 1996. P.14-23. 326 В.И. Ленин. ПСС. Т.30. С.93 (цит. по: Э.А .Поздняков. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. М., 1986. С.10). 327 Некоторые примеры "низкого" и "высокого" стилей приведены в настоящем очерке, другие читатель найдет в сборниках переписки советских вождей. Анализ языка (и мышления) Сталина см. также: Л. Баткин. Сон разума: О социально-культурных масштабах личности Сталина // Знание – сила. 1989. № 3. C.80-95; № 4. С.69-77; М. Вайскопф. Писатель Сталин. М., 2001. 324 Кагановича со Сталиным и подготовки постановлений Политбюро осенью 1931 г., в тех случаях, когда эти документы содержали четкие внешнеполитические инструкции, авторами предлагаемых формулировок неизменно являлись руководители НКИД. Напротив, в тех случаях, когда их предложения отвергались, это делалось на невнятном и лишенном мотивировок бюрократическом жаргоне. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), инициировав пересмотр советской линии в отношении Польши, без труда дал оценку умственных способностей Карахана, но ничего не сказал о том, как исправить "допущенную ошибку", и тем более о том, какие выгоды предоставляет заключение пакта с Польшей, с какими внешнеполитическими рисками это может быть связано, каким образом они могут быть уменьшены и т. д. Высшее партийно-государственное руководство не подвергло сомнению утверждение Литвинова, что "польско-советские отношения не могут быть обсуждаемы вне рамок всей нашей внешней политики", но не пожелало посвятить этому "специальное заседание Политбюро", как предлагал руководитель НКИД328. Для советских вождей существовали внешнеполитические вопросы в рамках "политики вообще", а не внешняя политика как таковая. Такое утверждение, возможно, излишне ригористично, поскольку игнорирует индивидуальные различия между членами политического руководства. Несомненно, Сталин и, отчасти, Молотов стремились приобщиться к международной дипломатии (в силу деловой необходимости контролировать "правого" Литвинова? из-за желания овладеть традиционно престижной эзотерикой дипломатического механизма? ради упрочения собственного авторитета?). Некоторые соображения относительно общей направленности внешнеполитических усилий СССР могли появляться и у иных членов правящей группы329. В связи с директивным посланием Сталина от 31 августа выше было высказано предположение, что его заявление о необходимости "довести до конца" "дело" о пакте с Польшей было связано с раздумьями о необходимости сойти с рельс антиверсальской и прогерманской политики. Намек на этот счет дал и Каганович, отметив, что, по его мнению, "вообще НКИДовцы держатся чересчур предупредительно по отношению к Германии" и "не учитывают, что у нас нет такой обстановки, которая вынуждала бы нас забегать перед Германией"330. Но есть ли достаточные основания придавать этим отрывочным высказываниям расширительный характер? Не руководит ли нами естественная человеческая слабость – желание увидеть в обладателях высшей власти носителей высшего знания, поднять их мышление на высоту, соответствующую масштабу их исторической роли, и для этого усмотреть в эпистолах вождей тот общий взгляд на международные процессы и задачи внешней политики, который в действительности им был присущ в самой незначительной мере? Во всяком случае, доступные материалы свидетельствуют об отсутствии у советского руководства отчетливых внешнеполитических идей и концепций, которые могли бы обосновать поворот в отношениях СССР с ее самым сильным соседом на западе331. В сталинском послании от 30 августа 1931 г. необходимость заключения договора о ненападении с Польшей объяснялась "коренными интересами революции и социалистического строительства". В первой половине 1931 г. произошли важные сдвиги в понимании Сталиным ближайших перспектив “социалистического строительства”. В декабре 1930 г. ЦК ВКП(б), развивая "наступление социализма по всему фронту", утвердил на следующий год самый авантюристический хозяйственный план в истории советской плановой экономики. Предписанное им увеличение промышленного производства в 1931 г. на 45 процентов означало, как разъяснял Сталин в феврале, не только выполнение пятилетки в четыре года ("это дело уже решенное"), но и установку на ее завершение в три года "по основным решающим отраслям промышленности". "Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых мы не смеем и мечтать", – заканчивал Сталин свою речь перед работниками социалистической промышленности332. Уже несколькими месяцами позже, на совещании хозяйственников в июне 1931 г. он был вынужден взять иной тон и посвятить свою речь Записка М. М. Литвинова Л. М. Кагановичу (копии членам Политбюро), 15.9.1931. Л.254. Вспоминая 20-е гг., Молотов, впрочем, утверждал, что поступавшие в ЦК "секретные шифровки" по международным делам "никто не читал, кроме меня" (Ф. Чуев. Молотов: Полудержавный властелин. М., 1999. С.246). 330 Письмо Л.М.Кагановича И.В.Сталину, 11.9.[1931]. C.94. 331 Обсуждение этой темы см. также: О.Н.Кен, А.И.Рупасов. Указ. соч. С.75-78. 332 И. Сталин. О задачах хозяйственников: Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, 4 февраля 1931 г. // Он же. Сочинения.Т.13. М., 1952. С.42. 328 329 проблеме невыполнения текущих планов в основных отраслях промышленности. "Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства"; пришлось заговорить о "новых условиях развития нашей промышленности" и даже убеждать хозяйственный актив в том, что "наша производственная программа может и должна быть осуществлена"333. Другим ограничением, на которое натолкнулось осуществление "генеральной линии" в 1931 г., стала невозможность выполнить план государственной заготовки зерна. В конце августа Сталин санкционировал уменьшение плановых заданий для нескольких областей Сибири и Поволжья, особенно пострадавших от засухи, и двойное сокращение фонда зерна на животноводство334. Тем временем быстро возрастал дефицит внешнеторгового баланса. Возражая против наращивания экспорта дешевеющего на мировых рынках зерна, Сталин настаивал на ограничении импорта технологического оборудования и в конце августа, ввиду "валютных затруднений и неприемлемых условий кредита", потребовал "воспретить дачу новых заказов в Америку"335. "Генеральная линия" оставалась прежней, но ее осуществление требовало изменения тактики, и в оценке советскими руководителями ближайших перспектив преобразования страны происходила смена акцентов. Главным аргументом для подхлестывания страны оставалась ссылка на внешние обстоятельства и "волчий закон капитализма": "Ты отстал, ты слаб – значит ты неправ, стало быть тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть тебя надо остерегаться. Вот почему нам нельзя больше отставать"336. В середине июле 1931 г. по инициативе Сталина возглавляемая им Комиссия Обороны Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР дала старт программе постройки к концу 1935 г. 200 подводных лодок и 40-50 эскадренных миноносцев. Вслед за этим, накануне отъезда Сталина на юг, Комиссия Обороны приняла новую танковую программу, предусматривавшую производство к концу 1932 г. 8200 танков сопровождения. То была совершенная фантастика337. Эсхатология собственных планов (хозяйственных и военных) и необходимость все больше считаться с "сопротивлением материала" создавали в высшем руководстве полуосознанное стремление перво-наперво разделаться с этими проблемами, устранив все то, что могло бы затруднить исполнение задач по коренной переделке страны и ее превращению в могущественную державу. Более десяти лет большевистское руководство культивировало представление о Польше как главном, ближайшем вероятном противнике, плацдарме антисоветской интервенции. Военная тревога конца зимы – начала весны 1930 г. актуализировала этот стереотип. Теперь он обернулся иной стороной. Возможное обязательство Польши воздерживаться от проведения агрессивной политики представлялось тем более важным, чем большими были подозрения в отношении ее целей на востоке. Вручение Патеком проекта договора о ненападении на пороге осени 1931 г. оказалось как нельзя более кстати. Руководители советской дипломатии, сравнительно далекие от проблем проведения "генеральной линии" (и более взвешенно оценивавшие положение в Европе с точки зрения ближайших интересов СССР), не увидели и не могли увидеть в польском предложении той необычайной ценности, которую усмотрел в нем озабоченный общеполитическими ("внутренними" по своему существу) задачами Сталин: "Дело это очень важное, почти решающее (на ближайшие 2-3 года), вопрос о мире..."338 Он же. Новая обстановка – новые задачи хозяйственного строительства: Речь на собрании хозяйственников 26 июня 1931 г. // Там же. C.51-80. 334 Телеграмма И.В. Сталина Л.М. Кагановичу и П.П. Постышеву, 22.8.1931 // О.В. Хлевнюк и др. (ред.). Указ. соч. С.59. 335 Телеграмма И.В. Сталина Л.М. Кагановичу, 25.8.1931 // Там же. С.64. 336 И. Сталин. О задачах хозяйственников. C.42. 337 См.: О.Н. Кен. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920 –середина 1930-х гг.). СПб., 2002. Гл. 5, 6. 338 Вопрос о том, что способствовало заключению советско-польского договора – сила или слабость СССР, стал впоследствии предметом любопытной дискуссии Я. Ковалевского с С. Раевским, К. Радеком и Вандурским (польским писателем-коммунистом). Атташе протестовал против пропагандистских утверждений о том, что готовность Польши подписать пакт с Советами была обусловлена осознанием их военной мощи. Наоборот, утверждал Ковалевский, пока Маршал имел основания опасаться, что на заключении договора скажется растущее советское влияние, он не считал нужным стремиться к этому результату. «Однако уже с конца 1931 г. хозяйственное и внутреннее положение СССР стало так ухудшаться, что Маршал увидел в этом ухудшении ранее недостававшую ему гарантию того, что СССР не в состоянии вести авантюристическую войну с сильным противником и такое положение сохранится на определенное время. С другой стороны, – излагал Ковалевский, – в наших интересах, чтобы ситуация в Советах не слишком ухудшалась, ибо тогда мог бы наступить момент для 333 Наивно было бы утверждать при этом, что рассматриваемые документы не содержат скрытых интенций, однако вовсе необязательно, что они имеют исключительно внешнеполитический смысл. Вернемся к письму Сталина от 30 августа, столь озадачившему Кагановича своими рассуждениями о вреде антиполонизма, что он постарался перенести обвинения в мещанской узости за советские пределы. О том, какое содержание мог вкладывать в борьбу с "антиполонизмом" Сталин339, свидетельствуют рассуждения его близких помощников – редактора "Известий" Ивана Гронского и члена редколлегии этой газеты, заведующего Бюро международной информации ЦК ВКП(б) Карла Радека в конце 1932 г. Гронский и Радек убеждали своих польских собеседников, что отношение большевистской верхушки к Польше имеет "особый характер" и Польша не рассматривается как "типичная представительница капиталистической и империалистической системы"340. Военного атташе Яна Ковалевского более всего поразило всяческое подчеркивание Гронским того, "что линия мирного сожительства с лимитрофами – это линия Сталина и он является ее главным защитником". Конфидент Сталина акцентировал те черты, которые сближали Польшу Пилсудского со сталинской Россией, и преходящий исторический характер того, что их разделяет. Поляки "из ничего сделали государство, крепкое, большое государство". Их чувства к русскому царизму понятны, "хотя царский режим кончился, но русские несут на себе еще его позор. Сталин это прекрасно понимает, и пока он находится у власти эта сторона вопроса в польскосоветских отношениях так и будет ставится". "Я долго и старательно изучал психологию Пилсудского, – продолжал Гронский, – и я нашел, что главною чертою его политики является глубокое стремление сохранить полнейшую независимость Польши в ее политической жизни. Как по отношению с своим союзникам – Франции, так и по отношению к нам. <…> И я полностью одобряю его взгляд на польскосоветские отношения. Он умный старый (sic)"341."Обеспечение независимости польской политики и государственной мысли от чуждых влияний, представляемое личностью Маршала Пилсудского, является фактором, который, по мнению советских журналистов, – резюмировал их высказывания временный поверенный в делах Польши в СССР Х. Сокольницкий, – в наибольшей мере будет способствовать нормальному развитию хороших соседских отношений между Польшей и Советами"342. "Пока мы, большевики со Сталиным, у власти" – "и это знают поляки и знает Пилсудский" – мы всегда можем сговориться с вами, несмотря на разный социальный строй наших стран и мы можем жить друг около друга, имея нормальные политические и экономические отношения"343. Эти рассуждения, акцентировавшие совместимость двух систем правления, персональный характер советской и польской политики, несомненно, соотносились с новой фазой эволюции советского режима – утверждением личной диктатуры Сталина. Летом 1932 г. Ковалевский отметил появление в московской среде "отчетливой тенденции к интеллектуальному панибратству", "интеллектуальному заигрыванию с нами" ("Już np. nasza teorja elit, nasze formy etatyzmu i t.p. są przychylnie komentowane w rozmowach")344. В конце декабря 1932 г. он констатировал быстрое развитие "культа Маршала" и отчаянного шага, вроде известной угрозы Троцкого о "хлопанье дверью"». Решение о заключении пакта Пилсудский принял "именно потому, что благодаря снижению военного потенциала Советов из-за внутреннего положения появилась достаточно конкретная гарантия того, что Советы будут соблюдать подписанное соглашение". "Самое интересное состоит в том, – докладывал Ковалевский своему шефу, – что с советской стороны я не встретил ни одного слова протеста, и они приняли это заявление без спора. Мало того, они соглашаются, говоря, что тем лучше и что правда, что сейчас Советам действительно требуется передышка, и не стыдятся того, что после усилий пятилетки должны заняться наведением порядка" (Raport J. Kowalewskiego do Szefu Oddziału II Sztabu Głównego, 6.12.1932. – ЦХИДК. Ф.308.Оп.12. Д.120. Л.76). 339 Весьма существенно, что в российской традиции понятие "полонизм" выступало не как синоним "польскости" (в противоположность "русскости"), а как политическая концепция польской элиты, обосновывающая ее претензии на руководство польским обществом. 340 Raport H. Sokolnickiego do MSZ, Moskwa, 21.12.1932. – CAW. 1775/89/538. S.246. 341 Notatka "Rozmowa podpułkownika Kowalewskiego z redaktorem "Izwiestij"Gronskim w dniu 7 listopada 1932 roku na przyjeciu u Kalinina". – ЦХИДК. Ф.308. Оп.12. Д.120. Л.61-62 (рассуждения Гронского переданы латиницей порусски). Заслуживает внимания эмоциональная и смысловая значимость слова "старый" ("старик"?). В молодой большевистской культуре "Стариком" любовно называли Ленина. 342 Raport H. Sokolnickiego do MSZ, Moskwa, 21.12.1932.S.247. 343 Notatka "Rozmowa podpułkownika Kowalewskiego z redaktorem "Izwiestij" Gronskim w dniu 7listopada 1932 roku na przyjeciu u Kalinina". Л.62. 344 Raport J. Kowalewskiego do Szefu Oddziału II Sztabu Glównego, 19.7.1932. – Там же. Л.46. задумывался над тем, с какой легкостью советские собеседники воздают почести "чужим богам". Предлагая выпить за здоровье Пилсудского, Гронский громко сожалел о том, что лишь недавно его распознал ("rozgryzł"). "Мне (нрзб. – О. К.) писали о его жестокой [brutalnej] политике. Но он верно понял путь для политики. Необходимо бить [walić] общество дышлом по лбу. Так устроен мир и иначе нельзя. Ленин тоже это понимал и применял". В наших глазах, заявлял редактор «Известий», "Гинденбург – ноль в сравнении с Пилсудским" (очевидно, в силу того, что он этого как следует не понял). Все это говорилось в присутствии других членов ВКП(б), и атташе был уверен: в ходе "партийной чистки Гронскому и Радеку культ Маршала выйдет боком – это гарантировано". Тем не менее они "не боялись так рискованно говорить, да что там говорить – кричать". В отличие от тогдашнего польского атташе мы достоверно знаем, что Гронскому (через которого нарком Литвинов порой просил Сталина об аудиенции) и Радеку (по инициативе Сталина назначенного в 1932 г. заведующим Бюро международной информации ЦК ВКП(б)) бояться было нечего. Несомненно, они действовали по его прямым указаниям345. В сталинском дискурсе Польша отождествлялась с Пилсудским346, который воспринимался как "умный старик" – правитель революционного происхождения, чья неброская диктаторская власть обеспечивала успех строительству крепкого государства. Совершенно иным, как показано выше, было восприятие режима Пилсудского в руководящих кругах Наркоминдела. Ореол личной диктатуры привлекал Сталина и вызывал отвращение у Литвинова. В глазах Сталина всевластие Пилсудского являлось аргументом в пользу партнерства с управляемым им государством. Для Литвинова Пилсудский оставался воплощением опасной непредсказуемости, провинциальным авантюристом. Не эти ли традиционные воззрения, распространенные в партийной среде и служившие серьезным препятствием на пути Сталина к установлению собственного режима личной власти, имел он в виду, выражая негодование «общественным мнением» и «мещанским поветрием "антиполонизма"» (и не была ли для него "мещанством" сравнительно высокая оценка "буржуазно-демократической" системы)? Имеющиеся свидетельства о политических симпатиях Сталина к Пилсудскому и созданному им режиму относятся ко второй половине 1932 г. Однако такого рода тяготения не возникают внезапно, а самое эффектное "битье общества по лбу" было проделано Пилсудским много ранее – в 1926-1930 гг.347 Другое дело, что состояние межгосударственных отношений и отсутствие у Сталина собственного агентства по иностранной политике (каковым стало радековское Бюро международной информации) препятствовали открытому выражению этих симпатий в контактах с представителем Пилсудского. Можно предположить, что постепенно складывающиеся расчеты Сталина на переход от коллегиального правления Политбюро к личной диктатуре уже в 1930-1931 гг. воздействовали на его видение Пилсудского и Польши как естественного партнера СССР и явились существенным фактором в его настояниях относительно вступления в переговоры о пакте ненападения348. Их успешное завершение в Cам Ковалевский был близок к этому выводу: "Эти господа из "Известий", естественно, не являются теми, кто принимает решения о советской политике, но являются исполнителями, которые непосредственно получают директивы и которым часто представляется случай беседовать в Совнаркоме и у Сталина" (List J. Kowalewskiego do T. Pelczyńskiego, Moskwa, 20.12.1932. – Там же. Л.80об.-81об). 346 "...Не забывайте, что Пилсудский – это вся Польша", – говорил Сталин своим приближенным, отдавая распоряжение прекратить выпады против Пилсудского в советской печати (по всей вероятности, в 1930-1931 гг.) (Notatka K. Zaborowskiego "Rozmowa z Radkiem dnia 14.3.1936 r."– CAW.1775/89/1136. S.235). 347 Дополнительные штрихи к проблеме восприятия в советских кругах действий Пилсудского добавляют воспоминания Евгения Александровича Гнедина. «В конце двадцатых годов, работая в «Известиях», я написал статью по поводу так называемой пацификации в Польше; такое название правительство Пилсудского дало систематическим репрессиям в Западной Белоруссии; это были жестокие мероприятия, в деревнях свирепствовали карательные отряды, тюрьмы были переполнены. Я озаглавил свою статью об этих событиях «Пацификация как метод внутренней политики». С.А. Раевский, заведовавший иностранным отделом редакции, визируя статью, которая ему не очень понравилась, сказал мне: «Я пропускаю статью только ради заголовка. Я тогда не уловил скрытого смысла в словах этого умнейшего и весьма сдержанного человека» (Е. Гнедин. Выход из лабиринта. М., 1994. С.59-60). Таким образом, применительно к началу 30-х гг., вероятно, правильнее было бы говорить не о появлении аналогии между действиями Пилсудского и Сталина, а об изменении ее истолкований. 348 Представленные материалы нелишне сопоставить с полным отсутствием надежных прямых свидетельств, подтверждающих почти общепризнанный тезис о том, что заключение советско-германского пакта 1939 г. отчасти обусловливалось симпатиями Сталина к гитлеровскому режиму. Критику этого тезиса (порой чрезмерную и даже 345 свою очередь создавало благоприятную обстановку для дальнейшей позитивной переоценки авторитаризма. Каковы бы ни были разнообразные политические импульсы к нормализации отношений СССР с Польшей, остается фактом, что они не привели ни к началу переговоров о договоре ненападения, ни к недвусмысленному советскому решению на этот счет до тех пор, пока французская дипломатия не сделала его заключение условием sine qua non договора между СССР и Францией. Реакция НКИД и Политбюро на польское предложение возобновить переговоры о пакте, поведение советской дипломатии в августе-октябре 1931 г. вскрыли слабость тогдашней внешней политики СССР. До середины сентября она, по признанию Литвинова, "танцевала на германской ноге", отвергая предложения Польши. Вслед за этим советской дипломатии пришлось производить "des pas" в обратном направлении ("на французской ноге"). Требования Сталина строить отношения с Польшей исходя из собственных "коренных интересов социалистического строительства" ("танцевать на собственных ногах") оказались исполнимыми лишь отчасти. Вопреки советским заявлениям и после середины октября, когда Москва фактически вступила в переговоры с Варшавой, инициатива оставалась в руках поляков. Советы оказались вынуждены отказаться от своих основных требований, будь то заключение польско-советского договора независимо от переговоров Москвы с другими западными соседними государствами либо содержание обязательств о нейтралитете и неучастии во враждебных комбинациях. Заключение пакта о ненападении стало второй после Московского протокола 1929 г. крупной внешнеполитической победой Польши. Условия, на которых договор был подписан, и его содержание явились вместе с тем огромным благом для внешней политики Советского Союза. Дело не только и даже не столько в том, что в ходе переговоров советской стороне отчасти удалось наполнить пакт содержанием, приближающим его к гарантийному договору с обязательствами ненападения, нейтралитета и неучастия во враждебных комбинациях349. Главное состояло в сдвиге, который благодаря переговорам с Польшей и другими западными соседними государствами произошел в подходе Москвы к окружающему миру, в ее частичном отказе от великодержавных претензий. За истекшие после подписания советско-польского пакта семьдесят лет тонны типографской краски в России были израсходованы на то, чтобы показать, сколько бед принесла Польше и ее восточному соседу мегаломания пилсудчиков. Вторая Республика была слишком значительным региональным фактором, чтобы смириться с ролью тогдашнего малого государства, следующего за могущественным покровителем (и слишком слабой, чтобы играть роль великой европейской державы)350, но вызываемое этим обстоятельством напряжение не мешало польской политике осознавать первостепенную значимость отношений с ближайшими соседями. Иначе обстояло дело с тогдашней советской мегаломанией, выражавшейся в усилиях играть большую мировую роль, наладить и развивать партнерские отношения с великими державами (вначале с Германией и Италией, затем с Францией, США и Англией) – прежде чем были урегулированы отношения СССР с его европейскими соседями. Не будем называть такой подход проявлением агрессивных замыслов – довольно и того, что он сам функционально продуцировал агрессивную политику, поскольку оставлял разрешение вопросов мирного сожительства до времени, когда силы СССР возрастут как за счет внутреннего развития, так и за счет усиления его позиций в отношениях с великими державами, т. е. до того срока, когда Советский Союз перестанет нуждаться в равноправном сосуществовании и партнерстве с соседними государствами и сможет рассчитывать на их вынужденное подчинение. Эта тенденция, характерная для всей советской (и даже постсоветской российской) политики, бесспорно, преобладала на протяжении 20-х гг. Осенью 1931 доходящую до смешного) см.: О.В. Вишлев. Накануне 22 июня 1941 года: Документальные очерки. М., 2001 (в особенности, с.112-113, 116-117). 349 При подготовке согласительной конвенции Москва, напротив, старалась минимизировать определяемые ею конкретные обязательства по мирному разрешению споров. Согласие СССР на заключению такой конвенции оказывалось вынужденной премией тем, кто в ходе "пактовой кампании" 1931-1932 гг. принял на себя обязательства ненападения на СССР (так, Литве, которая заключила договор с Советами шестью годами ранее, летом 1932 г. в заключении согласительной конвенции было отказано (см.: О.Н. Кен, А.И. Рупасов. Указ. соч. С.306)). 350 Cм., в частности: P.S. Wandycz. Historyczne dilematy polskiej polityki zagranicznej // Idem. Z dziejów dyplomacji. L., 1988. S.45-52. г. советское руководство на время смирилось с очевидностью: путь из Москвы в Париж лежит через Варшаву351. Политическое урегулирование отношений с соседними государствами – начатое Московским протоколом 1929 г., продолженное пактами о ненападении с Польшей и балтийскими странами и получившее развитие в Лондонских конвенциях об определении нападающей стороны (1933) – создало условия для обретения советской внешней политикой ее лучших черт. Отказавшись от высокомерного тона в отношении Польши, до некоторой степени выступавшей представительницей других восточноевропейских стран, граничивших со Страной Советов, Москва признала важность сохранения их территориальной целостности и политической независимости. В обстановке растущей международной нестабильности, эрозии Версальского порядка это означало фактический переход СССР на позиции защиты послевоенного статус-кво. Такой исход переговоров с Польшей и последствия, которые он будет иметь для отношений СССР с Германией, предвидел Литвинов и его коллеги в своих возражениях Политбюро в сентябре 1931 г. (в этом отношении они, вероятно, были проницательнее Сталина, который, судя по его высказываниям Э. Людвигу, недооценивал воздействия, которое должен был оказать советско-польский пакт на слабеющие рапалльские узы). Тогда резкая смена курса представлялась Наркоминделу едва ли не опасной авантюрой, навязываемой дипломатии некомпетентными партийными вождями. Однако, приступив к нормализации отношений с Польшей, Москва скоро убедилась в ее своевременности с точки зрения защиты советских интересов. Эпоха Веймарской Германии подходила к концу. Направление немецкой политики определяли тенденции к реваншу за поражение в мировой войне. На протяжении 1932 г., в особенности после прихода к власти правительства Папена (который в неискусной и грубой форме попытался добиться сближения с Францией и тем самым развязать руки для ревизии германских границ на востоке), Германия быстро превращалась из основного партнера России в очевидную угрозу ее жизненным интересам, центральное звено будущей антисоветской коалиции. Нормализация отношений между СССР и Польшей лишь ускорила процесс размывания партнерских отношений между Москвой и Берлином, который определяли сдвиги во внутренней и внешней политике Германии и вызванная ими трансформация всего международного ландшафта. В этом контексте заключение советско-польского договора и его ратификация оказывалась для Москвы чрезвычайно важным успехом. Значение этого акта ("который должен быть поворотным пунктом во взаимоотношениях между СССР и Польшей"), говорилось в публичном заявлении наркома иностранных дел в конце ноября 1932 г., "во много раз возрастает с точки зрения сохранения всеобщего мира, поскольку сторонники нарушения мира и антисоветской интервенции строили свои надежды и планы главным образом на обострении отношений между СССР и его сильнейшим западным соседом – Польшей". Одновременное подписание СССР и Францией договора о ненападении "повышает значение ратификации советско-польского пакта, и наоборот", в условиях, когда именно о создании международной системы безопасности "особенно приходится думать всем государствам"352. С другой стороны, соглашение с Польшей стало дополнительной гарантией сохранения стабильности на дальневосточных рубежах СССР. Сообщения о маньчжурском инциденте 18 сентября 1931, положившем начало длительному военно-политическому конфликту вблизи восточных границ СССР, не оказали сколько-нибудь заметного воздействия на принятие Москвой решения вступить в переговоры с Польшей353. В последующие месяцы, однако, развитие дальневосточного кризиса стало Этот тезис в 1932 г. сформулировал неофициальный орган МИД Польши «Przegląd Polityczny” (см.: М. Лечик. Во франко-польско-российском треугольнике. 1922-1934 // Советско-польские отношения в политических условиях Европы 30-х годов XX столетия: Сборник статей. М., 2001. C. 121). 352 Интервью М.М. Литвинова корреспонденту "Пти паризьен", 30.12.1932 // ДВП СССР. Т.12. С.644-645, 647. 353 Характерно, в частности, что курировавший отношения с Японией и Китаем Л.М. Карахан не воспользовался ссылкой на появление новой потенциальной угрозы, хотя в поисках аргументов достигал столь отдаленных сюжетов, как возможность влияния О. Чемберлена на политику образованного летом 1931 г. «национального правительства» Д.Р. Макдональда. Соответствующее решение Политбюро от 20 сентября стало лишь этапом кристаллизации нового курса в отношениях с Польшей, складывание которого отразили предшествующие резолюции высшей инстанции. О непосредственной реакции Политбюро и НКИД на вторжение японской армии в Северо-Восточный Китай см.: С.Г. Лузянин. Россия — Монголия — Китай в первой половине ХХ в.: Политические взаимоотношения в 1911-1946 гг. М., 2000. С.164-165. 351 важным фактором советской международной политики. Вопреки первоначальным рекомендациям Литвинова оказать противодействие японской агрессии, советское руководство подтвердило линию на "строгое невмешательство в конфликты между разными странами"354. Как Япония, так и СССР были заинтересованы в поддержании добрососедских отношений или, по меньшей мере, в сохранении видимости таких отношений перед внешним миром. Мы, писал Сталин Ворошилову в конце ноября 1931 г., "не преминули козырнуть нашими "нормальными" отношениями с Японией перед Польшей". В действительности "дела с Японией сложные, серьезные", и "ввиду событий на Дальнем Востоке" "даже простой факт переговоров с Польшей дает нам немалый плюс"355. Несомненно, эти соображения побуждали советскую сторону к получению гарантий безопасности на западе, и в этом ограниченном смысле были правы современники, отмечавшие влияние дальневосточного кризиса на положительные сдвиги в подходе Москвы к ведению переговоров с Польшей и другими западными соседями356. Таким образом, Советский Союз оказался с лихвой вознагражден за рискованное решение о переговорах с Польшей, за политические уступки, на которые Москва была вынуждена пойти в ходе этих переговоров, за отказ от дальнейшего взаимодействия с немцами в переустройстве СевероВосточной Европы. На протяжении следующего, 1933-го года советское руководство проделало дальнейшую эволюцию к участию в системе коллективной безопасности, вплоть до принятия идеи Восточного Локарно. Сколь бы существенны ни были дипломатические перипетии 1933-1939 гг., опыт исследования отношения Москвы к проблеме заключения пакта с Польшей предостерегает против того, чтобы видеть в них главную причину решения Кремля перейти, вслед за Германией и в партнерстве с нею, к политике агрессии в Восточной Европе. Главные причины трансформации советской внешнеполитической линии, по всей вероятности, коренились не в состоянии отношений СССР с другими государствами, а в недрах "политики вообще". Большевизм воспитывался на ожиданиях войн и революций, утвердился у власти благодаря им и был готов к новому мировому кризису, который должен был радикально изменить международную функцию Советского государства, возвратив его к революционному нигилизму. В начале 1922 г., когда Ленину показалось – "у "них" все летит. Крах полный (Индия и т. д.)", он отчеканил формулу внешнеполитического поведения в такой ситуации: "Нам надо н е ч а я н н о падающего подтолкнуть н е нашими руками"357. Установки "поддержать слабейшего" и "падающего подтолкнуть" были ни логически, ни идейно несовместимы. Напрасно искать в одной из них возможности внутренней трансформации в другую или иерархической соподчиненности либо рассматривать их как проявление внутренней гетерогенности режима (по аналогии, например, с внешнеполитическими установками См., в частности: Письмо Л.М. Кагановича И.В. Сталину, 26.9.1931 // О.В. Хлевнюк и др. (ред.). Указ. соч. С.119-120. 355 Письмо И.В. Сталина К.Е. Ворошилову, 27.11.1931. С.161-163. 356 См., в частности, мнение А. Залеского, высказанное им своему британскому коллеге во время визита в Англию: J. Simon to W. Erskine, 10.12.1931. – PRO. FO/371/15586/N7936. В контексте многочисленных тогдашних спекуляций об отношении Польши к японской агрессии и о значении дальневосточных событий для польскосоветских отношений интерес представляют высказывания военного атташе Польши в Москве весной 1932 г. В беседе с заведующим 1-м Западным отделом НКИД Я. Ковалевский "с неожиданной откровенностью" заявил: "Япония вас угробила на Дальнем Востоке в том смысле, что связала вам руки и приковала ваше внимание к Дальнему Востоку. Это имеет для нас огромное значение, ибо освобождает нас от угрозы на нашей восточной границе и развязывает нам руки для нашей западной политики, например, по отношению к Германии. Раз вы беспокоитесь, мы спокойны. Поэтому наши симпатии на стороне Японии. С другой стороны, самый метод действия Японии – захват чужой территории на основании тех или иных территориальных, исторических и этнографических инспираций создает для Польши чрезвычайно опасный прецедент, хотя бы для польско-германских отношений, и с этой точки зрения симпатии Японии не могут быть на стороне Японии" (Дневник Н.Я. Райвида, 27.4.1932. – АВП РФ. Ф.0122. Оп.16. П.160. Д.10. Л.134-135 (запись от 25 апреля)). Этот анализ был, вероятно, близок взглядам, складывавшимся на этот счет в НКИД: Ковалевский, отмечал Райвид вскоре после упомянутой беседы с ним, "самый умный человек в здешней Миссии" (Письмо Н.Я. Райвида Б.Д. Подольскому, 17.5.1932. – Там же. Д.13. Л.20). 357 Письмо В.И Ленина Г.В. Чичерину, 10.2.1922 // В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 1999. С.504. Неизвестно, сознавал ли Ленин, что цитирует Фридриха Ницше. Но он безусловно понимал: "Конечно, писать этого нельзя д а ж е в с е к р е т н ы х б у м а г а х", и намеревался в последующем сжечь эту записку (Там же). Мы никогда не узнаем, сколько подобных записок было действительно предано огню. 354 национал-социалистской Германии, в которых действительно отражался "поликратический" характер гитлеризма). Обе рассматриваемые установки коренились в идейных основах большевизма. Применение каждой из них в зависимости от ситуации могло принести выгоду или вред государственным интересам СССР. Уместно прибегнуть к современной метафоре: каждый из этих "принципов" был своего рода регистром для работы либо с латинским текстом внешних сношений, либо с кириллицей поведения СССР при наступлении краха международной системы. Отдельные символы обоих регистров совпадали, но такое совпадение носило случайный, механический характер. Пакт о ненападении с Польшей 1932 г. был набран в первом регистре – регистре сохранения устойчивости международной системы, пакт "о ненападении" с Германией 1939 г. – в регистре краха международного и социального порядка. Решение о переходе от одного регистра к другому, от одной установки к другой и в начале 20-х, и в конце 30-х гг. принималось не без влияния обстоятельств международно-политического или узкодипломатического характера. Главное состояло в том, что они являлись лишь частью множественных факторов, интегрированных в тотальную целостность советской "политики вообще". Она развивалась своими путями, не обращая внимания на предрассудки вроде территориальной целостности и политической независимости других государств. Storia di trattati оказывается невозможной без биографии советского Левиафана. ПРИЛОЖЕНИЕ Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и Президент Польской Республики, с другой, руководимые желанием сохранения существующего между их странами мира и убежденные в том, что сохранение между ними мира является значительным фактором в деле сохранения всеобщего мира, признавая, что Мирный договор от 18 марта 1921 года является, по-прежнему, основой их взаимных отношений и обязательств, будучи убеждены, что мирное разрешение международных споров и устранение всего, что противоречило бы нормальному состоянию отношений между государствами, является наиболее верным средством достижения намеченной цели, заявляя, что ни одно из принятых на себя каждой из сторон до настоящего времени обязательств не препятствует мирному развитию их взаимных отношений и не противоречит настоящему Договору, постановили заключить настоящий Договор с целью развития и дополнения Договора, подписанного в Париже 27 августа 1928 года и введенного в жизнь Протоколом, подписанным в Москве 9 февраля 1929 года, и назначили с этой целью своих уполномоченных, а именно: Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик -Николая Николаевича Крестинского, Члена Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик, Заместителя Народного Комиссара по Иностранным Делам и Президент Польской Республики -- господина Станислава Патека, Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра Польской Республики в Москве,которые по обмене своими полномочиями, найденными в добром и надлежащем виде, пришли к соглашению о нижеследующих постановлениях: Статья 1 Обе договаривающиеся стороны, констатируя, что они отказались от войны как орудия национальной политики в их взаимоотношениях, обязуются взаимно воздерживаться от всяких агрессивных действий или нападения одна на другую как отдельно, так и совместно с другими державами. Действием, противоречащим обязательствам настоящей статьи, будет признан всякий акт насилия, нарушающий целость и неприкосновенность территории или политическую независимость другой договаривающейся стороны, даже если бы эти действия были осуществлены без объявления войны и с избежанием всех ее возможных проявлений. Статья 2 В случае, если бы одна из договаривающихся сторон подверглась нападению со стороны третьего государства или группы третьих государств, другая договаривающаяся сторона обязуется не оказывать ни прямо, ни косвенно помощи и поддержки нападающему государству в продолжение всего конфикта. Если одна из договаривающихся сторон предпримет агрессию против третьего государства, то другая сторона будет вправе, без предупреждения, денонсировать настоящий Договор. Статья 3 Каждая из договаривающихся сторон обязуется не принимать участия ни в каких соглашениях, с агрессивной точки зрения явно враждебных другой стороне. Статья 4 Обязательства, упомянутые в статьях 1 и 2 настоящего Договора, не могут ни в коем случае ограничить или видоизменить международные права и обязательства, вытекающие для обеих договаривающихся сторон из соглашений, заключенных ими до вступления в силу сего Договора, поскольку эти соглашения не заключают в себе элементов агрессии. Статья 5 Обе договаривающиеся стороны, стремясь к улажению и разрешению, только при помощи мирных средств, всех споров и конфликтов, независимо от их природы или происхождения, которые могли бы возникнуть между ними, обязуются передавать спорные вопросы, в отношении которых в надлежащий период времени не могло быть достигнуто соглашения дипломатическим путем, на согласительную процедуру, согласно постановлениям конвенции о применении согласительной процедуры, каковая конвенция составляет неотъемлемую часть настоящего Договора и должна быть ратифицирована в возможно скорый срок совместно с Договором о ненападении. Статья 6 Настоящий Договор будет ратифицирован в возможно скорый срок и ратификационные грамоты будут обменены в городе Варшаве в течение тридцати дней со дня ратификацирования Союзом Советских Социалистических Республик и Польшей, после чего Договор вступит в силу. Статья 7 Договор заключается на три года с тем, что, поскольку одна из договаривающихся сторон не денонсирует его за шесть месяцев до истечения срока, срок действия Договора считается автоматически продленным на следующий двухлетний период. Статья 8 Настоящий Договор составлен на русском и польском языках, и оба текста будут считаться аутентичными. В удостоверении чего, поименованные выше Уполномоченные подписали настоящий договор и приложили к нему свои печати. Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. Н. Крестинский St. Patek Протокол подписания N 1 Договаривающиеся стороны заявляют, что статья 7 Договора от 25 июля 1932 года не может быть толкуема таким образом, что истечение срока или денонсация до истечения срока согласно статье 7 могли бы иметь последствием ограничение или уклонение от исполнения обязательств, вытекающих из Парижского договора 1928 года. Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. Н. Крестинский St. Patek Протокол подписания N 2 Подписывая сего числа Договор о ненападении, обе стороны, обменявшись мнениями по поводу представленного советской стороной проекта согласительной конвенции, высказывают убеждение в отсутствии между сторонами существенных разногласий. Учинено в Москве, в двух экземплярах, 25 июля 1932 года. Н. Крестинский St. Patek Сокращения АВП РФ -- Архив внешней политики Российской Федерации (Москва) РГА СПИ -- Российский государственный архив социально-политической истории (Москва) ЦХИДК -- Центр хранения историко-документальных коллекций (Москва) AAN -- Archiwum Akt Nowych (Warszawa) CAW -- Centralne Archiwum Wojskowy (Warszawa) PRO -- Public Record Office (London) NA -- National Archives (Washington, D.C.) *** ДВП CCCР -- Документы внешней политики СССР ДиМСПО -- Документы и материалы по истории советско-польских отношений. DBFP -- Documents on British Foreign Policy. *** ББ – Беспартийный блок сотрудничества с правительством ВКП(б) -- Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) НКИД, Наркоминдел -- Народный комиссариат иностранных дел ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление ПБ, Политбюро -- Политическое Бюро СНК, Совнарком -- Совет Народных Комиссаров ЦК -- Центральный Комитет Указатель имен Адам В. Александровский С.С. Андреев А.А. Антонов-Овсеенко В.А. Аросев А.Я. Артти П. Арцишевский М. Аттолико Б. Бек Ю. Бернюс П. Берсон Я. Бертело Ф. Братин Бресси П. де Бриан А. Бровкович Ф.А. Бродовский (Братман) С.И. Брокдорф-Ранцау У. К. фон Брюнинг Г. Бюлов В. Б. фон Вандурский Вежбицкий А. Войков П.Л. Высоцкий А. Гаммерштейн фон Экворд К. Гаус Ф. В. Гинденбург П. фон Гнедин (Гельфанд) Е.А. Голувко Т. Гронский И.М. Дашиньский И. Демулен Дирксен Г. фон Довгалевский В.С. Дорио Ж. Залеский А. Зелезинский А. Каганович Л.М. Карахан (Караханян) Л.М. Квятковский E. Киров С. М. Ковалевский Я. Косиор С.В. Крестинский Н.Н. Ку Ф. Куйбышев В.В. Курциус Ю. Лаваль П. Ленин (Ульянов) В.И. Литвинов (Валлах) М.М. Людвиг Э. Лярош Ж. Майер Р. Макдональд Д.Р. Марринер Марсаль Ф. Массильи Р. Матушевский И. Медзиньский Б. Менжинский В.Р. Микоян А.Я. Миронеску Г. Молотов (Скрябин) В.М. Мольтке Г. А. фон Монзи А. де Мосьцицки И. Муссолини Б. Николаев Б.Н. Ницше Ф. Ови Э. Ольшовский К. Орджоникидзе Г.К. Пайяр Папен Ф. фон Патек С. Петровский Г.И. Пилсудский Ю. Постышев П.П. Пристор А. Радек К.Б. Раевский (Нейман) С.А. Райвид Н.Я. Ринтелен фон Рудзутак Я.Э. Свидерский А.И. Свитальский К. Сельямаа Ю. Семполовская С. Славек В. Сокольницкий Х. Сталин (Джугашвили) И.В. Стомоняков Б.С. Стронский C. Стурзда М. Суриц Е.Я. Суриц Я.З Твардовский Ф. фон Типпельскирх В. фон Титулеску Н. Тогенбург Траутман Ульманис К. Уманский К.А. Хеш Л. фон Хинчук Л.М. Хлаповский А. Цельминс Ф. Чемберлен О. Чичерин Г.В. Чубарь В.Я. Шетцель Т. Шлезингер М. Штейн Б.Е. Штерн Д.Г. Штреземан Г. Эрбетт Ж. Эрих Р. В. Юрье-Коскинен А. Юст Юшкевич М.В. Ярославский (Губерман) Е. М. STRESZCZENIE Новое исследование политики СССР и Польши в связи с переговорами о заключении между ними договора в 1931-1932 гг. о ненападении основано на материалах Архива внешней политики РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и Центра хранения историкодокументальных коллекций (Москва), Архива новейшей документации и Центрального военного архива (Варшава), национальных архивов США и Великобритании, а также опубликованных материалах Политбюро, советских дипломатических документах и переписке большевистского руководства. Эта источниковая база позволяет в деталях реконструировать ключевые эпизоды советско-польских взаимоотношений осени 1930- осени 1932 гг. и предложить новую интерпретацию политики Москвы и, отчасти, Варшавы. Книга состоит из краткого введения, двух разделов, заключительной главы. Первая часть открывается кратким изложением переговоров между СССР и Польшей о заключении гарантийного пакта (пакта ненападения) в 1922-1928 гг. Подписание обеими сторонами Московского протокола 1929 г. о досрочном введении в действие между ними пакта Бриана-Келлога об отказе от войны как орудии национальной политики быстро сменилось новым обострением отношений СССР с Польшей. С начала 1930 г. вопрос о возобновлении двусторонних переговоров о ненападении обсуждался советским внешнеполитическим руководством, однако определенного решения Москвой принято не было. Одновременно растущую заинтересованность в заключении такого соглашения стала проявлять польская сторона. Осенью 1930 г., вопреки инструкциям Наркоминдела, советский полпред В.Антонов-Овсеенко в беседах с руководителями МИД Польши выразил пожелание возобновить обсуждения пакта ненападения, что было интерпретировано ими как "советское предложение". В декабре 1930 г. оно было в принципе принято фактическим главой государства Ю.Пилсудским. Сообщения о предстоящих переговорах вызвали отрицательную реакцию в советском дипломатическом ведомстве, которое дезавуировало высказывания своего представителя в Варшаве. При этом есть основания полагать, что действия Антонова-Овсеенко были предприняты им с согласия Сталина, в конце 1930 г. одобрившего идею новых переговоров с Польшей. Разногласия в руководящих советских кругах вызывались представлениями о том, что такие переговоры могут привести к какому-либо результату лишь в случае отказа СССР от выдвинутых им ранее условий заключения договора, а также опасениями, что нормализация советскопольских отношений положит конец политическому сотрудничеству СССР с Германией. В результате в начале 1931 г. обсуждение договора о ненападении между СССР и Польшей окончательно зашло в тупик и было прервано. Существенную роль в этом особенности процедур принятия внешнеполитических решений в Москве и Варшаве. Вторая часть посвящена советско-польским дипломатическим переговорам и внутренней борьбе в советском руководстве, начало которым положил демарш посланника С.Патека в августе 1931 г. Единственным советским представителем, в полной мере оценившим предложенную поляками возможность довести до конца начатые ранее переговоры о пакте неагрессии, оказался Генеральный секретарь ЦК ВКП(б). Вопреки упорным возражения руководства НКИД (считавших необходимым компенсировать сближение с Францией сохранением тесных отношений с Германией) и сомнения членов Политбюро, Сталин добился частичного пересмотра советской политики. Наряду с требованиями французской дипломатии, обусловившей подписание франко-советских соглашений о ненападении и торговле заключением СССР пакта с Польшей, позиция Сталина определила возобновление в ноябре 1931 г. советско-польских переговоров по существу на выдвинутых Польшей условиях. Обострение дальневосточного кризиса осенью 1931 г. не оказало заметного влияния на решение Москвы о переговорах с Польшей (хотя, возможно, повлияло на тактику их ведения). Детальный анализ выработки текста договора о ненападении позволяет оценить масштабы уступок, на которые согласилось пойти советское руководство. Главной из них явилось полноценное признание территориальной целостности и политической независимости другой стороны и приравнение любого их нарушения к акту агрессии, запрещенной этим договором. Вместе с тем Варшава не смогла в полной мере реализовать принцип "круглого стола" -- одновременности подписания договоров с СССР всеми его западными соседями. Основную роль в этом сыграла сохранение территориального спора между СССР и Румынией и нежелание Москвы отказаться от констатации этого обстоятельства при заключении с Бухарестом пакта о ненападении. Поэтому парафированный в январе 1932 г. советско-польский пакт был подписан полугодом позже. Завершающим туром советско-польских переговоров явилось согласование в ноябре 1932 г. процедуры мирного разрешения споров между сторонами. Оно было закреплено в согласительной конвенции, являвшейся неотъемлемой частью договора о ненападении. При ее подписании СССР принял обязательство предоставить Польше право выносить двусторонние конфликты на арбитражное рассмотрение, если подобное право будет признано им в отношении какоголибо иного государства. Подготовка договора о ненападении вызвала кризис в отношениях СССР с Германией, ревизионистские планы которой требовали ослабления международных позиций Польши. Советская дипломатия по существу проигнорировала как протесты и предостережения, так и политико-юридические пожелания немецкой стороны относительно условий договора с Польшей. Тем самым, несмотря на последующее внешнее улучшение советско-германских отношений, рапалльскому сотрудничеству был по существу положен конец. Стабилизация положения СССР благодаря договору о ненападении с государством, рассматривавшимися в качестве главного потенциального противника, и пактам со странами Балтии и Францией позволила Москве оценить выгоды сотрудничества с государствами, заинтересованными в сохранении послевоенного статус-кво, и положила начало эволюции советской внешней политики в этом направлении. В заключительной главе предложена интепретация причин, побудивших Кремль к заключению договора о ненападении с Польшей. Наряду с соображениями международной политики решающую роль сыграло стремление избежать в ближайшем будущем политических и военных осложнений, таивших серьезную опасность для перестраиваемой и ослабленной хозяйственной и социально-политической системы СССР начала 30-х гг. Другим вероятным объяснением являются тогдашние симпатии Сталина к авторитарному режиму Пилсудского. Характер мотивов, определивших стремление советского руководства к нормализации отношений с Польшей и заключению с нею пакта о ненападении, исключал возможность следования его духу и букве при наступлении нового глубокого кризиса европейского порядка. В приложении помещен текст Договора о ненападении между СССР и Польшей.