кабардино-балкарский государственный университет им
advertisement
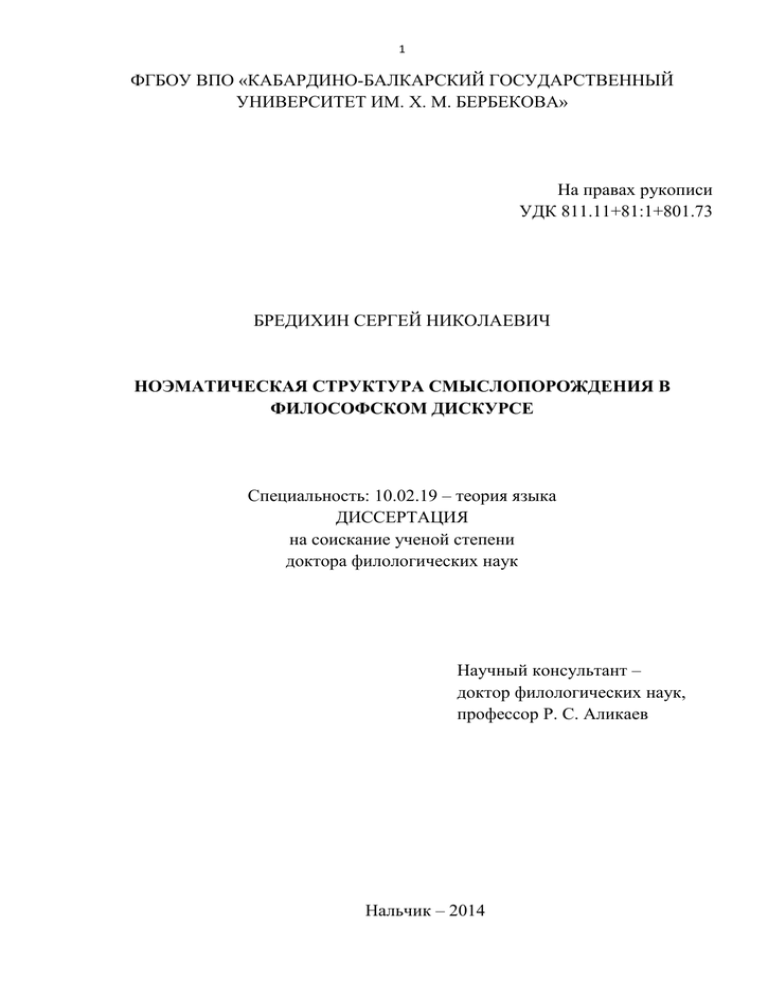
1
ФГБОУ ВПО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х. М. БЕРБЕКОВА»
На правах рукописи
УДК 811.11+81:1+801.73
БРЕДИХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
НОЭМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЯ В
ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ
Специальность: 10.02.19 – теория языка
ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора филологических наук
Научный консультант –
доктор филологических наук,
профессор Р. С. Аликаев
Нальчик – 2014
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………………………………….....
5
ГЛАВА I. Философия языка и язык философии, философский
дискурс…………………………………………………………………………...
1.1.
17
Философский дискурс – язык и трансценденция, герменевтический
характер философского языка……………………………………………
17
1.2.
Символ и смысл в языке философии………………………………….....
30
1.3.
Категориальный инвентарий философского дискурса…………………
35
1.4.
Верифицируемость и критерии истинности…………………………….
41
1.5.
Философский
дискурс
–
узус или
окказионализм (разрушая
правила)…………………………………………………………………....
50
Философия – индивидуальный язык или индивидуальный смысл…….
61
Выводы…………………………………………………………………………...
70
1.6.
ГЛАВА II. Филологическая феноменологическая герменевтика как
новый подход к анализу смыслопорождения…………………………….....
73
2.1. Основания метатеоретичности понимания и о-сознания философского
дискурса…………………………………………………...........................
73
2.2. Теория прототипов во взаимосвязи с иерархической ноэматикой….....
86
2.3. СМД-методология при анализе смысла философского дискурса……..
95
2.4. Филологическая феноменологическая герменевтика………………….. 104
2.5.
Феноменологическая рефлексия как основа понимания многомерного
смысла………………………………………………….............................
2.6.
Константы интенциальности, субъективности
115
и модальности в
герменевтическом понимании смысла………………………………….. 124
Выводы…………………………………………………………………………... 131
ГЛАВА I. Общие принципы смыслопорождения
в философском
дискурсе…………………………………………………………………………. 135
3.1.
Морфосинтаксическая иерархия значения, структура предикации…... 135
3.2.
Смыслопорождение и условия формирования смысла…………..…...... 151
3.3.
Общие принципы смыслопорождения окказиональных образований
3
философского дискурса…………………………………………………... 160
3.4.
Метафора как основа смыслообразования в философском дискурсе… 169
3.5.
«Игровое»
смыслопорождение
и
его
коммуникативно-
прагматический эффект…………………………………………………... 176
3.6.
Декодирование смысла в философском дискурсе: основные типы
трансформаций суперструктуры……………………………………….... 184
Выводы…………………………………………………………………………... 196
ГЛАВА
V.
Языковая
картина
мира,
лингвокультура
и
смыслопорождение…………………………………………………………….. 199
4.1.
Смыслопорождение на ультра- и гиперуровнях…………..…………...
4.2.
Языковая картина мира и ноэматика……………………………………. 206
4.3.
Смыслопорождение и концептуализация мира (когнитивный аспект).. 215
4.4.
Лингвокультура и смыслопорождение (концептуальный аспект)…….. 234
4.5.
Лингвокультура и смыслопорождение (грамматический аспект)…….. 244
4.6.
Особенности порождения и декодирования концептуализируемых
199
понятий в иероглифических лингвокультурах…………………………. 253
4.7.
Интерпретативное смыслопорождение…………………………………. 263
Выводы…………………………………………………………………………... 271
ГЛАВА V. Ноэматика и семантика. Иерархическая структура
смысла…………………………………………………………………………… 275
5.1.
Ноэматическая
структура
смысла
философских
концептов.
Смыслопорождающие механизмы ……………………………………… 275
5.2.
Металогические формы мышления и порождение парадоксальных
высказываний …………………………………………………………….. 284
5.3.
Трансформации суперструктуры смысла как базовые элементы
смыслопорождения……………………………………………………….. 294
5.4.
Этимологическое переразложение и синтез как базовые механизмы
дифракции и модификации суперструктуры смысла…………………... 307
5.5.
Сдвиги в семантических полях при актуализации периферийных
4
ноэм как способ порождения многомерного смысла…………………... 316
5.6.
Смыслотворчество
как
определяющая
трансформация
суперструктуры смысла при рецепции философского дискурса……… 323
Выводы…………………………………………………………………………... 333
ГЛАВА VI. Метасмыслы в порождении и декодировании. Глагольные
и субстантивные метасмыслы……………………………………………….
338
6.1.
Метаединицы декодирования……………………………………………. 338
6.2.
Динамические схемы действования и многомерный смысл…………... 343
6.3.
Метаструктуры схем действования в герменевтическом акте………… 352
6.4.
Порождение неузуальных многомерных глагольных смыслов в
текстах М. Хайдеггера……………………………………………………. 363
6.5.
Смыслообразование в производных субстантивных конструктах
философского дискурса..…………………………………………………. 373
6.6.
Трансформации как метасредства в декодировании имманентного
многомерного смысла…………………………………………………….. 382
Выводы…………………………………………………………………………... 393
Заключение………………………………………………………………………
397
Библиография……………………………………………………………………. 405
Словари……………………………………………………………………. 445
Источники………………………………………………………………… 447
5
ВВЕДЕНИЕ
Наряду
с
дифференциацией,
учитывающейся
при
разработке
методологической базы и проблематики гуманитарной науки как науки о духе
(Geisteswissenschaft), одной из актуальных тенденций её развития является о-сознание и понимание необходимости интегративного метатеоретического
подхода к сложным естественно-развивающимся системам, коей и является
смысл. Правомерность его применения в данной работе диктуется системной
природой смысла как такового.
Систему смысла текста можно обозначить как некое единство, органично
появляющееся из целостности значения и появления и развития смысла.
Главным условием данной системы является её эмерджентность, творимость,
иерархическая структура и многомерность структурирующих её элементов,
благодаря которым исследуемая система, с одной стороны, противодействует
процессам энтропии, сохраняя возможность для декодирования, а с другой –
дает возможность порождения новых неузуальных структур. Выход за пределы,
снятие
ограничений,
смешение
разнообразных
форм,
синкретизм
и
полиморфизм всего пространства смысла – вот что характеризует феномен
смыслопорождения в философском тексте.
Данная диссертация посвящена иерархической ноэматической структуре
смысла в философском дискурсе. Мы полагаем, что исследование по замыслу
должно предполагать не анализ наличия неузуальных образований в
философских текствах, вербализующих многомерные смыслы, а раскрытие
концепции ноэматического смыслопорождения, и объяснение самого смысла
текста как некой иерархической структуры, имеющей в своём основании
ноэмы различного вида, служащие для функционирования и развития всех
возможных надстроек многоуровневого смысла.
В лингвистике есть предметная область, которая практически не изучена.
На данный момент существует довольно много работ по языку философии,
попыток ухватить организацию и структурировать смысл текста, но ни одна из
них не ориентируется на ноэматическую структуру и не избирает в качестве
6
руководящего принципа новый подход филологической феноменологической
герменевтики. Сама же ноэма обсуждается лишь в рамках понимания смысла
(Г. И. Богин), причём как «самая малая единица с функцией установления связи
и отношений между элементами коммуникативной и деятельностной ситуации,
которая
необходима
для
смыслообразования.
Ноэма
–
это
указание,
осуществляемое рефлективным актом сознания, обращенного на минимальный
компонент онтологической конструкции. С этой точки зрения ноэма
соответствует семе, играющей ту же самую роль при определении уже не
смыслов, а выводимых из их совокупности значений, что необходимо для
построения словарей и грамматик. <...> Существенно, что ноэмы неделимы.
Они усматриваются субъектом прямо в своей душе» [Богин 1993: 10-11].
Существует несколько работ по проблемам смыслопорождения в контексте
этой теории – они кратко характеризуются в данной работе. Во всех
терминологических словарях, глоссариях и специальных исследованиях по
языку философии рассматриваемые случаи как противоречащие правилам
(окказиональное смыслопорождение), так и соответствующие языковому узусу
(общефилософский терминологический материал) анализируются только с
философской
или
же
семантической
точек
зрения
(рассматривается
стандартное закреплённое словарное значение), но не даётся их ноэматического
(в действительности – смыслового) анализа. В связи с вышеизложенным
библиографический список данной работы содержит большое количество
философских работ.
В последнее время заметен прогресс в описании структуры смысла,
однако и по сей день в большинстве работ смыслопорождение рассматривается
как некая семиотическая структура, которая не терпит членения на более
мелкие единицы смысла. На наш взгляд, описание семиотической структуры в
качестве морфоноэматического иерархического единства в процессе изучения
смыслопорождения
и
смысловосприятия
является
основным
аспектом,
позволяющим считать данную работу актуальной в свете сегодняшних
попыток придать новое звучание общей теории смысла. Что, в свою очередь,
7
становится
возможным
благодаря
тщательной
разработке
теории
семантической и семной структуры слова представителями когнитивной
лингвистики, а также разработке теории ноэматической структуры смысла
представителями филологической герменевтики.
Как нам видится, смыслопорождение есть результат отображения и
представления в сфере мышления условно-рефлекторной деятельности языка
как структуры «периферийных, живых» отношений. Когнитивная языковая
деятельность показывает, что образование новых смыслов (творческая
деятельность) требует больших усилий и, очевидно, особого склада ума, чтобы
в нужный момент зафиксировать, отметить соответствие смысла и его
смыслопорождающей конструкции, которые, к тому же находятся в процессе
взаимного формирования.
В настоящей диссертации делается попытка преодолеть указанный
«разрыв» между философским, семантическим, лингвокультурологическим и
герменевтическим модусами освещения проблемы и выработать ноэматический
метод анализа на третьем уровне абстракции. Для нас
главным является
построение непротиворечивой, функциональной и универсальной методологии
анализа смыслопорождающих механизмов. Мы стремимся доказать, что
процесс окказионального смыслообразования с учётом феноменологической
рефлексии является не частным случаем, а реализует закономерную модель
философского
примирение
смыслопорождения.
аппарата
Немаловажным
феноменологии,
для
герменевтики
нас
и
является
когнитивной
лингвистики.
Таким образом, объектом данного исследования выступают глубинные
иерархические структуры смысла, репрезентирующего особый тип мышления
«на грани и за границами языка».
В
качестве
предмета
изучения
нами
избраны
разнообразные
возможности смыслопорождения путём оперирования некоторым набором
интенциально
релевантных
ноэм
как
мельчайших
квантов
смысла и
8
деривационных моделей, по которым многоуровневый смысл может быть
построен.
Целью настоящего исследования является описание иерархической
ноэматической структуры многомерного смысла в актах его порождения и
декодирования, вербализованного в философском дискурсе, в рамках научного
предмета лингвофилософии, в связи с чем важным представляется решение
следующих конкретных задач:
1. Описание философского дискурса как особого вида деятельности,
направленной на работу со смыслами и репрезентацию специфического типа
мышления.
2. Анализ различных теорий и методологических подходов к анализу
порождения и понимания смысла, традиционной семантической модели,
филологической герменевтики Г. И. Богина, CМД-Методологии Г. П.
Щедровицкого, феноменологии Г. Г. Шпета как основы метатеории описания
языка философии и др.
3.
Выработка
нового
подхода
к
анализу
смыслопорождающих
механизмов, на основе вышеперечисленных систем и дополняющего их,
названного нами как феноменологическая филологическая герменевтика.
4. Структурный анализ грамматических, лингвокультурологических,
концептуальных и когнитивных аспектов философского смыслопорождения на
основе текстов экзистенциальной философии М. Хайдеггера.
5. Описание возможных трансформаций иерархической суперструктуры
смысла философского дискурса с учетом четырех планов хронотопа в немецкой
лингвокультуре на фоне сходного герменевтического восприятия, присущего
иероглифическим лингвокультурам, в частности, японской.
Методологической базой исследования прослужили идеи и теории по
когнитивной лингвистике, философской и филологической герменевтике,
теории познания, философии языка и мифа, философскому дискурсу,
определившие подходы решения авторских задач и позволившие выработать
метод филологической феноменологической герменевтики как основу анализа
9
иерархической ноэматической структуры смысла, английской и американской
лингвистической школы (О. Есперсен, Дж. Лакофф, Ч. У. Морис, Э. Сэпир, Р.
Джекендофф, K. Яшчоут, Р. С. Трагессер, Р. Карнап, К. Лаурер), немецкой
философской традиции (И. Г. Гердер, И. Г. Гаман, Фр. Шлейермахер, В. фон
Гумбольдт, Фр. Ницше, В. Дильтей, Э. Кассирер, М. Хайдеггер, Т. Адорно, Х.Г. Гадамер, Л. Витгенштейн, Ю. Хабермас, Э. Гуссерль, Г. Лейзеганг, Ф. Э. Д.
Шлейермахер), японской школы лингвокультурологии и лингвофилософии
(Инукаи К., Накамура Х., Обаяши Т., Ямада Р., Ноути Р., Тэрасава М., Хага Т.),
отечественной методологии и лингвистики (В. З. Демьянков, А. А. Потебня, П.
А.Флоренский, Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев, М. К. Мамардашвили,
В. В. Бибихин, Г. И. Богин, Н. О. Гучинская, Б. В. Марков, О. А. Радченко, В.
Н. Телия), работы по лингвистической семантике, теории концепта (Н. Д.
Арутюнова, М. В. Никитин, П. Рикер, Х. Вайнрих, Г. Блюменберг, Ю. С.
Степанов, Е. С. Кубрякова, Ю. Дитман, А. Вежбицкая, И. М. Кобозева, Ю. М.
Лотман, Ч. Дж. Филлмор, К. Аллан), по теории смысла и когнитивной
семантике (Н. Ф. Алефиренко, А. Ю. Агафонов, О. А. Алимурадов, Н. Н.
Болдырев, П. Бурдье, А. Л. Вольский, К. И. Декатова, Р. И. Павиленис, Л. А.
Сараджева, Дж. Т. Биверс), по проблемам понимания, интерпретации и
декодирования (Г. И. Богин, Р. С. Аликаев, С. А. Васильев, Т. А. ван Дейк, В. И.
Карасик, Е. Н. Лучинская, Г. П. Щедровицкий).
Выбор методологии диссертационного исследования обусловлен прежде
всего
метатеоретическим,
междисциплинарным
философствования
и
герменевтическому
осмыслению
суперконструкта.
В
лингвофилософским
работе
системным
ноэматической
комплексно
характером
подходом
иерархии
применяются
феномена
к
смыслового
лингвистический,
культурологический и философский подходы к рассмотрению проблем
смыслопорождения. В связи с этим были использованы методы, разработанные
как в филологических науках, так и в философии, когнитивной психологии,
культурологии, социологии и других смежных науках. Базовой в диссертации
является филологическая феноменологическая герменевтика как логическое
10
развитие когнитивистики, филологической герменевтики, герменевтической
феноменологии и герменевтико-семасиологического метода.
Учитывая
специфику
слова
герменевтико-ноэматический
в
философском
метод
языке,
реализуется
в
в
работе
следующей
последовательности:
1) характеристика мышления философа в тех аспектах, которые могут
быть релевантными для интерпретации новых или устоявшихся деривационных
моделей;
2) сопоставление контекстуальных значений и отдельных граней
смысловой иерархии, выявленных в тексте единиц, с данными словарей с
целью
верификации
и
подтверждения
достаточной
понятийной
определённости;
3) анализ результатов ассоциативного эксперимента на базе метода
свободных ассоциаций как символической или фоновой проекции внутреннего,
часто неосознаваемого содержания со-знания смыслового конструкта;
4)
сопоставление
семной
структуры
значения
с
ноэматической
структурой смысла для выявления различного вида трансформаций смысловой
структуры в процессе неузуального смыслопорождения;
5) анализ ноэматической структуры смысла для иерархического
переразложения и описания структурно-ноэматических связей, выявления и
структурирования метаединиц в схемах действования.
При определении этапов, постановке его целей и задач мы отталкивались
от следующей гипотезы: смысл философского текста, репрезентирующего
особый тип мышления, представляет собой иерархическую структуру
интенциально
релевантных
ноэм
(трех
типов);
смыслопорождение
и
декодирование в рамках философского дискурса происходит на лучах
феноменологической и ноэматической рефлексии по определенным схемам
(деривационным
моделям),
структурированным
как
естественные
развивающиеся системы и имеющим имманентную таксономию узловых
элементов, членящихся в свою очередь на кванты.
11
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
дискурса
Философский дискурс как определенный самостоятельный тип
имеет
свои
особенности
(вариативность,
многогранность,
незавершенность и т.д.), соответственно, порождение его является творением
неузуального многомерного смысла, недоступного прямому восприятию на
базе функциональной логики, понимание которого, по сути, есть повторное
распредмечивание реципиентом вербализованных интенциальных смыслов на
луче феноменологической рефлексии.
2.
мышления
Концептуализированные понятия, вербализующие особый тип
в
философском
тексте,
представляются
комплексными,
иерархически организованными когнитивно-культурологическими структурами
интенциально релевантных ноэм. Их внутренняя глубинная структура
обусловливается не только универсальными и национально-специфическими
аксиологическими
установками
(в
поле
ноэм-доминант),
социально-
историческим опытом – константами фонового знания и ситуативности (в поле
ноэм-культурных-основ), но и личностными мотивами при вербализации
когнитивно-валерной системы продуцента – константами интенциальности и
субъективности (в поле периферийных ноэм).
3.
Философствование
есть
особый
тип
дискурса
и
является
специфичным культурным кодом, в котором реализуются потенциальные,
имманентно присущие той или иной языковой единице скрытые в узусе грани
смысла; данный тип обнаруживает гибридную метаструктуру по-знания и сознания в процессе продуцирования и декодирования философского текста, что
предполагает комплексное оперирование несколькими знаковыми системами,
выступающими на различных уровнях абстракции.
4.
Процесс порождения и декодирования смысла в философском
дискурсе представляет собой особый алгоритм (схему действования), где на
каждом этапе процесса герменевтического интегративного вос-приятия и осознания происходит мутация и трансформация смысловой структуры.
Философский текст, в отличие от других типов текстов, предполагает
12
возможность
максимально
использовать
особенности
многогранных,
потенциальных, скрытых смыслов. Как продуцент, так и реципиент каждый раз
при декодировании и интерпретации находятся в пограничной ситуации и
вовлекают в сферу рефлексивной реальности все новые и новые грани смысла
при
этом
базисом
данного
включения
служат
определенные
типы
трансформации суперструктуры.
5.
Ассоциативный
эксперимент
выявляет
характерологические
признаки речепорождения и структурирует динамические схемы действования
продуцента и реципиента в процессе смыслопорождения и декодирования в
русле особого философского типа мышления (мышления на грани и за
границами
языка).
Владение
общецивилизационными
и
культурными
коннотациями (не сводимыми к языковой компетенции, т.е. возможность
интерпретировать и переосмысливать имеющиеся в наличии языковые единицы
и деривационные модели через соотнесение их с категориями узуса и
окказиональности), формирует особый тип компетенции философствующего.
6.
В философском и общеязыковом узусе конкретной лингвокультуры
фиксируется
степень
прагматической
освоенности
того
или
иного
концептуализированного философского конструкта, являющегося важным
элементом миропонимания в определенной философской парадигме, а часто и в
общелингвокультурной
определенные
концептосфере,
основополагающие
и
представляющего
лингвокультурные
собой
параметры,
определяющие homo reflectibus (человека рефлексирующего).
Теоретическая
разработке
нового
значимость
диссертационной
методологического
подхода
работы
состоит
в
(филологической
феноменологической герменевтики) к анализу суперструктуры смысла в рамках
лингвофилософии, в определении основных типов трансформации смысловой
структуры при неузуальном смыслопорождении, в получении ноэматических
характеристик концептуализированных понятий философии экзистенциализма.
Результаты изучения данной проблематики могут быть использованы при
чтении вузовских теоретических курсов и проведении практических занятий по
13
теории СИМО (единой многоуровневой системы средств формального
описания), общей теории язвка, общей теории дискурса, теории смысла,
герменевтике, феноменологии, а также в спецкурсах, посвященных проблемам
смыслопорождения и смыслодекодирования.
Научная новизна настоящего исследования заключается в системном
описании глубинных структур и ноэматики как основного принципа
порождения
и
декодирования
смысловых
структур;
в
демонстрации
иерархической структурированности философского смысла, фиксирующего
момент движения мысли в философском дискурсе; в дефиниции ноэмы как
мельчайшего кванта смысловой суперструктуры в контексте теории ноэм; в
установлении возможных путей изучения смысла (а не только значения),
встречающегося в текстах, порождаемых «языковой игрой», или же текстах
«потока
сознания»,
дефиниционного
и
в
отношении
которых
дефиниционно-компонентного
традиционные
анализа
методы
оказываются
неработающими; в выделении 14 видов трансформаций, позволяющих изменять
иерархическую суперструктуру смысла; а также в прояснении «мышления»
философов средствами «лингвофилософии» как нового метаязыка третьего
уровня абстракции.
Практическая значимость работы заключается в возможности её
применения в следующих областях: лингвосемиотике, общем языкознании, при
изучении основ философии на материале оригинальных текстов, разработке
авторских
курсов
по
семантике
философского
текста,
а
также
в
лексикографической практике при создании словарей по языку философии.
Результаты и выводы были реализованы нами в учебных пособиях и авторском
курсе лекций по «Транслатологической интерпретации текста» и апробированы
в учебном процессе по данному авторскому курсу.
Достоверность
исследования
основывается
на
логической
последовательности теоретических материалов для доказательства гипотезы, на
представительности выборки практического материала, а также на валидности
методологии и методов, положенных в основу данной работы.
14
Выбор в качестве эмпирического материала философских текстов
экзистенциализма обусловлен универсальной значимостью данной системы
философствования, а привлечение японских философских источников в
качестве фонового материала вызвано некоторой схожестью герменевтики М.
Хайдеггера и японского философствования, построенного на особенностях
иероглифической
модели,
смыслопорождения
в
что
позволяет
«нестандартных»
продемонстрировать
для
традиционной
феномен
философии
синкретических формах.
Выбор данного эмпирического материала обоснован также тем, что,
философия
представляет
собой
особый
вид
метанаучного
дискурса,
вербализующего рефлексию и собственно суждения над онтологическим,
нетривиальное по-знание объективной реальности, глубже любого предмета
познания, она направлена на постижение сущности феноменов, в том числе и
сути вербализующего компонента. Производство новых смыслов, как и
трансформация суперструктуры в переосмысленных смысловых конструктах,
формирующихся в новом философском дискурсопорождении, превращается в
процесс
постоянного
перетекания
и
мутации,
пронизывающий
всю
когнитивную сферу.
Апробация теоретических положений и результатов исследования.
Основные положения и результаты диссертации изложены в докладах на
международных, всероссийских и межвузовских научных конференциях (в
Москве, 2007; Санкт Петербурге, 2010; Праге, 2012; Нижнем Новгороде, 2011;
Ростове-на-Дону, 2008, 2010, 2011; Ставрополе, 2010, 2012, 2013; Пятигорске,
2011, 2012; Краснодаре, 2011; Нальчике, 2013; Таганроге, 2011; Тамбове, 2013,
а также на заседаниях кафедры немецкого языка КБГУ им. Х. М. Бербекова,
заседаниях научных семинаров «Textus» (г. Ставрополь) и «Герменевтика 2» (г.
Пятигорск),
в
монографиях
«Пролегомены
к
общей
теории
смысла
философского дискурса: введение в иерархическую ноэматику смысловых
структур» (Ставрополь, 2012), «Ноэматическая иерархия философского текста в
аспекте смыслопорождения и интерпретации» (Ставрополь, 2014), а также в 22
15
публикациях в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ для публикации
результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук, и в 46 публикациях в других научных изданиях. Материалы диссертации
использованы автором также при подготовке учебно-методических пособий,
лекционных курсов и докладов в СКФУ, ИДНК (г. Ставрополь).
Структура и объем работы отражают логику и основное содержание
работы. Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения, библиографического списка, включающего 502 наименования на русском и иностранных языках.
В первой главе исследуются феномен философствования как особого
типа
дискурса
и
правилосообразности
проблемы
и
философского
индивидуального
в
языка,
соотношения
вербальной
репрезентации
философской рефлексии.
Во второй главе рассматриваются и выводятся основные параметры
филологической феноменологической герменевтики как методологической
основы ноэматического анализа.
В третьей главе исследуются общие принципы и основные стратегии
смыслопорождения как имманентной феноменологической или ноэматической
рефлексии.
В
главе
четвертой
анализируется
зависимость
моделей
смыслопорождения от типа лингвокультуры в аспекте их взаимодействия и
взаимовлияния.
В пятой главе устанавливаются, описываются и анализируются
различные модели трансформации суперструктуры смысла как возможности
перераспределения и акцентуации ноэмосферы.
В шестой главе предлагается способ объединения элементарных частиц
смысловой
иерархию.
суперструктуры
в
узловые
метаединицы, структурирующие
16
В заключении формулируются теоретические выводы и подводятся
общие итоги исследования.
Общий объем диссертаци и составляет 448 страниц машинописного
текста.
17
ГЛАВА I. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И ЯЗЫК ФИЛОСОФИИ,
ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС
Философский дискурс – язык и трансценденция, герменевтический
1.1.
характер философского языка
В данном параграфе нами анлизируется язык философии как особый
вариант языка, вербализующего мышление, и отправной точкой в данной
работе будет служить изречение Ясперса о языке: «Это трансцендирующее
мышление есть мышление, которое благодаря методу научно по своему
характеру, а вместе с тем из-за исчезновения определённого предмета иное, чем
научное познание» [Ясперс 1991: 434].
В своем описании философского дискурса мы следуем идее К. Т. Ясперса
о том, что философия имеет дихотомическую природу, а значит, таковую же
имеет и язык философского дискурса: философия и тексты философского
дискурса научны по своей методологии, но в то же время эта научность совсем
иного порядка. То, что наука есть дискурс, точнее, один из типов дискурса –
является общеизвестным.
Философию часто также определяют как дискурс. Словосочетание
«философский дискурс» уже во многом стало ходовой монетой [Хабермас
2003].
Мы можем утверждать, ято философия представляет собой метанаучный
дискурс как рефлексию над онтологическим и собственно вербализацию
суждений об этом онтологическом. Отметим, что это не просто тривиальное
познание объективной реальности: философия глубже любого предмета
познания,
направлена к сути, в том числе и к сути вербализующего
компонента. И философствование представляет собой трансцендирующее
мышление, а значит, можно предположить и трансцендирующее языковое
выражение, как метко заметил Ясперс, «можно сказать, философское
объяснение достигает своей цели, когда вещь становится беспредметной,
причем в двояком смысле, который заключается в том, что для позитивиста
ничего не остается потому, что он не видит больше предмета, тогда как для
18
философа благодаря этому возникает свет. В исчезновении предмета он,
правда, не может охватить подлинное бытие, но может быть наполнен им»
[Ясперс 1991: 434]. Да и философствование трансцендирует не сам предмет
мышления, точнее, не только его, но и дискурс, и текст, вербализующий
понятие о каком-либо феномене. Дискурс фиксирует определенные отрезки
объективной реальности, фиксирует области рефлексии, но философский текст
распредмечивает смыслы и освобождает бытие от пространства текстовой
реальности, он как бы деструктурирует дискурс.
Вербализация
онтологических
конструктов
наталкивается
на
неразрешимое противоречие: бытие и мысль о нем не могут быть
репрезентированы в дискурсе, но философствование и есть дискурс или, как
некоторые утверждают, «псевдодискурс». Стандартный язык не дает этой
возможности, с этим и связано рождение нового метаязыка философии, часто
парадоксального, такого, которой позволяет выразить мышление «на грани и за
границами языка». Многообразие дискурсов и сам дискурс как таковой
возможны
лишь
благодаря
наличию
некоего
первичного
потока
трансценденции, не являющегося дискурсом в привычном понимании и
рождающего некий метадискурс, который дает возможность фиксации и
деструкции других типов дискурса. Поток игры дискурсов является тем сущим
особым типом дискурса в лингвистическом понимании, который представляет
собой философствование.
Философский дискурс имитирует другие типы дискурса и рефлектирует
над ними и их языком, но сам не является данным конкретным дискурсом,
обладая специфическими чертами. Он есть попытка представить вербально
рефлексивные акты мышления в чистом виде на третьем уровне абстракции,
«горизонт исчезновения и нивелирования всех дискурсивных структур в
направлении высвобождения чистого бытийного потока» [Фаритов URL:
http://phil.ulstu.ru/files/stat/faritov_psevdodiskurs.pdf] Например, Хайдеггеровская
философия также исходит из дискурса – дискурса повседневности как основной
сферы экзистирования Dasein (неподлинная экзистенция). Данный дискурс
19
подвергается деструктивному анализу (аналитика Dasein) с целью раскрытия
лежащей в его основании экстатической временности как горизонта всякого
понимания бытия.
По замечанию А. Бергсона, интуитивное начало лежит в основе любого
философствования, эта константа интуитивного и является, по сути, главным
предметом работы философа. Его часто невозможно вербализовать, и
рассуждение об этом начале, попытка его репрезентации и есть работа
философа (здесь мы включаем в нашу методологию ещё и константу
интенциальности по выражению данного интуитивного). И даже приближение
к этому интуитивно о-сознаваемому не есть прояснение понятого, о-сознанного,
но есть процесс по порождению понимания; это некое прояснение
существующего до языка, а иногда даже до смысла, некий центр притяжения,
точка сингулярности.
Для декодирования смысла философского текста мы по существу должны
пройти его путь по порождению оного, что, очевидно, не является полностью
осуществимым, ведь и сам философ пытается вербализовать эту исходную
интенцию во всех своих работах. Однако, по мнению Бергсона, она должна
отвечать и требованиям разумной логики реципиента, а значит, и смысл, и
имманентная интенция должны быть декодируемы. Таким образом, декодируя
философское учение, концепцию, являющуюся в итоге репрезентацией
интуиции, мы приближаемся к центральному пункту философствования, да и
само учение ориентировано на коммуникацию, в то время как интуиция
принципиально не коммуникативна, а является безрефлективным чуждым
опытом. В этом и кроется различие между пониманием философского текста и
пониманием философа. Оно коренится в отношении к языку философа и
отношением к языку реципиента. Интенциальные «неудачи» в вербализации
интуитивного
доопытного
феномена
не
должны
препятствовать
герменевтическому акту понимания, наоборот, они должны служить маркерами
определенных
схем
понимания.
Философ
движется
от
интуиции
к
вербализации и коммуникации, реципиент же распредмечивает смыслы,
20
имманентно присутствующие в тексте и репрезентированные в языковых
феноменах. Для данной операции обязателен качественный скачок в
мышлении, поэтому рефлексия реципиента имеет не меньшее значение, чем
рефлексия философа при порождении смысла текста.
Огромнейший
провал
между
интуитивно
о-сознаваемым
и
вербализованным в философском тексте является тем самым непониманием, на
котором
основывается
мысль;
это
главнейший
фактор
становления
феноменологической рефлексии. Для любого философского учения, вне
зависимости
от
направления,
важна
рефлексия
не
только
над
рассматриваемыми феноменами, но и над языком, которым пользуется
философ. «Язык философии парадоксален, он имеет отношение к тому, чего
нельзя знать в принципе» [Мамардашвили 1990: 367].
Мысль о том, что основной проблемой философии является проблема
языка, красной нитью проходит и во всех работах М. Хайдеггера. Любое
онтологическое рассуждение подчинено трансценденции языка. Встреча языка
и объективной реальности, встреча и контроверз вещи и слова, как её знака,
знаменательна для обсуждения проблем «Dasein» в отношении составляющих
«Da» и «Sein» оппозиции присутствия в некоем хронотопе (Befindlichkeit) и
герменевтического процесса понимания, о-сознания данного присутствия (Verstehen).
Интересен
вопрос
о
непосредственном
переходе
к
сути
философствования, к исходному интуитивному без обращения к типам
вербализации. Здесь мы увидим некое техническое отношение к языку, и для
герменевтического
понимания
внимание
к
языку
философа,
анализ
деривационных механизмов смысла – это та неизбежная плата, которая
предшествует истинному узрению сути.
Выбор средств вербализации, то есть сам язык философствования, может
быть адекватным и удачным, или же не быть таковым, в отличие от собственно
константы интуитивности, которая стоит отдельно от языковых средств, хотя и
дает нам возможность ощутить присутствие продуцента философского текста.
21
Именно по отношению к данной константе вербализованный текст учения или
концепции служит лишь путем к пониманию.
Говорят, что язык немецкой классической философии отличается от
других языков, и даже от языка философии в других странах, в частности,
языка английской философии. Многие тексты немецких философов были
переведены на другие языки, но речь здесь может идти лишь о некоем, часто
неадекватном,
компромиссе
между
следованием
букве
оригинала
и
интерпретативным прочтением. В этой связи мы говорим не об элементарных
трудностях перевода и не о нехватке переводческих трансформаций, а о
принципиальных проблемах герменевтического толка. Что есть перевод:
личностное авторское или вторичное смыслопорождение? Очевидным является
вопрос о параллельном, а иногда и взаимопроникающем влиянии перевода и
смыслопорождения. Данный факт связан с тем, что текст перевода, являясь
результатом процесса перевода, несет опосредованный отпечаток процессов
смыслопостроения, «чужеродных» собственно авторскому смыслопорождению,
но
именно
поэтому
данный
текст
может
служить
уникальным,
зафиксированным в языке-реципиенте полем для исследования возможностей
смыслопостроения как одного, так и другого языка. Следует также сказать о
необходимости изучения различных методик анализа дискурса, могущих
послужить объективности при передаче всех видов смысла, ведь оные могут
дать дополнительные критерии адекватности.
В данном параграфе мы попытаемся отразить наши взгляды на общее
соотношение понятий и процессов перевода и смыслопостроения, а также на
значение лингвокультурологического подхода, который, как нам кажется,
способен играть интегрирующую роль при изучении процессов перевода и
смыслопорождения; и если нам удастся, предложим дополнительный критерий
адекватности перевода разнонаправленных дискурсов.
Со всей очевидностью можно утверждать, что существуют как минимум
два подхода к вышеозначенной проблеме: 1) перевод как вторичное
смыслопорождение на основе текста языка-объекта; 2) собственно авторское
22
смыслопостроение
как
интерпретативная
переработка
«чужеродной»
концептосферы. «Первая модель недооценивает фактор отличия языков и
специфики перехода от одного языка к другому с фиксацией результатов
перехода в виде текста перевода и, соответственно, приравнивает перевод к
интерпретации вообще. Тогда как вторая модель переоценивает фактор отличия
личных интеллектуальных кодов и тем самым приравнивает интерпретацию к
переводу» [Псурцев 2002: 22].
В первом случае естественным становится создание некоторой версии
текста-оригинала,
тем
самым
подрывается
суть
самого
понятия
«смыслопорождение». Тогда как в рамках второго подхода подобной же
«девальвации» подвергается понятие «перевод», которое выступает теперь как
обычное преобразование концептов – «подгонка» их под своё мировосприятие.
Первый подход к проблеме по сути дела предлагает нам вариант вторичной
номинации в уже имеющемся тексте. Вторая методика перемещает данную
проблему в сферу общей теории смыслопостроения, в которой межъязыковой
перевод является лишь частным случаем смыслопорождения «второго уровня
абстракции» и в принципе ничем не отличается от стандартной интерпретации
текста (причём в данном случае мы имеем дело лишь с односторонним
анализом, так называемой «перспективой реципиента»). Эта вторая модель
представляет нам пример, в значительной степени напоминающий процесс
восприятия любого вида дискурса безотносительно к тому, на каком языке он
производится.При этом мы можем убедиться в том, что оба этих подхода,
какими бы разнонаправленными они ни казались, имеют общий базис для
существования, а именно, пытаются решить проблему посредством дескрипции
смыслопостроения и перевода во взаимопроникновении. Тем самым они,
очевидно,
выводят
её
из
исследования. Таким образом,
собственно
переводоведческого
предмета
чтобы, оставаясь на почве лингвистики и
переводоведения, исследовать и установить подлинное соотношение перевода и
смыслопорождения в координатах этих наук, нужно включить в сферу
изучения
и
перевод
(межъязыковой
перевод),
и
смыслопостроение
23
(возможности координации и ре-продукции языковых знаков в форме дискурса)
как относительно самодостаточные объекты изучения, одновременно не
лишенные потенциальных точек связи или корреляции.
Порождение дискурса любой направленности и его интерпретация –
процессы, имеющие разных субъектов, но единый объект. Эти процессы
разнонаправлены («к объекту» и «от объекта», соответственно), но в объектетексте встречаются, что и создает онтологическую предпосылку объективности
интерпретации. (Следует, впрочем, помнить, что если целью продуцента
является создание дискурса, то целью реципиента – построение его смысла.)
Другим важным фактором принципиальной возможности объективной и
адекватной «переводимости» является линейность текста как материального
построения. В этом линейном построении обретает реальное воплощение
замысел продуцента; каков бы ни был первоначальный план, как бы объемно,
системно, структурированно ни наличествовали смыслы в сознании автора во
время
создания
текста,
–
единственной
первичной
реальностью
для
интерпретатора/реципиента будет линейный в первоначальном прочтении
текст. Безусловно, однако, и то, что в сознании интерпретатора линейность
восприятия сосуществует с надлинейностью. Именно «единство и борьба»
линейности и надлинейности восприятия создают то плодотворное напряжение
при
восприятии
текста,
которое
служит
главной
предпосылкой
смыслоформирования для реципиента.
В аспекте смыслоформирования (и в порождении, и в восприятии)
специфика дискурса как художественной, так и философской направленности
(кои и составляют наш особый интерес) заключается в принципиальном
отсутствии у их продуцента и реципиента, установки на очевидность,
одномерность смысла. Средством реализации смысловой многомерности,
смыслового объема в линейной материальной среде физически фиксируемого
дискурса
являются
лингвокультурно
и
концептуально
маркированные
элементы текста. Огромная роль лингвокультурных и «игровых» стратегий в
порождении и раскодировании дискурса не подлежит сомнению. Именно с
24
помощью этих стратегий автор создает «смысловые скважины» (термин Н. И.
Жинкина), или некие окказиональные новообразования, играющие столь
важную роль в структурном построении дискурса (в данном случае под
структурой
будем
понимать
взаимосвязь
функциональных
системных
элементов всех уровней). Их роль можно сравнить с ролью своего рода паролей
и кодировок в некоторых базах данных, разгадать которые у реципиента нет
никакой возможности, а потому он должен опосредованно (с помощью
имеющегося у него кода) их «взломать». В создании эффектов многомерности,
продуктивной неопределенности особенно велика роль концептуальных
компонентов, которые способны образовывать надлинейную структуру на
уровне восприятия текста как цельности и, как представляется, могут играть
ключевую роль в создании смыслового объема. При построении подобной
структуры сознание реципиента может испытывать одно из наибольших
затруднений, но тем большей ценностью для адекватного перевода и
переработки смыслов обладает эта структура надлинейного выдвижения.
Попытаемся теперь рассмотреть переводческий аспект. Цель перевода –
создание, на основе подвергнутого целенаправленному («переводческому»)
анализу первичного дискурса языка-объекта, вторичного дискурса целевого
языка, заменяющего первичный в другой языковой и лингвокультурной среде
[Швейцер 1988]. Большинство исследователей отмечают двухфазный характер
процесса перевода, связанный с наличием в нем первичной и вторичной
коммуникативной ситуации. Если пренебречь возможными психологическими
и процессуальными различиями между восприятием текста на родном языке и
иностранном языке, то, можно сказать, что переводчик в качестве первичного
коммуниканта, воспринимающего и анализирующего текст, выступает в роли
реципиента
(интерпретатора
дискурса,
преобразующего
«чуждые»
лингвокультурные и концептуальные смыслы и выстраивающего их по-своему
в новой иерархической структуре). Очевидно, что при подобном подходе
сказанное
выше
об
объективности
реконструкции
смысла
и
об
интенциальности оного, а также о построении смысла с учетом априорной
25
возможности многомерных, многоплановых эффектов на уровне цельности, на
основе анализа концептуальных/лингвокультурных ноэматических сущностей и
характера взаимодействия подобных и фактуальной составляющей, вполне
приложимо к ситуации интерпретации (восприятия) дискурсов различной
направленности переводчиком, то есть к первичной коммуникативной
ситуации. При обращении к вторичной коммуникативной ситуации для
реципиента перевода данностью является вторичный текст, и теперь реципиент
выступает в роли интерпретатора, реконструирующего смысл. Всё сказанное о
параметрах интерпретации и возможностях смыслопостроения с опорой на
вновь
реконструируемую
порождения
новых
концептосферу
смыслов
возможно
и
лингвокультурные
в
применении
к
аспекты
вторичной
коммуникативной ситуации.
Следует заметить, что из приложимости описанных общих параметров
смыслопостроения и к первичной, и ко вторичной коммуникативной ситуации
отнюдь
не
вытекает
тождество
конкретных,
реальных
смысловых
характеристик оригинального и переводного текста. Перевод как процесс
связан со смыслом, построенным переводчиком-интерпретатором, однако
перевод устремляется дальше, за этот смысл, «обратно» к дискурсу. Но это уже
иной, вторичный, отраженный дискурс. Причем если при восприятии (осознанном)
реципиентом-переводчиком
определенные
погрешности
в
реконструировании/декодировании смыслопорождающих интенций дискурсаоригинала – излишний субъективизм, разрастание зон периферии смысла в
ущерб его ядерным зонам – материально еще не зафиксированы, то в целевом
дискурсе они могут обретать материальное воплощение. Для реципиентачитателя текста перевода этот текст уже является единственной данностью,
если не принимать во внимание отдельные случаи билингвов, где мы
вынуждены
будем
признать
принадлежность
реципиента
к
обеим
лингвокультурным общностям. И он, за исключением явных логических и
семантических неувязок, не может и не берется судить о смысловых сдвигах,
произошедших при переводе. Всё это явно приводит к девальвации ценности
26
целевого дискурса для изучения возможностей смыслопостроения (имеется в
виду авторское смыслопостроение).
Перейдём к вопросу о Sinnesverschiebung возможностях построения тех
или иных ноэматических реалий. Некоторая (возможно, и наивысшая по своим
показателям) степень Sinnesverschiebung, происходящего при рецепции, также
неизбежно имеет место при переводе.
Доводом в пользу такой точки зрения могут служить
тексты
автоперевода, то есть перевода автором своих собственных текстов, а также
сравнение с оригиналом так называемого обратного перевода и сопоставление
переводов одного произведения, выполненных разыми переводчиками (в
частности, мы столкнулись с подобным при изучении оригинальных текстов М.
Хайдеггера и переводов В. В. Бибихина). Со всей очевидностью правомерно
говорить о личностной, языковой, а также лингвокультурной интерференции
при переводе концептуальной и лингвокультурной информации дискурса, хотя
чёткую грань между ними
провести вряд ли удастся.
Личностная
интерференция базируется на использовании тех возможностей, которые даёт
целевой язык, в то время как на выбор тех или иных возможностей целевого
языка при передаче, казалось бы, изначальных интенциальных смыслов
оказывают
переводчика.
определяющее
влияние
Концептуальная
и
личные
предпочтения
лингвокультурная
реципиента-
информация
также
подвергается влиянию мировосприятия переводчика, да и строится на основе
потенциальных языковых возможностей. Огромное значение должен иметь и
уровень привносимых в текст окказиональных элементов, в частности, это
касается философского дискурса (примером служит тот же перевод работ М.
Хайдеггера). Качественный характер интерференции при рецепции и переводе
разнонаправленных дискурсов имеют также немаловажное значение ее
свойства,
отрицательные
и
положительные
стороны.
«Объективно
адекватный» (построенный на основе правил и возможностей целевого языка,
без выхода в плоскость «языка на грани и за гранью») текст перевода может не
соответствовать самим «мыследеятельностным» построениям, извлекаемым из
27
оригинала самим реципиентом-переводчиком, подобно тому, как выраженный в
материальной форме текст оригинала может «грешить» против замысла своего
непосредственного автора. Текст оригинала и текст перевода, как было
отмечено выше, в своей данности линейны,
тогда как замысел и смысл
объемны. В то же время текст перевода, если это перевод, выполненный по
классическим канонам, без привлечения теории функциональных смысловых
систем, обладает меньшим потенциалом вариабельности, произвольности, чем
ментальное
смысловое
построение,
формирующееся
при
рецепции
переводчика, знакомого с лингвокультурными и концептуальными смыслами
языка-объекта. Так как такое «мыследеятельностное» абстрактное построение,
являясь вербализованным, всё ещё свободно от ответственности следования
передаче оригинальной мысли, которую налагает на переводной дискурс
эксплицитная вторичная художественная, стилистическая и концептуальная
форма, в идеале стремящаяся максимально приблизиться к форме оригинала.
Важнейшим свойством лингвокультурной интерференции при межъязыковом
переводе следует считать ее выраженность, объективированность, которые
неизбежно возникают, несмотря на преобладающую «субъективную» (однако
отягощённую возможностями и структурой самого целевого языка) природу
самого явления интерференции. Очевидно, что концентрация смысла в
языковой единице может быть решена посредством примерного соответствия
объёма переводного текста и текста-оригинала. Но, с другой стороны, точное
формальное следование в переводе тексту-оригиналу отнюдь не является
панацеей от ошибок при переводе, так как точность следования оригиналу еще
не гарантирует точности передачи многоплановых (лингвокультурных и +
концептуальных) смысловых эффектов. Неоправданный формализм может
также рассматриваться как негативная, но теперь уже обратно направленная
языковая интерференция. Точность же передачи многоплановых смысловых
эффектов достигается гораздо чаще смелыми, неформальными переводческими
решениями,
намеренно
вводящими
некоторые
неточности
(«жертвы»)
эквивалентности на низких уровнях для достижения эквивалентности на более
28
высоких. Такие решения необходимо понимать как форму проявления
неавтоматичной позитивной интерференции.
Если учитывать различные трактовки понятия адекватности перевода, то
мы, по сути, столкнёмся с различными критериями адекватности. Безусловно,
можно рассматривать адекватность как некое соотношение оригинала и
переводного текста, при котором, как правило, учтена цель перевода. В связи с
вышеизложенным мы предлагаем такой критерий адекватности (с учётом
сходства
в
смыслопорожденческой
и
интерпретативной
деятельности
переводчика), как критерий передачи в переводе эффектов концептуальной и
лингвокультурной смысловой многоплановости на уровне цельного текста,
эффектов, которые возникают за счет уподобления представления о тексте на
уровне линейной связности иному представлению о тексте на уровне объемной
цельности. Он максимально способствует возможному (без нарушения
стилистических норм целевого языка) сохранению свойств лингвокультурной и
концептуальной составляющей смысла, критерий успешного воспроизведения
средствами целевого языка структуры концептуального и лингвокультурного
компонента исходного текста. Концептосфера и лингвокультурный аспект, их
структура надлинейного выдвижения могут являться теми основными,
базисными компонентами, которые подлежат анализу при восприятии и
сопоставлении оригинала и перевода. Важно обращать особое внимание на
степень очевидной выраженности этих компонентов в тексте перевода, на
характер взаимодействия структуры лингвокультурных и концептуальных
сущностей с фактуальной составляющей и на баланс вышеозначенных
элементов внутри концептуальной структуры. Отметим, что именно на уровне
передачи этой структуры особое значение могут приобретать стратегии
компенсации, неавтоматичная позитивная интерференция.
При этом подобный подход является, как нам кажется, достаточно
ценным как для переводоведения, так и для лингвистики в целом. Учет при
переводе лингвокультурных и концептуальных многомерных смысловых
структур
представляется
нам
наиболее
оправданным
при
переводе
29
философских дискурсов, как наиболее сложных в смысловом отношении. В
связи с этим приведем цитату из работы Fülleborn G. G. «Beiträge zur Geschichte
der Philosophie»: «То, что современные писатели превращают в развлекательное
чтение, это отнюдь не вольфовская логика, метафизика и этика: это всего лишь
рассуждения
об
общезначимых
предметах,
материал
для
которых
позаимствован из этих систем… Созданная философом система, если она
действительно основана на спекулятивных принципах и выведена из них с
систематической основательностью, совершенно не может быть изложена без
искусственного языка, что делает также невозможным ее упрощение для
всеобщего чтения. Только общеполезные результаты этих систем могут
превратиться под руками ловких умов а la portū de tout le monde.
Лихтенберговы сообщения о небе являются увлекательным чтением для
каждого и как бы специально предназначены для карманной книги. Но это
всего лишь результаты большого количества глубоких изысканий и искусных
вычислений, которые автор, при всем своем желании и способности излагать
доступно, никогда не смог бы превратить в понятные для всех, занимательные
сочинения» [Fülleborn 2012: 138].
Трудность в понимании философского текста и есть его ценность,
рождающая мысль и рефлексию, настоящий философский язык требует особого
рода усилий. В предисловии к Hegel-Lexikon Глокнер пишет: «Известно, что
Гегель пользуется своим собственным языком, а поэтому он должен быть
прочитан, как и философия античности или средневековья, с такой же
«филологической» преданностью этому языку, который отнюдь не является
общепонятным» [Glосkner 1934]. Из этого можно сделать вывод о том, что
характер интерпретативного восприятия данной структуры имеет отношение
как к ядерной части смыслового построения, так и к периферийной, причем,
чем более оптимальной относительно смыслового целого будет эта трактовка в
переводе, тем большая степень корреляции или даже совпадения будет
наблюдаться между ядерной зоной смысла первичного и ядерной зоной смысла
вторичного смыслопостроения.
30
1.2.
Наиболее
философских
Символ и смысл в языке философии
интересным
текстов
в
проблемах
является
философии
определение
языка
параметров
и
языка
метаязыка
философствования как средства для вербализации ментальных конструкций.
Ведь, как было показано выше, философия не есть наука как таковая и не есть
социокультурное явление, она следует букве того дискурса, в ситуации
порождения или описания которого она находится.
Исторический или же гуманитарный подход к описанию философии как
истории некоторых учений, впрочем, как и естественно научный подход для
действительного герменевтического понимания, неприемлем, хотя общее
допущение о научной природе знания репрезентируемого в философском
дискурсе
неоспоримо.
Постулирование
некой
промежуточной
позиции
(отграничивающей философию как от сциентистского, так и от внутренне
гуманитарного подхода) является главной проблемой. Этот подход можно было
бы назвать метатеоретическим или трансцендентальным, для философского
дискурса релевантно познание объективной реальности, находясь не внутри и
не вне его, а на границе для восприятия целостной картины мира. Именно
поэтому необходимо рассматривать философское знание с точки зрения
метатеоретического подхода.
Если философия есть лишь мысль, то релевантно высказывание Л.
Витгенштейна об ограниченности мысли вербализованной, но и возможность
существования философствования в неязыковой форме не представляется ни
познаваемой, ни о-сознаваемой. Если же её анализировать только с позиций
лингвистических, как языковой феномен, то некоторые смыслы, рождаемые ею,
остаются нераскрытыми.
«Специфика философии проявляется в особенностях ее языка, который
отличается как от «доязыковой» практики «образного» мышления Мифа, так и
от «понятийного» (знаково-денотативного) языка науки (теории). Собственно, в
этом нет ничего удивительного, если предположить отличие философии как от
Мифа, так и от Науки. В историческом плане феномен философии занимает
31
«пограничное»
положение
между
феноменами
исчезающего
Мифа
и
возникающей Науки» [Катречко 1995: 44].
Для
философских
текстов
характерно
использование
различной
символики, воспринимаемой реципиентом не разумом, но с помощью
интуитивной ноэматической рефлексии, или же, при более детальном
прочтении
и
реконструкции
системы
символов,
–
рефлексии
феноменологической. Если рассматривать понятие «символ» только в
философском контексте, можно говорить об обязательности наличия символов,
так как они представляют своеобразный каркас из фоновых знаний, на основе
которого строится понимание и восприятие философского текста. В отличие от
конкретных предметов физической реальности, символы не «существуют» как
объекты физической реальности, но имеют метафизический статус своего
существования.
Гипотеза
о
превалировании
символа
и
метафоры
в
языке
философствования должна пролить свет на специфику подобного рода
дискурса как на рассуждение о каком-либо феномене в русле его бытийности.
Философия вынуждена оперировать некими знаками-символами, которые
обладают минимумом денотативности и максимумом смысловости. Это по сути
дела
«игра
в
бисер»,
методика
языковой
игры
для
объяснения
смыслопорождения и смыслодекодирования символов в некой системе
самоссылающихся друг на друга терминов и категоризованных понятий. Смысл
каждого из элементов системы подобного рода существует лишь при наличии и
строгой определенности смысла других элементов данной системы. Это
подобно играм о прояснении сущности того или иного феномена через его
правила и рассмотрение другого термина: как «сознание» детерминируется при
допущении существования «материи», и уточняется при сопоставлении с
другими категориальными понятиями философской системы.
Но в этом случае мы не усматриваем других сущностных характеристик
этого вида дискурса и сводим все к анализу языковых фактов и возможностям
вербализации и концептуализации неких ментальных образований. Но, изучив
32
эту систему более детально, можно предположить, что символьный язык
философствования есть репрезентация более глубинной характеристики её как
особого рода деятельности, а именно, репрезентации самого предмета
философствования.
философского
Особые
дискурса.
метафизические
Эти
единства
категориальные
составляют
ментальные
суть
единства
проясняются в тезисе С. Л. Катречко о целостности «мира». «Одной из них
является «мир», и, в этом смысле, нередко говорят, что философия являет собой
мировоззрение (воззрение на мир). Конечно, мир как некоторая совокупность
вещей может изучаться и «физикой» (науками в широком смысле), но в этом
случае из поля зрения исследователя выпадает то, что собственно и делает мир
«миром» (целостность мира), а не просто совокупностью вещей. В отличие от
обычного научного изучения философия подходит к объектам своей работы
именно как к «целостностям», которые познающий субъект не может изучать
как обычные объекты, поскольку объемлющий человека характер этих
«целостностей» в принципе исключает стандартный научный подход к их
познанию» [Катречко 1995: 48].
Из вышесказанного следует, что язык философствования – это особый
язык, оперирующий символами, по сути, некими именами и понятиями для
вербализации метафизических объектов. Они представляют собой абстракции
третьего уровня, некие идеальные объекты, не имеющие определенного
денотативного значения, не определяющиеся только феноменом объективной
реальности. «Эти конструкты, в отличие от конкретных предметов физической
реальности, не «существуют» как объекты физической реальности, имеют
метафизический статус своего существования. В общем, такие языковые
конструкции (знаки) могут быть названы «языковыми фикциями». Если задать
классификацию
знаков
по
степени
«денотативности»,
то
«символы»,
репрезентирующие «метафизические» объекты, занимают самое крайнее
положение, поскольку они вообще не имеют «физического» (чувственно
данного) референта. Однако, в отличие от функциональных «языковых
33
фикций», или «пустых» знаков (типа «круглый квадрат»), они имеют
«максимум» смысла» [Гильберт 1948: 157].
В силу общности символов в конкретной лингвокультурной общности
или же хотя бы в силу общности категориальных признаков данной символьной
системы у реципиента есть широкие возможности для декодирования смысла
текстов, построенных по этим принципам, выраженного средствами метаязыка
любого уровня. Символьный язык философии не является обычным языком
трехуровневой структуры: синтаксического, семантического и денотативного, а
представляет двухплоскостную семантику, то есть избегает денотации. Именно
в связи с этим фактом невозможна референция смыслового содержания к
объективной реальности; границы данного символьного языка не определяются
границами нашего мира, они расширяют его до семантики всех возможных
миров, устраняя противоречие: «границы моего мышления есть границы моего
языка».
Данный символьный язык гораздо шире, чем любой другой метаязык,
такой, как метаязык формальной логики или математики, которые, в свою
очередь,
выступают
метаязыками
к
теоретизированным
конструктам
естественных и гуманитарных наук, или же естественным языкам (второго
уровня абстракции). Философствование не будет возможным ни на одном из
вышеперечисленных
языков,
наличие
метасимвольности
предопределяет
ноэматику, а значит, и горизонт мышления. Именно процессы категоризации
неких
категориальных
признаков,
их
структурирования
в
особом
ноэматическом поле предполагают единство и целостность философствования,
творимость и новум в интуитивном и интенциальном рассуждении. Именно
работа с категоризованными понятиями ментальных объектов проясняет
возможность
описать
философствование
как
иерархическую
структуру
лингвокультурно обусловленных ценностей (символов культуры), образующих
когнитивный и концептуальный костяк конкретного направления философской
мысли. С данных позиций вся история философии является системой
развивающихся и сменяющих друг друга символьных систем с тремя наиболее
34
общими
метасистемами:
античной,
классической
и
современной,
или
постсовременной. Это членение на метасистемы символов происходит на
основе смен парадигм в рассмотрении определенных объектов философского
знания: Космос вне Хаоса, объект – субъект в мире когито (Я – Мир – Бог),
целостность cogito и расщепление идей разума в метасмысловом освещении.
Появляется
множество
возможных
мыслимых
миров,
определяющих
существование того или иного смысла, его репрезентацию в конкретной модели
и построение системы тех или иных иерархически структурированных единств.
Кроме понятия «символ» в философском смысле, в данном типе текстов
можно говорить о других символах как о подвиде метафоры. В данном случае
метафора немного иная, чем в художественных произведениях. В философии
метафорические символы обогащены глубоким смыслом и символизируют
сдвиг значения. Так же, как и в чисто философских символах, значение
символов-метафор
может
оставаться
скрытым
при
интерпретации
и
декодировании на уровне ноэматической рефлексии, и раскрывается лишь в
фиксации рефлексии феноменологической, только с помощью вертикального
контекста
представляется
возможным
правильно
воспринять
и
интерпретировать значение символов.
Подводя итог, можно сказать, что символы в философских текстах как
часть составляющей некой системы целостностей, можно разделить на два вида
– символы в чисто философском смысле и символы как вид метафоры (оба вида
репрезентируют символизм в языке философии, но не на обыденном уровне, а в
понимании концептуального каркаса конкретной лингвокультуры). Символы в
чисто философском смысле можно назвать лексически «пустыми», так как
буквальные значения слов, их составляющих, не имеют смысла. Хотя сам
символ
наделен
глубоким
смыслом
и
его
понимание
зависит
от
индивидуальности реципиента. При этом, кроме буквальной интерпретации,
данные символы иначе переданы и декодированы быть не могут, а потому
требуют
погружения
и
следования
путем
продуцента
данного
вербализованного выражения. Символы же, как вид метафоры, встречаются так
35
же часто, как и предыдущий вид символов, при их декодировании и
интерпретации требуется учет константы фоновых знаний реципиента.
1.3.
Категориальный инвентарий философского дискурса
Для нас в данном вопросе важна, прежде всего, принципиальная
недефинируемось понятий философского дискурса как терминов: стандартные
дефиниции,
базирующиеся
на
родо-видовой
дифференциации,
не
удовлетворяют нашим требованиям.
Согласно теории определений, дефинируя понятие, мы решаем несколько
задач: 1) установление различий между несколькими понятиями одного
категориального уровня; 2) описание категориальных признаков, составляющих
сущность дефинируемого понятия. Однако подобный анализ ограничен его
преимущественно функционально-семантическими параметрами: определяются
задачи дефиниции, однако гораздо важнее определение категоризованных
понятий как вербальных знаков (языковых выражений). Процесс определения
категориального понятия включает в себя несколько этапов: на первом этапе
отрицательной дефиниции устанавливаются отличительные признаки понятия
от соположенных с ним терминов, проведение границ несмешения понятий,
определение структуры интенциально релевантных ноэм, дифференцирующих
избранное для дефиниции понятие от системы других понятийных единств,
прояснение его смысла – главные операции на данном этапе. На втором же
этапе положительной дефиниции проводится выявление категоризующих
признаков определяемого понятия, прояснение сущности предмета. Истинность
и верифицируемость понятия в когерентном аспекте можно наблюдать уже на
первом этапе негативного определения, корреспондентность появляется на
втором этапе. Именно подобный, более детальный подход к определению
философских категориальных понятий, предлагает более широкие возможности
дефиниции различных терминов.
В нашем исследовании наиболее применим метод языковой игры в
определении категориальных понятий, этот метод основан на детальном
различении сторон и этапов процесса дефиниции. Предварительный анализ
36
функционирования понятия выстраивает ряд аллюзивных сходных понятий,
вербализованных
выражений,
функционирующих
в
сходных
или
рядоположенных контекстах. Дальнейшее сравнение ряда понятий выявляет
более детальные сходства и различия в системе этих терминов, фиксирует
сходства или различия как узуального, так и окказионального характера
употребления данного понятия. Выстраивающаяся при этом сеть сходных и
дифференцирующих признаков отграничивает сферу употребления данного
понятия и тем самым уточняет его смысл в вертикальном контексте. На втором
этапе
раскрываются
(раскрываются
его
внутренние
существенные
категориальные
черты)
и
признаки
выстраивается
термина
«фразовое
пространство» функционирования конкретного понятия.
Неким исходным пунктом к определению понятия Dasein, например у М.
Хайдеггера, может служить ряд терминов: Dasein – In-der-Welt-sein – In-sein –
Nicht-mehr-in-der-Welt-sein – So-sein – Mensch.
Вычленяя этот ряд аллюзивных соположений, можно, с одной стороны,
проследить историю развития этого термина, а с другой – определить
функциональную феноменологию Dasein в общелингвокультурной системе,
изначально понять отграничение понятия Dasein как пограничного понятия
онтологической формы корреляции Befindlichkeit и Verstehen, что фиксирует
отличие данного феномена от Mensch и Sein zum Tode.
Для дальнейшего определения терминологичности данного понятия
необходимо привести историко-культурное описание функционирования
Dasein в «фразовом пространстве» философского дискурса различной
направленности: классической, экзистенциальной, постмодернистской и т.п.
При
диахроническом
анализе
возникает
последовательное
линейное
возникновение и смена лингвокультурных основ, категоризирующих тот или
иной смысл понятия в вертикальном контексте. При синхронном рассмотрении
(с использованием герменевтической модели) возникает общий сонм неких
имманентно присутствующих квантов смысла в понятии (уже известных в
предшествующих
типах
философствования
и
вводимых
или
37
переосмысливаемых новых). В данном случае характерологическим признаком
выступает именно тот провал в понимании традиции и новума, в котором
только и возможно собственно понимание общего смысла понятия. Это
соотносимо
с
неким
естественным
репрезентируемым/традиционным
понятием
состоянием,
и
узуально
неестественным
окказиональным употреблением переосмысленных элементов системы смысла
понятия, эти состояния, вычленяемые при ноэматическом анализе, могут быть
названы метасхемами. Однако это представляет собой лишь первый этап
дефинирования.
Во второй части анализа наиглавнейшим является прояснение некоторых
характерологических черт понятия в той лингвокультурной модели, в которой
существует конкретный философский дискурс, а значит, описания некоторого
набора символьных корреляций Dasein. Как уже упоминалось выше –
философский язык есть символьная вербализация ментальных конструкций,
задающая особую парадигму знания и дальнейшую переработку этих символов:
в более теоретизированных моделях многогранность символьного смысла
нивелируется, зато появляется некое ощущение денотативности философского
описания (как, например, Dasein у Канта).
Само Dasein уже представляет собой некую пространную ноэматическую,
а если угодно – семиотическую систему, а значит, внимание к вопросу о
разграничении Dasein от других понятий аллюзивного ряда, коррелирует с
вопросом о специфике семиотических систем. Основой для подобного
разграничения будет служить прояснение символьных и знаковых сторон
содержания понятия. Как мы уже говорили выше, в таком подходе знаковая
сторона обязана обладать (по Фреге) смыслом и денотативным значением,
символ же утрачивает денотативность.
Эти две взаимодополняющие характеристики имманентно присутствуют
в категориальном философском понятии. Безусловно, есть случаи, когда та или
иная содержательная сторона понятия подвергается практически полной
деструкции: ономастикон как потеря смысловости и пустой знак как утрата
38
денотата. И символьная сторона философского категориального понятия в этом
смысле аналогична пустому понятию; символьная сторона как энергия в
квантовой физике являет собой бозоны, ей нет соответствия в материальном
объективном мире. Знаковая сторона в тех же терминах представляет собой
материю, в основе которой лежат фермионы. Натурализация символьной
(смысловой) стороны является ложным путем, уводящим реципиента от
адекватного герменевтического понимания философского текста. В этом
постулате кроется главная причина невозможности стандартной, классической
дефиниции философских понятий.
Для выявления же смысла символьной стороны, для более точной
дефиниции
терминов
философского
знания
существуют
определенные
процедуры. Мы уже говорили о системе самоссылающихся друг на друга
понятий, благодаря именно подобным системам предоставляется возможность
вычленить некоторые смысловые характеристики отдельных граней символа. И
этот анализ будет репрезентацией языковой игры по Л. Витгенштейну.
Но и этот путь является лишь поверхностным, предварительным
результатом дефинирования того или иного понятия. Для дальнейшего
формирования следует применить анализ метасредств, структурирующих
элементарные кванты смысла в некие иерархические суперструктуры,
проясняющие общее содержание понятия. Пояснить символьную, столь
важную для философского дискурса, сторону понятия можно в анализе,
учитывающем вертикальный контекст, все грани хронотопа и все константы
порождения общего смысла. Однако для прояснения не хватает средств
обыденного языка, диссоциированная модель языка здесь не работает. Прежде
всего необходимо определить язык не только как систему знаков (классическое
определение), но и как систему для производства знаков (по устному
замечанию Г. Н. Манаенко на заседании научного семинара «TEXTUS»
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 26 апреля 2013
г.) В книге М. Петрова предложено пересмотреть традиционную парадигму
языка за счет выделения более крупной, чем предложение, смыслосодержащей
39
единицы [Петров 1991: 60-63]. Здесь уже явно прочитывается вертикальный
контекст как некая «темная материя», структурирующая понимание и
расположение явных компонентов смысла в понятия.
Изначальное понимание символьной стороны связано с «обыденным»,
отграничением термина от сходных понятий ряда, далее данное различие
углубляется в сопоставлении его с другими понятиями системы, ширится
понимание понятия как единства знаковой и символьной сторон, расширяется
контекст
словоупотреблений,
ассоциированных
терминов,
возникает
вертикальный контекст. «Фразовое пространство» ближайшего контекста
вырастает до связного текста и – больше – до гипертекста конкретного
философского
направления,
или
всего
философствования
в
развитии.
Параллельно уточняется смысл рядоположенных ассоциированых понятий,
выявляются имманентные, скрытые взаимосвязи между категориальными
понятиями.
Первым постулатом является соответствие возможностей мышления
языковым возможностям;
вторым
постулатом
является
конкретизированность
мыслительных
конструктов, вербализованных ясным естественным или метаязыком;
однако осознанию поддается как первый, так и второй тип мыслительных
операций в символьном языке (можно осознать это разграничение в языковом
выражении, значит, можно осознать и обе эти грани конструкта).
По первому постулату, любое категориальное понятие, представляющее
собой ментальный конструкт, следует логике языковой репрезентации
«границы моего языка означают границы моего мира» [Wittgenstein 1921: 5, 6];
«логика заполняет мир; границы мира суть ее границы…» [там же]. Однако
второй постулат о ясности некоего языка, а значит, и ясности выражения, лишь
в денотативной стороне не выдерживает никакой критики, ведь познание
объективной реальности невозможно, по сути: мы можем пользоваться лишь
сконструированными нами приборами или же собственными органами чувств,
даже у разных индивидуумов их перцептивные характеристики разнятся, как
40
справедливо заметил М. Мамардашвили: «Допустим, что мы видим дом. Но
если мы вдумаемся, видим ли мы его в действительности, то окажется, что не
видим. То есть мы можем видеть всякий раз лишь какую-то часть дома, в
зависимости от выбора точки наблюдения. Это может быть его крыша, та или
иная стена, двери и т.д. И, тем не менее, мы говорим, что видим дом»
[Мамардашвили 1990: 6].
Процесс и результат вербализации некоего факта объективной реальности
(о-значивание ситуации), по сути, сам являются абстракцией даже в обыденном
языке – символом, поскольку прояснение процесса синтезирования и
совмещения в акте мышления субъективного и объективного включает
мыслящий рефлексивно субъект в форму анализа фоновых знаний и опыта
лингвокультурной общности. Фоновые знания и рефлексивная реальность
предполагают, по И. Канту, трансцендентальную апперцепцию, наличие неких
платоновских «эйдосов», задана форма возможного восприятия, по сути, схема
действования в актах как порождения, так и декодирования.
Как говорил Л. Витгенштейн, феномен и факт не представляется более
ясным в результате его гипостазирования, ясность не возникает в сказывании,
она лежит в проясненности, Можно условно выделить три составляющие в
прояснении смысла философского понятийного инструментария в его
общности: феномен + механизм синтезирования целостностей «внешней»
реальности + механизм конституирования «Я». Именно на это Витгенштейн
указывает в «Логико-философском трактате»: «субъект не принадлежит миру, а
представляет
собой
некую
границу
мира»)
[Wittgenstein
1921:
5],
феноменология предшествует в этом смысле фактическому познанию мира.
Аппарат философского рассуждения задается не только и не столько
границами языка, сколько границами системы идей-единств определенного
порядка,
личностных,
лингвокультурных,
общих.
Можно,
безусловно,
представить себе инвентарий мышления без чувственного обращения к
изучению мира фактов, там, где факт и его эйдос совпадают, но это лишь
гипотетический конструкт, по Канту – «божественный разум».
41
Все
вышесказанное
по
поводу
символичности
философских
категориальных понятий позволяет утверждать, что операция денотации либо
субстанциализации являются существенными, но не определяющими в
построении
дефиниции
философских
конструктов
вербализующих
определенные отношения. Данному процессу, однако, предшествует операция
создания образа (некоего ряда характеризующих признаков) как ментальной
конструкции, основанной на чувственном восприятии реального мира.
Обращает на себя внимание пограничный характер любого категоризованного
понятия философского дискурса, что возникает вследствие специфики самого
феномена философствования. Для этого необходимо находиться в состоянии
феноменологической рефлексии относительно объектов реального мира, но
также и относительно объектов собственной рефлексивной реальности, а для
фиксации данного положения неизбежным является и наличие специального
языка, сконструированного из философских категорий с превалирующей
символьной стороной. Символы – это области категоризации, дающие точки
соприкосновения феноменов с фактами.
1.4.
Верифицируемость и критерии истинности
Феномен достоверности, верифицируемости, истинности и веры в
когнитивной деятельности является общепризнанным. Эту проблему мы
попытаемся разобрать в данном параграфе. Для прояснения вопросов
обратимся к к проблеме веры, сомнения и достоверности в понимании Л.
Витгенштейна.
При
этом
следует
отметить,
что
в
нашей
работе
верифицируемость отнюдь не представляет собой возможность эмпирической
проверки или же проверки того или иного смыслового конструкта в его работе
в узусе: для нас это прежде всего возможность выражать некие интенции
философа и будить феноменологическую рефлексию.
Работа Л. Витгенштейна «О достоверности» выдержана в духе
антипозитивистских
традиций
английской
аналитической
философии.
Изначально данная традиция анализа естественного языка в итоге приходит к
методам, сходным с фундаментальной традиционной герменевтикой. Но это
42
проявляется не только и не столько в выборе объекта данного философского
направления, а в самом понимании проблемы и способов её решения. Наиболее
репрезентативной в данном плане является проблема веры и достоверности.
Позитивистский подход к проблеме не характерен для Л. Витгенштейна. В его
работах достоверность не есть характеристика посылок и выводов формальной
дедуктивной логики. Витгенштейновский анализ сближается с нашим в аспекте
вероятностного, индивидуалистского, интенционального анализа возможностей
употребления (аксиоматичной уверенности в правильности и полезности
вербализованного
выражения).
Когнитивная
деятельность
человека
не
ограничивается научными изысканиями: она представлена и обыденным
познанием, и гуманитарными аспектами (исторического, филологического и
т.п. рода). Данное познание ближе к семантизирующему (а иногда и
герменевтическому), нежели к рационально-логическому, свойственному
естественным наукам и постулируемому как именно научное познание.
Герменевтика, по сути, и является анализом возможностей и оснований
верифицируемости в широком смысле, однако данные основания находятся не
в логическом анализе объекта, формальном доказательстве факта, проверке в
эмпирике, а в самом субъекте как таковом, как некоем единстве и целостности,
в рефлексивной реальности и хронотопическом контексте самого человека, в
мире как тексте, функционирующем в вертикальном социокультурном
контексте, то есть в дискурсе. В этой ситуации важной задачей является не
опуститься на порядок ниже в уровнях абстракции, иначе возникает риск
вернуться к собственно психологическому модусу анализа в переоценке
феномена в познании и излишней его субъективации.
Можно задать вопрос о неадекватности постановки знака равенства
между достоверностью или истинностью знания, полученного в гуманитарном
способе познания и достоверностью понимания текстовой реальности.
Безусловно, основным критерием когниции в герменевтике является язык, а
процедуры интерпретации и декодирования не следуют формально-логическим
нормам. Ф. Шлейермахер, В. Дильтей поясняют герменевтику как «органон
43
наук о духе» вне рамок всякой логики. Логические основания не достаточны и
не
вскрывают
всех
возможностей
изучения
вопросов
о
достоверности/недостоверности познающих структур как неких единств и
целостностей. Логический подход не применим в гуманитарном знании и в
анализе как философии, так и философского языка. Герменевтическое
понимание не поддается трактовке как просто мыслительной операции,
главным выступает связь общего, лингвокультурного с индивидуальным.
Интересными
в данном ракурсе
являются идеи Э. Гуссерля,
преодолевающие рационально-логическое в познании и формирующие «новую
науку о духе». Дух, по мнению ученого, кроется в очевидном наличествующем
и является первичным. Гуссерль определяет этот круг как некий «жизненный
мир», который описывает как «круг уверенностей, к которым относятся с давно
сложившимся доверием и которые в человеческой жизни до всех потребностей
научного обоснования приняты в качестве безусловно значимых и практически
апробированных»
[Мотрошилова
1968:
108].
Эти
присутствующие
в
рефлексивной реальности когнитивно-валерные константы являются системой
неких ориентиров, структурирующих пред-познание, и являются гораздо более
важными, чем некие объективно-логические выводы, они и будут критерием
достоверности, верифицируемости конкретного феномена. Однако для нас
рассмотрение верифицируемости с позиций дорефлективного опыта, как его
развивали герменевты до М. Хайдеггера, неприемлемо, оно не дает всей
картины познающего и интерпретирующего опыта. Интуитивная или же
ноэматическая рефлексия включается в наше понятие достоверного и
верифицируемого лишь как один из компонентов.
В
работах
М.
Хайдеггера
проблема
достоверности
уже
не
рассматривается вкупе с «науками о духе», имеющими в качестве базиса
простое понимание. Да и обыденное понимание уже не то, что было раньше.
Это уже не функциональная характеристика фонового опыта, а базовая
характеристика человеческого бытия In-der-Welt-sein, и проистекает уже из той
неразрывной взаимосвязи компонентов Dasein, которое мы анализировали
44
ранее.
Ого
уже
фундаментально
новое
и
революционное
прочтение
достоверности, радикальное изменение подхода к субъекту познающему,
которому имманентно свойственно пред-понимание, бытие сущего и бытие его
самого структурируется им уже совсем иным образом. Пред-понимание не
является некоей абстрактной сущностью – это некое глубинное понятие об
условиях и возможностях рождения и функционирования знания как такового,
которое
зиждется
на
концептуально-валерной
системе
продуцента
и
реципиента нового. Все знание должно оцениваться с позиций именно
антропоцентризма, ибо «человек каждый раз оказывается мерой присутствия и
непотаенности сущего благодаря своей соразмерности тому, что ему
ближайшим образом открыто, и ограниченности этим последним, – без
отрицания закрытых от него далей и без самонадеянного намерения судить и
рядить относительно их бытия или небытия» [Хайдеггер 1988: 264–265].
Именно индивидуальная концептуально-валерная система лежит в основе
верификации и достоверности, впрочем, как и самого знания. Человек вовлечен
как субъект мира и познания именно в этимологическом понимании как
«subjectum» – то, что лежит в основе всего. Аксиоматическая уверенность как
образец для сравнения и суждения о достоверности, как основание
верификации кроется в самом продуценте или реципиенте, как и во всем
лингвокультурном контексте языковой системы и социо-культурного опыта.
Именно в верифицируемости и аксиоматической непогрешимости,
доверия субъекту как Dasein и In-der-Welt-sein и понимается достоверность в
нашем исследовании. В таком подходе решающую роль играют концептуальновалерная система и рефлексивная реальность субъекта познающего. Как
справедливо заметила М. С. Козлова, «в работе «О достоверности»
Витгенштейн и обратился главным образом вот к этому комплексу
уверенностей, привычных ориентаций, предваряющих, фундирующих знание
«снизу», но не поддающихся «тематизации» в языке знания, а главное – уже не
допускающих своего обоснования. Это – предел обоснования, «невыразимое»
[Козлова 1991: 64].
45
По Витгенштейну, если понимать его широко, достоверность того или
иного феномена является формой существования этого феномена или же
формой жизни субъекта, познающего данный феномен, и именно данное
допущение отвечает всем постулатам феноменологии и герменевтики. Логикогносеологический статус достоверности не может рассматриваться нами в
рамках анализа философского дискурса, Витгенштейн исследует её наличие в
допредикативных феноменах, на глубинном уровне, где разграничения
субъектно-объектных отношений ещё не происходит, или же происходит, но,
как мы уже показывали ранее, познающий субъект занимает пограничную
позицию. «...Мне бы хотелось, чтобы эту уверенность рассматривали ... как
(некую) форму жизни. ...Я хочу понять ее как что-то находящееся по ту сторону
обоснованного
и
необоснованного;
то
есть
словно
нечто
животное»
[Витгенштейн 1991: 94]. Достоверность может быть проанализирована во
включенности в вертикальный контекст социокультурного и исторического.
Как писал Н. Хомский, язык вырастает в человеке, так же, как и человек
вырастает в языке, конкретный индивидуум вырастает в определенной системе
концептуально-валерных ценностей, впитывает их в процессе формирования
личности.
Данная
система
будет
соответствовать
определенной
лингвокультуре, но включать константу субъективности в силу различий
онтогенеза. «Ребенок приучается верить множеству вещей... учится действовать
согласно этим верованиям. Мало-помалу оформляется система того, во что
верят; кое-что в ней закрепляется незыблемо, а кое-что более или менее
подвижно. Незыблемое является таковым не потому, что оно очевидно или ясно
само по себе, но поскольку надежно поддерживается тем, что его окружает»
[там же: 78].
Достоверность не всегда относится к области познания, а значит, и к
процессам верификации. Она часто является формой и основанием самого
знания. В данном контексте интересно пояснение Л. Витгенштейна: «знание» и
«уверенность» принадлежат к разным категориям. Она условие и «форма
жизни», бытия среди людей. Наша уверенность о-значает не индивидуальную
46
достоверность, но отражает тот факт, что «если мы вполне уверены в чем-то,
это о-значает не только то, что в этом уверен каждый порознь, но и то, что мы
принадлежим к сообществу, объединенному наукой и воспитанием» [там же:
79]. Достоверность не является доказуемой для каждого конкретного индивида
(в каждой отдельно взятой ситуации семиозиса): она условие лингвокультурной
общности,
условие
взаимопонимания
и
возможности
коммуникации,
фиксирующаяся в поле ноэм-культурных-основ, такая же важная, как и общий
язык конкретного сообщества.
У многих авторов встречается постулат о нетрадиционном понимании
логики естественных систем (таких, как язык, система мифов, ценностей
культуры, религиозных ценностей), не основанных на формально-логических
рассуждениях. Такими системами могут являться мифология, магические
практики и т.д. Они отнюдь не продуцируют ложное объяснение объективной
реальности, а выдают собственную реальность. Подобные формы логики
неправомерно рассматривать с точки зрения формальной рационалистской
логики; она не менее продумана и изысканна, хотя и зависит от символической
стороны.
Вот как Витгенштейн критикует предлагаемый предшественниками
формально-логический подход толкования магии как одной из первых форм
знания: «Фрезеровское изображение магических и религиозных воззрений
неудовлетворительно: он представляет эти воззрения как заблуждения. ...Сама
идея объяснения обычаев... кажется мне ошибочной, – ...здесь можно только
описывать и говорить: «такова человеческая жизнь» [Витгенштейн 1991: 82],
ведь к ней возможен только герменевтический подход как к форме мышления и
форме жизни как таковой.
Рассмотрение языковых выражений и возможности достоверности и
верифицируемости суждения, репрезентированного в средствах обыденного
языка или метаязыка, также должно вызывать живой интерес. Ведь язык, как и
некая магическая или мифологическая практика (а язык философии в первую
очередь, как мы уже показали выше), максимально символичен, максимально
47
смыслово нагружен, и, в отличие от языка формальной логики естественных
наук,
не денотативен. Вся речевая деятельность человечества (все
существующие в реальности и гипотетические речевые акты, порожденные в
течение всего периода социально-исторического развития) и есть форма жизни
– это Витгенштейновские языковые игры, о которых он говорит в своей работе
«Философские исследования»: «Выбранный термин «языковая игра» призван
подчеркнуть, что говорение на языке представляет собой компонент некоторой
деятельности, или некоторой формы жизни» [Витгенштейн 1985: 88.].
Верификация и достоверность понимается в работах Л. Витгенштейна как
форма жизни, так же, как и языковая игра, и чисто лингвистическое их
описание оказывается достаточно поверхностным, а потому не вскрывающим
все возможности и аспекты смыслообразования философского дискурса. В этом
и кроется обязательность некоего метатеоретического подхода в их анализе.
Таким подходом может послужить филологическая феноменологическая
герменевтика, само Dasein, вербализуясь, говорит с нами. За языковыми
средствами кроются не только собственно выражение мысли, но и
репрезентация вертикального социокультурного контекста, имманентно предданные
концептуально-валерные
системы.
Достоверность
являет
герменевтическую природу дискурса как единство языка и действительности, в
которую он оказывается вплетенным. Она не только представляет возможность
понимания (истинного о-сознания) мыслей в сложных языковых формах, но и
о-сознание фундаментальных отношений в объективной, а не только в
рефлективной реальности для каждого члена лингвокультурной общности,
априорно знакомого с данными языковыми играми. И именно этот постулат
снимает излишнюю субъективированность достоверности, она оказывается
релевантной и общезначимой, верифицируемость и по-мысливаемость для
одного из продуцентов или реципиентов дискурса будет столь же значимы для
всего социума.
Общелогическая значимость определяет верифицируемость порожденных
смыслов, индивидуальной интенции в вербализации точек зрения, поскольку
48
«истинным или ложным может быть то, что люди говорят; а в языке люди
согласны. Но это – не согласие мнений, а согласие форм жизни» [Wittgenstein
1953: § 241].
Другим вопросом в проблеме определения верифицируемости и
достоверности является правилосообразность. Выход за правила языковой
игры, разрушение границ обыденного языка в философском дискурсе
представляет особый интерес. Следование правилам в данном случае о-значает
не жестко структурированные действия, а следование образцам и схемам
действования. Верифицируемость проявляется в следовании именно этим
схемам, самому факту прояснения коммуникации. Это не выучивание способов
построения дискурса, а «вживание» в него при условии участия в различных
видах дискурса и оперирования определенным сонмом ноэм. Здесь и будет
рождаться смысл, а при увеличении количества таких практик будет
происходить его расширение, переосмысление и формирование значения, ведь,
по Витгенштейну, «...значение слова есть способ его употребления. Ибо этот
способ есть то, что мы усваиваем, когда данное слово впервые входит в наш
язык» [Витгенштейн 1991: 72].
Как справедливо подчеркивает З. А. Сокулер, размышляя о природе
достоверности по Витгенштейну, «достоверность, как и значение, не есть
свойство, присущее предложениям самим по себе, но определяется их
употреблением» [Сокулер 1988: 145]. В данном случае верифицируемость и
достоверность не могут связываться с количеством и правильностью
аргументов, где есть сомнение, игра, предполагающая мысль и процесс
осмысления. Нет ошибок как таковых, ошибки могут быть там, где есть некие
постулаты, принятые априорно, без тени сомнения.
В ракурсе описания данной проблемы следует обсудить также и
возможность индивидуального, субъективного в
познании. Витгенштейн
исследует ее на уровне элокуции и диспозиции высказывания. В его работах
даны
разнообразные
модусы
рассмотрения
разных
типов
фиксации
49
рефлексивной ментальной деятельности в языке, выражающиеся в формах «Я
знаю, что...», «Я верю, что...».
К. Поппер же полагает несущественным и даже неприемлемым
обсуждение, подобного рода, третий уровень абстракции, учитывающий
личностные рефлексивные акты в научном познании, для него неприемлем,
данные конструкты не могут обладать статусом объективного знания, они
являются предметом субъективной веры. Причисление с этих позиций Локка,
Беркли, Юма, Канта, Рассела к представителям философии веры является
вполне закономерным, не имеющим ничего общего с анализом когниции,
поскольку они исследуют вопросы репрезентации знания в терминах «Я знаю»,
«Я верю...», – это их отличие от терминов «критических предпочтений».
Поппер с субъективистских позиций описывает истинность и достоверность
как высказывания, так и феноменов познания, а также «знание только как
особого рода ментальное, духовное состояние, как некоторую диспозицию или
как особый вид веры...» [Поппер 1983: 340]. Предположение о знании какоголибо факта есть всегда вопрос субъективной веры, а значит, субъективной
достоверности. Но, как мы уже говорили, субъективность и индивидуальные
концептуально-валерные
системы
обладают
статусом
всеобщности,
по
меньшей мере, для каждой конкретной лингвокультуры.
О-сознание и понимание собственного знания или веры (как критического
отношения или априорного принятия за точку отсчета собственных фоновых
знаний), рефлексия над продуктами по-знания и отличают филологическую
феноменологическую герменевтику от других, предложенных ранее подходов.
И доверие к неким аксиоматическим постулатам и допущениям прогнозирует
форму дальнейшего познания и усвоения тех схем действования, на которых и
основано
порождение
и
понимание,
и
даже
продуцирование
знания
эмпирически проверяемого, выводов формально-рациональной логики. «Нельзя
экспериментировать, если нет чего-то несомненного... Экспериментируя, я не
сомневаюсь в существовании прибора, что находится перед моими глазами...»;
«на каком основании я доверяю учебникам по экспериментальной физике? У
50
меня нет оснований не доверять им... Я располагаю какими-то сведениями,
правда, недостаточно обширными и весьма фрагментарными. Я кое-что
слышал, видел и читал» [Wittgenstein 1969: §337].
Со всей очевидностью можно утверждать, что достоверность и
верификация имеют характерные категориальные основания, отличные, однако,
от оснований знания как такового. Если последнее основывается на формальнологическом оформлении, эмпирическом доказательстве, то первое – на
вертикальном контексте лингвокультурной апробации, общей значимости,
имманентно заданной доопытным путем. А знание как таковое обретает
культурную значимость и
входит в сферу коммуникации
и
формы
деятельности, лишь проходя процесс верификации в том смысле, который
предполагаем мы. После этого мы приступаем к феноменологической
рефлексии над субъективным знанием, который осуществляется на базе
имманентной концептуально-валерной системы.
1.5.
Философский дискурс – узус или окказионализм (разрушая правила)
Основным
вопросом
в
современном
философствовании
(«постхайдеггеровского» периода) является деструкция обыденного и научного
здравого
смысла,
вербализация
мышления
в
таких
формах,
которые
противоречат не только узусу языка, но и часто выводят новые деривационные
модели в границах обыденного языка или же метаязыка описания. Именно в
результате
подобной
вербализации
и
открываются
возможности
парадоксальных ситуаций в смыслопорождении, которые невозможно ожидать
в, казалось бы, общих местах. Смысло- и дискурсопорождение как
деятельность особого рода вскрывает незримые пласты, на первый взгляд, уже
давно решенных проблем и грани смысла в уже разработанных вопросах.
Скептический
парадокс
(созданный
и
решенный
в
работах
Л.
Витгенштейна и детально описанный С. Крипке) как окказиональный способ и
новая деривационная модель дискурса в последнее время подвергается все
более широкому обсуждению. Релевантным в данном аспекте является
51
прояснение смысла парадоксальной ситуации, которая разбирается в § 201
Витгенштейновской работы «Философские исследования»:
«Unser Paradox war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise
bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen
sei. Die Antwort war: Ist jede mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen, dann
auch zum Widerspruch. Daher gäbe es hier weder Übereinstimmung noch
Widerspruch.
Daß da ein Mißverständnis ist, zeigt sich schon darin, daß wir in diesem
Gedankengang Deutung hinter Deutung setzen; als beruhige uns eine jede
wenigstens für einen Augenblick, bis wir an eine Deutung denken, die wieder hinter
dieser liegt. Dadurch zeigen wir nämlich, daß es eine Auffassung einer Regel gibt,
die nicht eine Deutung ist; sondern sich, von Fall zu Fall der Anwendung, in dem
äußert, was wir «der Regel folgen», und was wir «ihr entgegenhandeln» nennen.
Darum besteht eine Neigung, zu sagen: jedes Handeln nach der Regel sei ein Deuten.
«Deuten» aber sollte man nur nennen: einen Ausdruck der Regel durch einen
anderen ersetzen» [Wittgenstein 1953: § 201].
Многие
относятся
настороженно
к
лингвофилософии,
и
нужен
нестандартный подход Крипке для видения важной проблемы и рассмотрения и
возведения в Абсолют представленной эпистемологической ситуации [Грязнов
1996: 25]. Реконструкция данного парадокса возможна лишь при обращении и
понимании
феномена
«правило»
и
концепции
правилосообразной
деятельности, вводимых в поздних работах Л. Витгенштейна и его
последователей.
Однако
Крипкеанский
подход
не
столько
выявляет
интенциальность автора, сколько преследует цель проанализировать следствия
данной реконструкции и обозначить способы разрешения парадокса. Мы
считаем, что Крипкеанскую трактовку возможно рассматривать только вкупе с
Витгенштейновским положением.
Крипке говорит о некоем оригинальном окказиональном скептическом
парадоксе с таким же парадоксальным решением, продолжает рассуждение в
предложенном русле относительно употребления понятия «плюс». С точки
52
зрения некоего гипотетического скептика, невероятно трудным оказывается
объяснение понимания под данным термином «плюс» именно арифметической
операции сложения, а не сложной гипотетической операции «квус». Ведь ничто
не может заставить реципиента получить при упоминании «плюса» сумму
элементов арифметического действия, так же как нет доказательного
прецедента? Почему мы не можем получить результат операции вычитания,
или же умножения, или извлечения квадратного корня, или же абсолютно
непостижимого действия, дающего ни с чем не сравнимый результат!?
Сол
Аарон
Крипке
рассматривает
доказательные
позиции
диспозиционализма, ментализма и платонизма в подходах Витгенштейновского
гипотетического скептика в аспекте правомерности применения именно этого
арифметического действия сложения, но в Крипкеанской трактовке ясно
читается недостаточная обоснованность каждой из них. Преодоление же
парадокса, по Крипке, должно не просто учитывать, а основываться на
социокультурном контексте, базирующемся на соответствии или диссонансе
процентного
соотношения
получаемых
ответов
членов
конкретной
лингвокультуры. При этом, очевидно, следует брать за доказанный факт, что
все представители лингвокультурного сообщества знакомы с элементарной
арифметикой. «Совокупность ответов, в отношении которых мы согласны, а
также то, как они переплетаются с нашими действиями, и есть наша форма
жизни. Те же существа, которые дают странные «квусообразные» ответы,
разделяют иную форму жизни» [Грязнов 1996: 26]. Индивидуумы, которые
придерживается иного мнения, сами собой выпадают из сообщества.
В обсуждении данного парадокса Л. Витгенштейна проявляется основной
аспект позитивистского обсуждения лингвофилософских проблем. При этом
следует строго разграничивать такие стороны проблемы, как концептуальная,
социально-культурная, формально-логическая.
Большинство исследователей
предполагают, что данный парадокс имеет более глубинные основания, чем те,
которые отмечал Крипке, ведь он ограничивался вопросом о причинах
следования данному конкретному, а не какому-либо другому правилу. М.
53
Макгинн предполагает, что Витгенштейн рассматривал именно критику
понимания значения и смысла как некоего феномена, который якобы
имманентно содержит все возможности узуального применения данного
правила, программирующего схемы действования, в данном конкретном случае
у Крипке – подготавливает к правильному использованию операции сложения.
Нельзя подходить к правилу как к некой норме; прогнозируемое употребление
некоего правила не возможно – оно ничем не детерминировано. Нормирование
есть
процесс,
следующий
за
употребительным
узусом,
оно
само
детерминируется практикой лингвокультурного сообщества. Базой создания
нормы и её закрепления являются традиция, практика употребления формы в
конкретном значении, а не некая субъективно обусловленная операция,
протекающая согласно заготовленному ментальному сценарию [Козлова 1991:
58].
Однако, вслед за К. Райт, мы отметчаем существенные различия в
подходе скептика в данном парадоксе Крипке и Витгенштейна от подхода
классического
когнитивных
скептика,
который
возможностей
гипотетический
скептик
ратует
[Козлова
стремится к
за
1991:
жесткую
7].
деструкции
У
ограниченность
Витгенштейна
узуса
и
же
поучениям
относительно неких общеизвестных фактов. Но прагматическое основание
действенности подобного подхода должно иметь пред-установку, каковой мог
бы являться принцип прецедентности, то есть некое значение, усматриваемое
нами в языковом или другого вида выражении, которое выводится из прошлых
фактов употребления такового. В данном случае возражение имеет вид «ранее
под плюсом понимали то-то и то-то».
Однако, как предполагает Райт, возражением против нигилизма скептика
может служить обоснование интенциальности со-знания как процесса,
непосредственно выводящееся из собственных прагматических интенций
знание. В процессе выведения мыслительного конструкта нет необходимости
опираться на его обусловленность неким пред-состоянием: один процесс не
54
обязательно выводится из другого. «Сами намерения субъекта обусловливают
соответствие действий норме употребления выражения» [Козлова 1991: 7].
По
мнению
Энском
[Anscombe
1985:
103-109],
одной
из
последовательниц Л. Витгенштейна, сам автор никогда не стремился
опровергать некоторое сомнение в рассмотрении значения некоего конкретного
правила. Он был ярым противником скептицизма и часто указывал на
возможности
все
новых
и
новых
гипотетических
сомнений
в
правилосообразной деятельности, каждое из данных сомнений-постулатов
может опровергнуть предыдущее. И более того, гипотетический характер
сомнения в обязательности следования правилу предполагает возможность
отсутствия сомнения как такового [Грязнов 1996: 27].
В противовес вышесказанному У. Гольдфарб с позиций гипотетики
предполагает, что ситуация парадокса Витгенштейна-Крипке в принципе
встречается в реальности, однако сама возможность данной проблемы
реализуема не только на основе логической ошибки в процессе понимания и
декодирования
понятия
[Goldfarb
1985:
471–488].
Предположительно,
особенности трактовки данного парадокса Крипке могут являться почвой для
деструкции представлений о присутствии «несводимых фактов значения». По
Гольдфарбу,
нет
никаких
материальных
или
же
скрытых
фактов,
конституирующих значение выражения. Крипке же наталкивается только на
проблемы физикалистской редукции некоторых граней значения высказывания,
но, как нам кажется, подобная трактовка сильно сужает рассматриваемый Л.
Витгенштейном парадокс.
Интересно различение понятия «личный язык» у обоих философов.
Крипкеанская трактовка данного феномена базируется на предположении об
изолированности некоего индивида от лингвокультурного сообщества, однако
Крипке в данном аспекте никогда не постулирует невозможность познания/усвоения данного индивидуального языка другим человеком. Кроме
того, не существует ни одного субъективного предмета или феномена,
могущего служить денотатом лексем данного языка. При подобном подходе
55
критерием достоверности и возможности следования правилу выступает
лингвокультурное сообщество, в котором отсутствует сама возможность того,
что все, что аксиоматично считается правильным для одного индивида, будет
правильным для сообщества в целом. Согласие или несогласие некоего
лингвокультурного
сообщества
является
базой
приписывания
значения
единицам языка и нормам правилосообразной деятельности, что, по сути,
ставит нас перед проблемой абсолютизации конвенциональной сущности
языка. Однако, по Л. Витгенштейну, согласие сообщества может проявляться
лишь в следовании правилу, вне зависимости от того, образовано ли оно по
узусу или же противоречит ему, но ни в коем случае не обосновывает
правилосообразную деятельность.
По мысли Крипке, подобная ситуация, изложенная Витгенштейном в
параграфе 185 «Философских исследований»: «Gehen wir nun zu unserm Beispiel
(143) zurück. Der Schüler beherrscht jetzt – nach den gewöhnlichen Kriterien
beurteilt – die Grundzahlenreihe. Wir lehren ihn, nun auch andere Reihen von
Kardinalzahlen anschreiben und bringen ihn dahin, dass er z.B. auf Befehle von der
Form «+n» Reihen der Form 0, n, 2n, 3n, etc. anschreibt; auf den Befehl «+1» also
die Grundzahlenreihe. – Wir hätten unsre Übungen und Stichproben seines
Verständnisses im Zahlenraum bis 1000 gemacht.
Wir lassen nun den Schüler einmal eine Reihe (etwa «+2») über 1000 hinaus
fortsetzen, – da schreibt er: 1000, 1004, 1008, 1012.
Wir sagen ihm: «Schau, was du machst!» – Er versteht uns nicht. Wir sagen:
«Du solltest doch zwei addieren; schau, wie du die Reihe begonnen hast!» – Er
antwortet: «Ja! Ist es denn nicht richtig? Ich dachte, so soll ich's machen.» – Oder
nimm an, er sagte, auf die Reihe weisend: «Ich bin doch auf die gleiche Weise
fortgefahren!» – Es würde uns nun nichts nützen, zu sagen «Aber siehst du denn
nicht....?» – und ihm die alten Erklärungen und Beispiele zu wiederholen. – Wir
könnten in so einem Falle etwa sagen: Dieser Mensch versteht von Natur aus jenen
Befehl, auf unsre Erklärungen hin, so, wie wir den Befehl: «Addiere bis 1000 immer
2, bis 2000 4, bis 3000 6, etc.». Dieser Fall hätte Ähnlichkeit mit dem, als reagierte
56
ein Mensch auf eine zeigende Gebärde der Hand von Natur damit, daß er in der
Richtung von der Fingerspitze zur Handwurzel blickt, statt in der Richtung zur
Fingerspitze» [Wittgenstein 1953: § 185], – отнюдь не отмечает полное
отсутствие детерминант продолжения ряда чисел по предложенной модели.
Возникает парадокс, когда продуцент правила ошибочно полагает, что его
реципиент правильно воспринял его интенцию, непонимание реципиента
пошло по ложному пути. В то же время в параграфе 201 подчеркивается, что не
существует
никакой
адекватной
концепции,
детерминирующей
и
прогнозирующей модель дальнейшего продолжения ряда чисел в правильной
последовательности (не существует схем действования в парадоксальной
ситуации).
Однако, рассматривая положение о феномене правилосообразной
деятельности, большинство исследователей связывают его лишь с параграфами
185–201, что не отвечает реальному положению дел. Еак отмечал Д. Ф. Пирс,
данная проблема решается Витгенштейном вплоть до § 243 «Исследований»
[Pears 1986: 420]. Крипке же полагал, что данные рассуждения проясняют
сущность применения аргумента индивидуального языка к случаям с
включением чувственной стороны, ощущений по поводу достоверности. Но в
реальности положения, рассматриваемые в тексте после параграфа 243,
полностью отличаются в предмете анализа от предыдущих и посвящены
критике и деструкции теории восприятия Б. Рассела образца 1012 года.
Согласно ей непосредственная рецепция «чувственных данных» (sense-data)
предшествует
верифицируемости
данных
о
феноменах
объективной
реальности. Обе возможности аргументации в работе Витгенштейна фиксируют
в качестве объекта абсолютно противоположные стороны взаимосвязи мира с
языком. Аргументация, следующая после параграфа 243, касается конкретных
целей и ограничений в аспекте чувственного восприятия и ощущений. А
аргументы, содержащиеся в параграфах с 185 по 243, соотносятся с любыми
ситуациями, репрезентирующими тот или иной феномен в языке описания. И
эти положения не являются подлинным аргументом индивидуального языка.
57
Скептический парадокс Витгенштейна в данном случае оказывается не чем
иным, как попыткой
ментальном
абсурдного рассмотрения изречения
инструментарии
субъекта
коммуникации,
Платона о
производящего
правилосообразную деятельность. Однако Витгенштейновский парадокс не
является имманентно присущим процессу правилосообразной деятельности,
данный парадокс требует определенных условий, а именно, платонистского
воззрения на теорию значения.
Из приведенных положений следует, что в случае адекватного
использования языка коммуникантом, следующим правилам и нормам
употребления,
принятым
в
некоем
лингвокультурном
сообществе,
вербализованный ментальный конструкт истинности должен быть независим от
ментального инструментария, обеспечивающего возможность репрезентации
данного
выражения.
Однако
нивелировка
независимости
от
данного
инструментария может произойти по двум причинам. Первая возможность
появляется при применении Расселовской концепции языка ощущений, что
ведет к потерям в объективной стороне (физические объекты никак не могут
являться некими рационально-логическими конструктами на базе чувственных
данных). Вторая же возможность потери независимости основывается на
Платоновской
позиции,
которая
ведет
к
абсолютизации
психической
детерминации действования. Потери в вышеописываемой независимости, по
Витгенштейну, связываются с константой субъективности. Критикуемый им
гипотетический индивидуальный язык является принципиально невозможным
и недоступным для освоения:
он ни в коем случае не служит целям
коммуникации и не связан с внешним миром [Wittgenstein 1953: § 243]. Так,
например, Шенкер полагает, что рассматриваемый нами парадокс был
поставлен Витгенштейном для демонстрации невозможности позиции скептика
[Shanker 1986: 423–429]. Казалось бы, алгоритм действия в вычислениях
предотвращает
возможные
ошибки
и
закрепляет
правилосообразную
деятельность как единственно возможную. Но никакие нормы, правила и
прецеденты сами по себе не могут прогнозировать будущие схемы
58
действования. Критерием следования или несоблюдения правила является наше
собственное отношение к действию. Правило лишь направляет наше поведение
по той причине, что члены лингвокультурного сообщества осознанно
выстраивают свои действия со ссылкой на существующие нормы. Казалось бы,
непреложная необходимость существования правила показывает только факты
их реализации, однако отнюдь не неизбежность в следовании ему и о-сознании
его природы и практикоприменительной модели.
В основе следования тому или иному правилу лежит традиция и речевая
практика лингвокультурного сообщества, а виды и способы коммуникации
являются неким вертикальным контекстом для данного следования. Но С.
Крипке не проясняет сам феномен нормативности правилосообразной
деятельности, как мы можем быть твердо уверены в знании сокоммуниканта и
применении им данного правила. Крипкеанское восприятие вопроса является
противоположным Витгенштейновскому анализу. Объяснение уверенности и
достоверности нашего отношения к ним в вопросе правилосообразной
деятельности других участников коммуникации является чрезвычайно сложной
задачей.
Интересно мнение У. Тейта о самой форме формулировки парадокса в §
201 – ведь сама форма глагола war (прошедшее время) показывает нам, что
данный парадокс уже разрешен [Tait 1986: 475–488] самим автором в § 198:
«Aber wie kann mich eine Regel lehren, was ich an dieser Stelle zu tun habe?
Was immer ich tue, ist doch durch irgendeine Deutung mit der Regel zu vereinbaren»
– Nein, so sollte es nicht heißen. Sondern so: Jede Deutung hängt, mitsamt dem
Gedeuteten, in der Luft; sie kann ihm nicht als Stütze dienen. Die Deutungen allein
bestimmen die Bedeutung nicht.
«Also ist, was immer ich tue, mit der Regel vereinbar?» – Laß mich so fragen:
Was hat der Ausdruck der Regel – sagen wir, der Wegweiser – mit meinen
Handlungen zu tun? Was für eine Verbindung besteht da? – Nun, etwa diese: ich bin
zu einem bestimmten Reagieren auf dieses Zeichen abgerichtet worden, und so
reagiere ich nun.
59
Aber damit hast du nur einen kausalen Zusammenhang angegeben, nur erklärt,
wie es dazu kam, daß wir uns jetzt nach dem Wegweiser richten; nicht, worin dieses
Dem-Zeichen-Folgen eigentlich besteht. Nein; ich habe auch noch angedeutet, daß
sich Einer nur insofern nach einem Wegweiser richtet, als es einen ständigen
Gebrauch, eine Gepflogenheit, gibt» [Wittgenstein 1953: § 198].
Витгенштейн якобы и не собирается формулировать парадокс, а лишь
подчеркивает нивелировку заблуждений при видимости его наличия. Эта
видимость сама собой исчезает, когда мы не стремимся осуществлять
понимание (в его герменевтическом смысле – о-сознание) правила с
использованием его в деятельности. Понимание в данном случае есть
диспозиция/способность действовать и владеть определенными техниками
действования, критерий же конкретной диспозиции свойствен самому
действию – наличие некоего языка того или иного лингвокультурного
сообщества предполагает наличие у всех членов схожих диспозиций (схем
действования) в поведении. Однако в работах Витгенштейна не упоминается
минимальное или максимальное количество членов данного сообщества, а
потому оно вполне может состоять из одного члена. Но формулировки Тейта
основываются на предположении, что аргументация индивидуального языка
базируется только на вырванных из контекста естественного языка языковых
фактах, без учета вертикального контекста.
Иногда можно согласиться с некоторыми авторами о замене концепции
функциональной достоверности и истинности антиреалистической концепцией
значения, проясняющей его как условия утверждаемости. По мнению П.
Сибрайта, опора на семантику ментальных конструктов является излишней при
учете практического контекста [Seabright 1987]. Значения якобы находятся
только в практической деятельности (функционально-прагматический аспект).
При подобном подходе приведение процедурных особенностей интерпретации
является не только излишним, но и неадекватным при анализе оснований
правилосообразной деятельности [Современная аналитическая философия
1991].
Главными
конституирующими
элементами
правилосообразной
60
деятельности выступают сами «формы жизни». «Под формой жизни он
(Витгенштейн) подразумевает то, что формирует часть нашей человеческой
природы; то, что определяет, как мы осуществляем спонтанные реакции»
[McGinn 1984: 55]. Как говорит Макгинн, интерпретация – это лишь
наблюдаемый процесс перевода из одной знаковой системы в другую, при этом
главную роль играют привычка и традиция. Семантические правила требуют
некоторого конвенционального подхода в лингвокультурном сообществе, при
этом значение уже присутствует в самом индивидуальном языке. Некое
условное постоянство понятия как ментальный конструкт в Крипкеанском
подходе часто смешивается с устойчивостью/закрепленностью значения как
возможностью языкового знака в течение определенного периода времени
выражать одно и то же внеязыковое содержание в сходных контекстах, а
потому закрепленное узуальным употреблением в словарном значении.
В то же время учеными Г. Бейкером и П. Хакером отмечается
ошибочность постулата о правилосообразной деятельности как процессе
социальном, это смешивает понятия правила и статистического понятия
действия, того, которое члены лингвокультурной общности склонны в
большинстве случаев совершать, следуя скорее не пониманию правила, а
руководствуясь нормой традиционности [Baker 1984: 71]. Имманентно
присущая и внутренне обусловленная самим наличием правила связь его как
такового и его применения не нуждаются в подтверждении с помощью
привлечения фактов какого-либо вида реальности (кроме рефлексивной
реальности самого применяющего правила). И, по Витгенштейну, это
действительно так, ведь даже общество и его деятельность в рамках следования
или не следования некоей модели не является гарантом правилосообразной
деятельности,
значение
есть
способ
словоупотребления
в
контексте
определенной языковой игры, техника правилосообразного действования.
Как проблемы, поставленные как парадокс Витгенштейна-Крипке, так и
способы его решения можно отнести к вопросам основ коммуникации,
собственно рациональности действия, хотя общий вертикальный контекст
61
«Философских
исследований»
предоставляет
и
некие
средства,
обнаруживающиеся как до, так и после параграфа 201, нивелирующие данный
постулат
как
парадокс.
Обсуждение
парадоксов
правилосообразной
деятельности и способов нарушения правил (как узуальных, так и созданных в
результате окказионального порождения и затем вновь разрушаемых в угоду
смыслопостроению) проясняют сами понятия «правило», «интерпретация». В
контексте
наших
останавливались
размышлений
на
понятии
по
поводу
следования
индивидуального
правилу
языка;
мы
феномен
философствования, как мы уже говорили, представляет собой особый тип
дискурса, где функционирует особый символьный язык, рассмотрение вопроса
о возможности индивидуального языка в рамках вербализации философского
знания столь же важно, как и вопрос об индивидуальных смыслах.
1.6.
Философия – индивидуальный язык или индивидуальный смысл
В процессе обсуждения правилосообразной деятельности Л. Витгенштейн
в §§ 139–242 «Философских исследований» постулирует невозможность
функционирования и наличия принципиально неусвояемого
«логически
индивидуального языка» и наглядно демонстрирует это на языке математики.
Наличие индивидуального языка, вербализующего собственные ментальные
конструкты, лишает возможности коммуникантов адекватно определять статус
и декодировать некие непостижимые ментальные сущности, не обусловленные
со-бытиями объективной реальности.
Критика Витгенштейна направлена на развенчание теории значения как
определенного предмета или абстрактной сущности, которая есть не
семантическая теория, а некая философская парадигма: «Витгенштейн целится
в философский миф, а не в невинное повседневное представление о языке как
деятельности, управляемой правилами» [Лебедев 1999: 195].
Если же мы примем позицию индивидуально возможного языка,
критикуемую Витгенштейном и соответствующую теорию значения, как
философскую парадигму, мы должны будем основываться на следующих
допущениях:
62
1) есть некий языковой знак с соответствующей ему внеязыковой сущностью
(приписанный данной сущности как её о-значивающее),
2) и эта сущность является неким ментальным конструктом (существует только
в рефлексивной реальности как продукт первого уровня абстракции).
Для Витгенштейна язык не является простым набором правил со-здания
значения выражения, но в то же время он есть деятельность (energia) по данным
правилам, которые изначально не систематизируются в простую систему
исчисления, как арифметические законы. В «Философских исследованиях»
говорится о невозможности правилосообразной деятельности без о-сознания
правила как такового, в дополнение к о-сознанной правилосообразной
деятельности, и на основе этих двух критериев построения исчерпывающей
системы исчисления правил конкретного языка. Это раскрывается в работе
Витгенштейна в нескольких тезисах:
1)
невозможна система языковых правил без противоречий и
двусмысленностей и полностью перекрывающая все возможности речевой
практики;
2)
невозможно существование правил такого рода, которое бы
определяло достоверность или недостоверность использования высказывания
вне зависимости от применительной практики.
На примере Витгенштейна: построение числового ряда в определенной
последовательности:
«Betrachten wir nun diese Art von Sprachspiel: B soll auf den Befehl des A
Reihen von Zeichen niederschreiben nach einem bestimmten Bildungsgesetz.
Die erste dieser Reihen soll die sein der natürlichen Zahlen im Dezimalsystem.
– Wie lernt er dieses System verstehen? – Zunächst werden ihm Zahlenreihen
vorgeschrieben und er wird angehalten, sie nachzuschreiben. (Stoß dich nicht an dem
Wort «Zahlenreihen», es ist hier nicht unrichtig verwendet!) Und schon hier gibt es
eine normale und eine abnormale Reaktion des Lernenden. – Wir führen ihm etwa
zuerst beim Nachschreiben der Reihe 0 bis 9 die Hand; dann aber wird die
Möglichkeit
der
Verständigung
daran
hängen, daß er
nun
selbständig
63
weiterschreibt. – Und hier können wir uns, z.B., denken, daß er nun zwar selbständig
Ziffern kopiert, aber nicht nach der Reihe, sondern regellos einmal die, einmal die.
Und dann hört da die Verständigung auf. – Oder aber er macht ›Fehler‹ in der
Reihenfolge. – Der Unterschied zwischen diesem und dem ersten Fall ist natürlich
einer der Häufigkeit. – Oder: er macht einen systematischen Fehler, er schreibt z.B.
immer nur jede zweite Zahl nach; oder er kopiert die Reihe 0, 1, 2, 3, 4, 5, .... so: 1,
0, 3, 2, 5, 4, .... Hier werden wir beinahe versucht sein zu sagen, er habe uns falsch
verstanden.
Aber merke: Es gibt keine scharfe Grenze zwischen einem regellosen und
einem systematischen Fehler. D.h., zwischen dem, was du einen »regellosen«, und
dem, was du einen »systematischen Fehler« zu nennen geneigt bist.
Man kann ihm nun vielleicht den systematischen Fehler abgewöhnen (wie eine
Unart). Oder, man läßt seine Art des Kopierens gelten und trachtet, ihm die normale
Art als eine Abart, Variation, der seinigen beizubringen. – Und auch hier kann die
Lernfähigkeit unseres Schülers abbrechen» [Wittgenstein 1953: § 143].
В этом примере важно различение нерегулярной и систематической
ошибки (хотя её нерегулярность может рассматриваться лишь как некий
частный случай. Ведь мы не знаем, повторяется ли данная ошибка через
определенное количество правильных последовательностей. Иначе для того,
чтобы в этом убедиться, мы должны продолжать выписывать ряд до
бесконечности) присутствует ли критерий о-сознанности употребления
правила после определенного количества верных словоупотреблений (понят ли
тогда смысл, усвоено ли устоявшееся значение), достиг ли понимающий того
же уровня владения семантикой этого правила, что и мы, следует ли он путем
продуцента правила или же творит собственное намеренно.
«Wenn ich nun frage: «Hat er das System verstanden, wenn er die Reihe
hundert Stellen weit fortsetzt?» Oder – wenn ich in unserm primitiven Sprachspiel
nicht von ›verstehen‹ reden soll: Hat er das System inne, wenn er die Reihe bis
dorthin richtig fortsetzt? – Da wirst du vielleicht sagen: Das System innehaben (oder
auch: verstehen) kann nicht darin bestehen, daß man die Reihe bis zu dieser, oder bis
64
zu jener Zahl fortsetzt; das ist nur die Anwendung des Verstehens. Das Verstehen
selbst ist ein Zustand, woraus die richtige Verwendung entspringt.
Und an was denkt man da eigentlich? Denkt man nicht an das Ableiten einer
Reihe aus ihrem algebraischen Ausdruck? Oder doch an etwas Analoges? – Aber da
waren wir ja schon einmal. Wir können uns ja eben mehr als eine Anwendung eines
algebraischen Ausdrucks denken; und jede Anwendungsart kann zwar wieder
algebraisch niedergelegt werden, aber dies führt uns selbstverständlich nicht weiter.
– Die Anwendung bleibt ein Kriterium des Verständnisses» [Wittgenstein 1953: §
146].
Правильное применение того или иного понятия отнюдь не о-значает
того, что правило было о-сознано и понят принцип его применения. Знание и
понимание, по Витгенштейну, не обязательно состояния сознания (Zustand der
Seele): «Worin aber besteht dies Wissen? Laß mich fragen: Wann weißt du diese
Anwendung? Immer? Tag und Nacht? Oder nur während du gerade an das Gesetz
der Reihe denkst? D. h.: Weißt du sie, wie du auch das ABC und das Einmaleins
weißt; oder nennst du ›Wissen‹ einen Bewußtheitszustand oder Vorgang – etwa ein
An-etwas-denken, oder dergleichen?» [там же: § 148]. Но в данной ситуации
применения возникает вопрос об о-сознании, действительно ли понятие о
правиле и достоверности его применения присутствует имманентно в
рефлексивной реальности, или же о-сознание возникает только в ситуации помысливания
этого
правила,
его
применимости.
При
наблюдении
за
продуцентом и речевыми практиками членов лингвокультурного сообщества у
некоего гипотетического индивида возникает мысль о том, что он теперь понял
суть и может далее продолжать применять языковые единицы согласно тому,
что он наблюдал. Является ли данный факт действительно пониманием, и как
мы можем это утверждать, анализируя эти процессы, «wir versuchen nun, den
seelischen Vorgang des Verstehens, der sich, scheint es, hinter jenen gröbem und uns
daher in die Augen fallenden Begleiterscheinungen versteckt, zu erfassen»,
[Wittgenstein 1953: § 153]. – мы пытаемся проникнуть в умственный процесс
65
понимания, который как бы скрыт за этими более грубыми и потому легко
бросающимися в глаза его сопровождениями.
Как
говорит
Витгенштейн,
понимание
и
о-сознание
практикоприменительной модели вообще не стоит рассматривать как некий
ментальный процесс, мы зачастую попадаем под программное воздействие
языкового выражения, сбивающего нас с толку. «Denk doch einmal garnicht an
das Verstehen als ›seelischen Vorgang‹! – Denn das ist die Redeweise, die dich
verwirrt» [там же: § 154]. Сторонний наблюдатель может распознать в
деятельности индивида, который якобы о-сознал технику следования общему
правилу, только внешние обстоятельства этого процесса осознания, но никак не
само
понимание
или
эмоциональное
переживание
данного
процесса,
сопутствующего этому моменту понимания – «was ihn für uns berechtigt, in so
einem Fall zu sagen, er verstehe, er wisse weiter, sind die Umstände, unter denen er
ein solches Erlebnishatte» [там же: § 155]. О достоверности и истинности (или
ложности) употребления языкового выражения можно судить лишь по
дальнейшему
развертыванию
характеристикам
ситуации
коммуникативного
акта,
семиозиса
и
прагматическим
неправомерными
будут
как
интерпретация маркированности ситуации о-сознания как некоего ментального
состояния, так и предположение о правильности или неправильности
применения вне контекста речеупотребления.
Правило естественного языка всегда имманентно содержит возможность
практически неисчислимого множества своего применения в практике
речетворчества, а потому вопрос о достоверном ему следовании определяется
простым сравнением фактических употреблений языковых средств в различных
ситуациях с некими образцами уже известной практики употребления (которые
также содержатся в правиле); если же мы не принимаем такой подход, то
закономерно предположить, что каждой правилоприменительной практике
присущ свой алгоритм, измышляемый каждый раз заново – «Richtiger, als zu
sagen, es sei an jedem Punkt eine Intuition nötig, wäre beinah, zu sagen; es sei an
jedem Punkt eine neue Entscheidung nötig» [Wittgenstein 1953: § 186]. Но
66
правильность того или иного алгоритма в применении правила мы не можем
постулировать,
поскольку
нет
никаких
действительных
фактов
его
верификации, кроме применения. Акты под-разумевания и пред-посылки
отнюдь не предполагают моделирования схем действования в необозримом
будущем, данные акты
не всегда равны или
даже
коррелируют
с
действительным о-сознанием.
Вертикальный
контекст
лингвокультурологической
практики
употребления языка (понятного всем членам сообщества) с введением
индивидуального смысла наличных вербализованных понятий – вот тот способ,
которым идет философия. У Витгенштейна применяется аналогия применения
общих правил употребления с математическими функциями [там же: §189-190].
Представление о следовании определенным правилам в речеупотреблении как о
некоем механизме, действия которого ему присущи как данности, о «машине,
заключающей
в
себе
свой
образ
действия»,
формируется
при
философствовании – «Die Maschine als Symbol ihrer Wirkungsweise» [там же: §
193].. «Wann denkt man denn: die Maschine habe ihre möglichen Bewegungen schon
in irgendeiner mysteriösen Weise in sich? – Nun, wenn man philosophiert» [там же:
§ 194]. Возможность применения в данном случае есть некое отражение
действительной практики применения и часто эти возможности находятся в
тесной связи с реальностью. «Die unverstandene Verwendung des Wortes wird als
Ausdruck eines seltsamen Vorgangs gedeutet. (Wie man sich die Zeit als seltsames
Medium, die Seele als seltsames Wesen denkt)» [Wittgenstein 1953: § 196]. Однако
непонятное словоупотребление не всегда есть неправильное, противоречащее
нормам языка – не всегда внеязыковое; только приняв данное за аксиому, мы
поймем возможность индивидуального смысла в рамках неиндивидуального
языка.
«Es kann nicht ein einziges Mal nur ein Mensch einer Regel gefolgt sein…
Einen Satz verstehen, heißt, eine Sprache verstehen. Eine Sprache verstehen, heißt,
eine Technik beherrschen» [там же: § 199]. Невозможно употребление
индивидуального языка, так же как невозможно индивидуальное следование
67
правилу, в этом случае неясно, нет (никакого критерия различения), когда это
действительно следование, а когда лишь иллюзия следования, возникающая у
конкретного субъекта.
Витгенштейн
определяет
именно
пред-позицию
невозможности
индивидуального языка следующим образом:
«Unser Paradox war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise
bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen
sei. Die Antwort war: Ist jede mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen, dann
auch zum Widerspruch. Daher gäbe es hier weder Übereinstimmung noch
Widerspruch» [там же: § 201]. Нет ни соответствий, ни противоречий, ведь
каждый
образ
действия
можно
привести
в
соответствие
с
правилосообразностью или же постулировать его противоречие правилам.
В
данном
контексте
определяются
свидетельства
того,
что
в
философском языке возможно понимание правилосообразности не как
интерпретации, а как «действия вопреки», с порождением нового неузуального
индивидуального смысла, который все же пред-назначен для восприятия и
понимания реципиентом именно как маркера ядерного места, релевантного для
декодирования в реальном применении. По ходу развертывания смысла
высказывания на первый план выходят различные интерпретации, любая из
которых удовлетворяет реципиента лишь на момент её восприятия, до смены её
последующей. Невозможность у Крипке же проявляется в заключении решения
Витгенштейновского скептического парадокса.
Значение философского декларативного высказывания в ранних работах
Витгенштейна заключается в применимости к нему условий истинности, в
поздних же его работах уже ставится вопрос не о возможных условиях
истинности/ложности суждения, а о соответствии тем или иным условиям
порождения высказывания, о том, как определенное языковое выражение,
может утверждаться или же отрицаться, и каковы практикоприменительные
возможности вербализации в жизни при конкретных условиях. Невозможно
применять термины истинности или ложности по отношению к условиям
68
утверждения, скорее, можно говорить о верифицируемости или её отсутствии у
той формы высказывания, которая была применена в той или иной языковой
игре. Ведь высказывания любого метаязыка, фиксирующего рефлексию
относительно других высказываний, являются полностью лишенными смысла в
том случае, если предположить, что каждое из декларативных предложений
должно обязательно соответствовать фактам не рефлексивной, а объективной
реальности.
«Все, что необходимо для легитимации утверждений о том, что некто
имеет в виду нечто – это наличие приблизительно специфицируемых
обстоятельств, при которых эти утверждения легитимно утверждаемы, и то
обстоятельство, что игра в высказывание таких утверждений при этих условиях
имеет место в нашей жизни (жизни языкового сообщества)» [Лебедев 1999:
211].
Одним из контрапунктов «Философских исследований» является тезис о
невозможности представлений о том, что единственная возможность для
идентификации фактов вербализованных кроется в анализе самих языковых
выражений и в анализе условий их истинности. Вот как говорит об этом сам
Витгенштейн: «Wie ist es nun mit der Sprache, die meine Innern Erlebnisse
beschreibt und die nur ich selbst verstehen kann? Wie bezeichne ich meine
Empfindungen mit Worten? – So wie wir's gewöhnlich tun? Sind also meine
Empfindungsworte mit meinen natürlichen Empfindungsäußerungen verknüpft? – In
diesem Falle ist meine Sprache nicht ›privat‹» [Wittgenstein 1953: § 256]..
Условия утверждаемости не могут быть противопоставлены условиям
истинности: обоснование одних, по сути, является обоснованием других, при
этом важным и определяющим служит анализ условий употребления языкового
знака.
Однако для нас при прояснении возможности индивидуального смысла в
условиях невозможности индивидуального языка философского дискурса
важно различение определенного типа высказываний:
69
1)
критериям
истинности
и
ложности
(по
сути,
возможности
верифицируемости в качестве достоверных в конкретных ситуациях семиозиса)
могут соответствовать только языковые выражения особого рода, служащие
утверждению или отрицанию определенного факта объективной реальности и
не
являющиеся
вопросительными
или
модальными
суждениями,
контрфактуалами и т.п.;
2)
только подобные высказывания могут служить в качестве элементов
истинностно-функциональных суждений, значение которых не поддается
объяснению с позиций условий утверждаемости.
Истинной или ложной пропозицией суждения можно назвать то, к чему в
нашем языке применимо исчисление функций истинности. Никто не ищет, да и
не может вычленить необходимых и достаточных условий истинности в
применимости языкового выражения.
На этом новом витке герменевтического круга прояснения философского
языка возможно вернуться к сделанным ранее допущениям с абсолютно новым
понимаем их сути:
1) есть некий языковой знак с соответствующей ему внеязыковой сущностью
(приписанный данной сущности как её о-значивающее),
2) и эта сущность является неким ментальным конструктом (существует
только в рефлексивной реальности как продукт первого уровня абстракции).
В данном случае мы можем утверждать, что объяснения дефляционной
теории истинности применимы к допущению 1 и при этом не затрагивают
второе.
А
потому
инфляционная
теория
смысла
(его
перманентного
разрастания в условиях опоры на иерархическую ноэматику) создает базис для
отрицания обоих допущений.
Теории истины, которые связаны с когнитивно-валерной системой
определенной
лингвокультуры,
более
полно
отвечают
требованиям
идентификации фактов, вербализованных в философском тексте, посредством
анализа их как узуального, так и окказионального использования. Весь сонм
высказываний
подобного
рода,
конституирующий
критерии
70
истинности/ложности (возможности/невозможности) для определенного языка
(той
или
иной
лингвокультуры),
является
областью
пересечения
концептуально-валерных систем каждого из членов лингвокультурного
сообщества и описывается как интенциональная функция.
Выводы по первой главе
В данной главе были рассмотрены проблемы описания философского
дискурса и описаны реальные и гипотетические возможности языка по
вербализации мышления, свойственного феномену философствования.
Анализ
проблемы
символьности
философского
языка,
способов
репрезентации и верификации категоризованных философских понятий,
правилосообразных
действий
с
выходом
на
вопросы,
связанных
с
функционированием индивидуального языка, позволяет сделать следующие
выводы:
Философия представляет собой особый вид метанаучного дискурса,
1.
вербализующего рефлексию над онтологическим, и собственно вербализацию
суждений об этом онтологическом. Философствование представляет собой
трансцендирующее
мышление.
При
подобном
подходе
к
феномену
философствования предполагается часто иррациональная на первый взгляд
вербализация. Философствование теоретизирует не сам предмет мышления,
точнее, не только его, но и дискурс (и текст), вербализующий понятие о какомлибо феномене. Дискурс фиксирует определенные отрезки объективной
реальности,
фиксирует
области
рефлексии,
но
философский
текст
распредмечивает смыслы и освобождает бытие от пространства текстовой
реальности, как бы деструктурирует дискурс. Огромнейший провал между
интуитивно о-сознаваемым и вербализованным в философском тексте является
тем самым непониманием, на котором основывается мысль, – и это главнейший
фактор
становления
феноменологической
рефлексии.
Что
касается
смыслоформирования, то специфика философского дискурса заключается в
принципиальном отсутствии у его продуцента и реципиента установки на
очевидность, одномерность смысла.
71
Символы в философских текстах как составляющие некой
2.
когнитивно-валерной системы можно разделить на два вида – символы в чисто
философском смысле и символы как вид метафоры; они репрезентируют
символизм в языке философии, но не на обыденном уровне, а в понимании
концептуального каркаса конкретной лингвокультуры. Символы в чисто
философском смысле можно назвать лексически «пустыми», так как
буквальные значения слов, их составляющих, не имеют смысла, хотя сам
символ
наделен
глубоким
смыслом
и
его
понимание
зависит
от
индивидуальности реципиента. При этом данные символы могут быть
переданы исключительно способом буквальной интерпретации, а потому
требуют
погружения
и
следования
путем
продуцента
данного
вербализованного выражения. Символы же как вид метафоры встречаются так
же часто, как и предыдущий вид символов. При их декодировании и
интерпретации требуется учет константы фоновых знаний реципиента.
Символы – это области категоризации, дающие точки соприкосновения
феноменов с фактами.
Аппарат философского рассуждения задается не только и не
3.
столько
границами
языка,
сколько
границами
системы
идей-единств
определенного порядка, личностных, лингвокультурных, общечеловеческих.
Можно представить себе инвентарий мышления без чувственного обращения к
изучению мира фактов, там, где факт и его эйдос совпадают. Операция
денотации
или
определяющей
субстанциализации
в
построении
является
дефиниций
существенной,
философских
но
не
категориальных
понятий. Ей предшествует операция создания образа как ментальной
конструкции, основанной на чувственном восприятии.
4.
Любое категоризованное понятие философского дискурса носит
пограничный
характер,
главное
условие
–
нахождение
в
состоянии
феноменологической рефлексии относительно объектов реального мира, но
также и относительно объектов собственной рефлексивной реальности, для
фиксации
данного
положения
необходим
специальный
язык,
72
сконструированный из философских категорий с превалирующей символьной
стороной.
5.
Со всей очевидностью можно утверждать, что достоверность и
верификация имеют характерные категориальные основания, отличные, однако,
от оснований знания как такового. Если последнее основывается на формальнологическом оформлении, эмпирическом доказательстве, то первое – на
вертикальном контексте лингвокультурной апробации, общей значимости
имманентно заданной доопытным путем. Знание как таковое обретает
культурную значимость и входит в сферу коммуникации и формы деятельности
через процесс верификации в том смысле. Феноменологическая рефлексия над
субъективным знанием осуществляется на базе имманентной концептуальновалерной системы.
6.
Обсуждение
правилосообразной
деятельности
и
способов
нарушения правил проясняют сами понятия «правило», «интерпретация». Для
рассмотрения индивидуальных языков в связи с возможностями следования
правилу привлекаются истинностные критерии, которые связаны с когнитивновалерной системой определенной лингвокультуры, ибо они более полно
отвечают
требованиям
философском
тексте.
идентификации
Весь
сонм
фактов,
вербализованных
высказываний
подобного
в
рода,
конституирующий критерии возможности/невозможности для определенного
языка, является областью пересечения концептуально-валерных систем
каждого из членов лингвокультурного сообщества и описывается как
интенциональная функция, в которой областью определения будут все
возможные речевые акты, отвечающие критерию правильности высказывания,
в то время как область значения будет представлять собой систему возможных
истинных референций для конкретного языка. Именно логика построения языка
предполагает наличие данных референций, так конституируется возможность
сказывания фактов о мире в феноменах языка.
73
ГЛАВА II. Филологическая феноменологическая герменевтика как новый
подход к анализу смыслопорождения
2.1.
Основания метатеоретичности понимания и о-сознания
философского дискурса
Вопрос
метатеоретического
подхода
к
философскому
дискурсу
рассматривается в рамках парадигмы описания объективной реальности и
вопроса о её бытии как основного вопроса философии: овеществленности
символа и психики/ментальности – онтологии как выхода за рамки
овеществленности этих категорий к их бытийности/знанию о них, с
пониманием знания в знаковой форме как неких объектов замещения вещей
объективной реальности.
Предметом онтологии является не только знак и не только бытие как
таковое (как бытие сущего), но и сущее, у М. Хайдеггера данный анализ
приобретает некий обходной путь восхождения к бытийности через Dasein.
Важно понимание некоего феномена, который бытийствует, но не в качестве
вещи, а это очевидно, со-знание, – представляющее как сущее, так и бытие.
Некой объективизацией сознания (в его работе с вещью) выступает символ,
который, как мы уже упоминали, имеет двоякую природу, затрагивая и мир
вещей, и мир рефлексивной реальности сознания.
Использование
в
работе
понятия
«символ»
основано
на
его
двойственности, он создает материальное поле для эксперимента. Существует
и ментальная необходимость работы именно с сознанием, превращая его в
метасознание, не являющееся спонтанным феноменом на основе только
интуитивной ноэматической рефлексии. «К сознанию можно подходить как не
осознанно, так и осознанно. При неосознанном подходе сознание считается
случаем отражения или сознавания, т.е. сознание выступает само как какой-то
особый познавательный процесс. И тогда сознание остается «на своем месте», с
ним «ничего не делается» [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 28]. Однако
опредмечивание сознания, и его анализ возможны лишь при некоем
метатеоретическом подходе «осознания работы сознания», для рассмотрения
74
чего-то, не являющегося сознанием, однако и не в полной мере являющегося
объективной реальностью, того, что проще всего назвать жизнью во всей её
полноте. В своей работе «Символ и сознание» М. К. Мамардашвили и А. М.
Пятигорский проводят интерпретационный анализ работ Фрейда посвященных
подсознанию как пред-сознанию, неосознанным сознаниям, внерефлективной
его части. По их мнению, психоанализ З. Фрейда есть лишь один из способов
перевести сознание в метасознание, придать ему модус.
Основной
постулат,
из
которого
следует
неизбежность
именно
метатеоретического подхода к философствованию, кроется в том, что
спонтанный характер обыденного сознания не представляется для описания в
объектных терминах, а значит, принципиально невозможно исследование
необъективированного знания о ментальных конструктах, нельзя работать с
ментальностью непосредственно, однако анализировать работу со-знания или
герменевтическое понимание данных конструктов возможно. Ментального
конструкта в прямом опыте восприятия объективной реальности не существует,
однако ноэматическая рефлексия первого уровня, конструирующая ментальные
сущности, приводит к вербализации, когда мы говорим о фактах объективной
реальности. Но при выходе на третий уровень абстракции, на основе
феноменологической рефлексии и метатеоретического подхода, появляется
идея о по-мысливании. А значит, о-сознание и ноэматическая рефлексия о
фактах реального мира есть уже некий язык интерпретации, интуитивно
понимаемый
как
до-интерпретативный.
Изучение
непосредственного
и
косвенного опыта объективно необходимо в данном вопросе, но и наличие
неких
маркеров,
показывающих
ментальные
акты
сознания
для
непосредственного опыта, можно принять априорно. Однако маркеры
репрезентации рефлексивных актов сознания как некие ноэматические
характеристики
не
полностью
расположены
в
сфере
чувственно
воспринимаемого мира, иначе данный факт полностью бы предполагал
изучение философского смысла в области лингвистики, ведь это было бы лишь
изучением материальных вербализованных конструкций.
75
Необходимость присутствия опосредованного косвенного опыта в
изучении обусловлена тем, что некие ментальные конструкты и процессы
сознания выступают как для продуцента, так и для реципиента данных
конструктов как нечто, в чем они обязательно присутствуют сами как субъекты
о-сознающие, и, таким образом, этот феномен не может быть отстраненным от
субъекта объектом, данные конструкции не могут быть объективизированы
каким-либо гносеологическим процессом. При таком подходе можно назвать
эти связи метасвязями, объект – квазиобъектом, а сложившуюся ситуацию –
метаотношением.
Описывая
состояния,
возможности
и
особенности
ментальных
конструктов, вербализующихся в философском дискурсе, мы сами уничтожаем
условия существования таковых. Именно поэтому их бытие есть бытие-ксмерти, и в этом смысле они уже не существуют в ситуации, в их применении;
мы трепанируем мертвое сознание, для работы с живым со-знанием важен
анализ только в отношении функционирования в метаязыке, в применении к
пониманию/по-мысливанию
исследователь
должен
ментальных
работать
с
конструктов.
любым
Только
феноменом
или
так
фактом,
маркированным сознанием, рассматриваемым сквозь призму человека, это, по
сути, есть подход к решению любой проблемы философствования, ведь
действование как продуцента, так и реципиента метальных конструктов лежит
в стратегиях картезианского дискурса. Все, что мы пытаемся по-мыслить,
фиксируя как часть общей картины самого мыслящего субъекта, превращает
со-знание во всех его ипостасях в неустранимую часть всяческого по-знания,
входит определяющим моментом в каждую смысловую структуру. При
вычленении ментальных образований в структуре смысла, необходимым
условием
является
дефиниций
тотальности
введение
относительно
ментальности
дополнительных,
иерархической
оказывается,
иногда
гипотетических
суперструктуры
что
все,
смысла.
что,
При
возможно,
репрезентировано в структурах языка, маркируется со-знанием, поэтому наряду
с категоризованными понятиями нужно включать в сферу рассмотрения весь
76
сонм примеров, ситуаций и употреблений, даже гипотетически возможных, и
вот на этом этапе сама спецификация теряет свой смысл. А специфика – отнюдь
не в отличии по некоторым конкретизирующим признакам ментальных
конструктов от фактов реального мира, которые являются характеристикой
некоего сходного с объектами реальной действительности факта. Последнему в
ситуации
отрешения
от
ментальности
присуща
другая
качественная
характеристика. Специфика их кроется в том, что они есть некоторые
невозможные возможности и существуют и априорно, и апостериорно, а
значит, и их по-мысливание и описание происходят в понятиях метаязыка и
метатеории – хотя в общем случае это не какой-то другой язык или другая
теория. В отличие от таковых естественного описания, они есть новая
неузуальная интерпретация естественного языка предметного описания.
Некий метаязык в данном случае оказывается не просто языком описания
различных феноменов, но и сам служит средством экспериментирования,
порождения как смыслов, так и знания, и процессов о-сознания и по-знания.
Язык при этом есть феномен того же ряда, что и мыслительные конструкты,
философствование и сознание вообще. Он функционирует лишь при
существовании неких метаобъектов общих представлений об объектах
реального мира, если анализировать формы знания в естественных науках или
об объектах рефлексивной реальности, если рассуждать о, допустим, феномене
философствования. В первом случае – это первичный метаязык второго уровня
абстракции, высказывания которого фиксируют ноэматическую рефлексию и
прагматические связи человека мыслящего с ситуацией семиозиса в виде
прагмем – что не есть герменевтическое знание о языке или о ментальных
конструкциях, а лишь условие его работы. И он еще не может фиксировать
отношения субъекта порождающего к языку или мыслительным конструкциям,
отношения его с языком (метаязыком) третьего уровня абстракции не
выражаются
через
систематизацией
оппозицию
языка
первого
объект-субъект.
уровня
абстракции
Категоризацией
является
и
система
мифотворчества: объекты данного метаязыка являются теперь картинами мира,
77
бытийности, в которых как язык, так и ментальные образования сознания уже
представлены как квазиобъекты понимания.
А работа языка третьего уровня абстракции предполагает уверенность в
положении о том, что по отношению к ментальным конструктам не может быть
позиции внешнего наблюдателя, не может существовать воспроизводимой
ситуации чувственного опыта. При подобной ошибке мы неизбежно
редуцируем изучение смысловых иерархических суперструктур до банального
языкового анализа без учета всего многообразия и многогранности данного
материально-идеального феномена. В своей работе «Символ и сознание»
Пятигорский и Мамардашвили справедливо отмечают: «Для нас языковая
форма понимания сознания... не должна накладываться целиком на область
сознания. Мы не можем сказать: «Где есть язык там есть сознание». «Мы
просто предполагаем, что мы в нашем понимании сознания пользуемся языком,
поскольку это понимание эксплицируется. Что касается самого сознания как
гипостазируемого объекта, то мы оставляем вопрос о его отношении к языку
полностью открытым» [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 34–35].
Из вышесказанного следует, что авторы «Символа и сознания» хотя и
осторожно, но все же отграничивают язык от сознания. Релевантным является
разграничение
средств
вербализации
и
непосредственно
ментальных
иерархических конструктов, на основе которых (как тех, так и других)
возникает смысл, игнорирование или же абсолютизация одной из сторон влекут
за собой ограниченность в понимании. М. К. Мамардашвили считает
возможным, вслед за Витгенштейном, пересечение и совпадение ментальных
конструктов
с
фиксируемыми
определенными
средствами
в
языке
рефлексивными актами, где референт находится внутри языка и внутри
высказывания – это высказывания типа «я думаю…/я знаю…/я верю…»; в этих
высказываниях
есть
нечто,
дающее
мыслительному
акту
языковую
характеристику, но при этом не являющееся категориальной характеристикой
языка как такового, это самоотсылка (самоссылающаяся система), отдельная от
свойств языка. Минимальную маркировку получают рефлексивные акты
78
мыследействования в языке. Как указывают М. К. Мамардашвили и А. М.
Пятигорский, «какие-то структуры языкового мышления более связаны с
отсутствием сознания, нежели с его присутствием… Сознание невозможно
понять с помощью исследования текста. В лучшем случае здесь сознание
«проглядывает», а вообще текст может быть создан и без сознания. Текст
может быть порожден, между тем как сознание не может быть порождено
никаким лингвистическим устройством, прежде всего потому, что сознание
появляется в тексте не в силу каких-то закономерностей языка, т.е. изнутри
текста, но в силу какой-то закономерности самого сознания» [Мамардашвили,
Пятигорский 1997: 38]. Языковое выражение не может быть охарактеризовано
самим актом рефлексии, быть ментальным актом сознания, в текстовых блоках
устанавливается лишь иерархическая структура сложных синтаксических и
стилистических конструкций.
Наличие
оппозиций
языковых
единиц
в
системе
не
может
репрезентировать ни какие-либо процессы ментальной деятельности, ни
присутствие таковой деятельности самой по себе. Однако в переходе от одной
оппозиции
к другой можно усмотреть присутствие ментальных операций,
именно метасвязи факта перехода к различным языковым состояниям, сам факт
и динамика перехода есть косвенное указание на ментальные процессы. Но
прояснение ментальных процессов с позиции лингвистических оппозиций
невозможно, скорее, наоборот: первые позволяют интерпретировать факт
наличия оппозиций. Динамическое условие смены структур возможно
определить как мыследействование. В целом область ментальных структур и
система лингвистических оппозиций относится к области механической работы
сознания в процессах разграничения. При смене субъектом мышления некоей
узуальной структуры языкового мышления нахождение его в конкретном
узуальном состоянии мышления свидетельствует о намеренном выходе из
структуры о-сознанного. Релевантна в этом аспекте антитеза Сепира-Уорфа.
Авторы полагают, что именно язык и его структуры действуют как материал
интерпретации мыслительных актов, они конституируют структуры сознания:
79
«мы могли бы противопоставить предположение, что, напротив, определенные
структуры языка выполняются, или вернее, могут быть выполнены, в материи
сознания» [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 36–37].
Текст сам по себе не является заведомо случаем присутствия
мыследеятельностных актов. В нем ментальные акты обнаруживаются в
системе самоссылающихся элементов. В системе языка форма предстает в виде
некоего феномена, индуцированного ситуацией говорения и мышления. Само
усмотрение подобного феномена уже является метатеоретичной продукцией.
Эта позитивистская трактовка феномена рядоположена негативистскому
положению о принципиальной невозможности дескрипции сознания.
Данные положения могут быть объяснены общим свойством той сферы
по-знания, для понимания/по-знания которой и создается метатеория, это общее
свойство является не воспринимаемым и не анализируемым в теории. Данное
свойство может быть понято как тождество самого феномена и его
интерпретации. Авторы «Символа и сознания» дают пример, в котором
различается сам факт объективной реальности и его восприятие, при этом
подобное разграничение не имеет смысла, да и при условиях, когда оно имеет
смысл, механизмы, его породившие, являются настолько сходными, что их
дифференциация является неустойчивой; и так как наше восприятие может
меняться применительно к рефлексивной реальности, то такое различение
интерпретации и факта объективной реальности не имеет смысла. Метатеория
применяется именно к явлениям подобного порядка, где характерологическое
свойство, описываемое в терминах сознания, наличествует. Не только
восприятие или память могут быть представлены как ментальные процессы
генерации некоего «самоотсылаемого образа», в виде системы отношений
языка и текста. Можно сказать, что в любом процессе, объективируемом как
мыслительный
акт,
существует
восприятие,
но
в
любом
процессе,
задействующем восприятие, существует ментальный акт по-знания. «Сознание
это не психический процесс в классическом психо-физиологическом смысле
слова. Но очень важно иметь в виду, что любой психический процесс может
80
быть представлен как в объектном плане, так и в плане сознания»
[Мамардашвили, Пятигорский 1997: 41].
В результате редукции языка и других сходных феноменов открывается
сфера метатеоретического описания в качестве базиса самих феноменов.
Редукция идет через язык и метаязык. И феномены остаются в сфере чистого
метатеоретического анализа в качестве экспликаций ментальной деятельности.
В
данном
случае
сверхзадачей
и
необходимым
условием
является
разграничение ментальности и объективной реальности, без возможности
сделать это эмпирически без противоречий и интерпретативного подхода.
Главным
конструкции.
метапонятием
Дефиниция
здесь
этого
выступает
понятия
метаформа
должна
ментальной
строиться
на
противопоставлении неким феноменам, которые ментальными конструкциями
не
являются.
Это
противопоставление,
в
силу
особенностей
языка,
интерпретируется часто как противопоставление двух сфер сущего, что в корне
неверно. Подход к рассмотрению этих сфер не имеет существенных различий:
по-знание одного предполагает по-знание другого, и здесь одно может
сводиться к другому, или же интерпретироваться как другое – объектность
переводится в имманентность ментального действия. Из этого следует основная
посылка классической философии о точке отсчета любого феномена как некоей
«данности сознания», где возможен прямой опыт со структурами со-знания –
такие его состояния, в которых оно воспринимается непосредственно, что
является неприемлемым для нас в анализе философского дискурса. Классика
детерминирует ментальное действие без использования опыта семиотизации на
уровне языка, без которого не учитываются о-значаемое, о-значающее и
субъект
мыслящий,
участвующий
в
процессе
о-значивания.
Сфера
метатеоретического анализа мыследействования выводится как подход,
позволяющий избежать противоречия классики, уводя нас от обрыва
овеществления ментальных актов. Классическая данность ментальных актов сознания терпит крах: они должны быть представлены иначе – в вербализации
или в других формах за-данности. Вот как говорят об этом авторы «Символа и
81
сознания», вводя так называемый «принцип объективной ошибки»: «Когда мы
говорим, что какая-то часть сознания нами приравнивается к действительному
положению вещей, тем самым отвлекаясь от того, понимает ли сознание само
себя или нет, мы, фактически, допускаем в качестве универсального
позитивного принципа, что возможна ошибка, но мы должны будем «ей»
верить» [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 51].
Объективируя ментальные акты для работы по анализу феноменов сознания, мы имеем дело, как упоминалось ранее, с квазиобъектами. Наши
способы вербализации и репрезентации ментальных конструктов в метаязыке
конституируют предметность, что также ведет к имманентному расширению
рефлексивных процедур верификации. Классика не дает разрешения парадоксу
допущения о том, что мыслительный акт не есть объект, а если мы пытаемся
рассматривать что-либо, то приходим к объективизации, значит, это уже не
мыслительный акт.
Вводится метаформа ментального акта без особой категориальной
определенности, но, учитывая прагматику данного метапонятия, необходимо
просто рассматривать его в оппозиции к другим метапонятиям системы
метатеории. Все вкупе они составляют метаязык анализа прагматических
ситуаций семиозиса, основу ноэматического и феноменологического планов
рефлексии.
Другими метапонятиями являются состояние и структура ментального
акта, дефинируемые через фиксацию ситуативности работы ментальных
процессов: все феномены, входящие в со-знание, будут обладать структурой сознания или же разрушать данную структуру (при этом являя собой особый
маркер). Определенной ментальной конструкции соответствует психическое
состояние, но состояние мыслительного акта не является элементом этого
психического
состояния,
оно
присуще
не
внутренне
психическому.
Рефлексивный акт сам находится в состоянии сознания, но схватывание его в
рефлексии ноэматической невозможно, подобное происходит только в акте
рефлексии
феноменологической.
О-сознание
по-знаваемого
является
82
состоянием
мыслительного
акта,
восприятие
речи
и
возможность
ноэматического интуитивного понимания – это контрапункты психики,
фиксируемые объективно, состояние же мыслительного акта не объектно:
ноэматическая интуиция и восприятие – это качественные процессы, о-сознание
не представляет собой качество.
Состояние ментального акта не является содержательной категорией. Оно
может быть привязано только к конкретному содержанию. В соотнесении
содержательных моментов и состояний нет однозначной трактовки, так как не
существует процедур верификации соотнесения подобного рода. По сути, эта
неоднозначность
и
многогранность сама
метатеоретична,
ведь
теория
предполагает однозначность толкования. «Сознавать» значит «быть формой
сознания»
или,
вернее
сказать,
сознавать
значит
быть
формой»
[Мамардашвили, Пятигорский 1997: 67]. Из этого следует другое метапонятие –
это текст, порождаемый ментальными актами. Текст с этих позиций есть нечто
читаемое со-знанием, его про-чтение является неким состоянием со-знания.
Дефиниция
состояния
как
конкретизация
чего-то
бессодержательного
представляет собой незримую в ноэматической рефлексии сторону. Состоянием
является про-чтение такого текста, который сам появляется в ментальном акте
про-чтения. Состояние есть то, что про-чтением порождает текст – текст прочитывается/о-сознается
текстом.
Понимание
есть
порождение
текста,
прохождение реципиента путем следования продуцента. Эта квазитавтология
есть свидетельство недостаточности толкования подобного рода актов с точки
зрения узуса феноменологии, требуется что-то ещё, развертывание же данной
тавтологичности происходит уже в метатеоретическом освещении работы
ментальных актов.
Философский дискурс в этом случае есть особый неузуальный текст,
возникающий в процессе про-чтения, и в этом он фактически является
состоянием со-знания, есть «конечная, вспыхивающая связь, замыкание
осознающего
с
осознаваемым,
или
какая-то
ситуация
«осознающего»
83
осознаваемого, и то, что появляется в акте осознавания этого что-то, и есть
состояние сознания» [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 68].
Подобный подход к соотнесению состояния и содержания, через
текстовую форму, переводит ментальные акты в область доступного опыта. Его
доступность носит косвенный характер благодаря работе с символами. Таким
образом, состояния ментальных актов являются возможностью интерпретации
о-сознания их как самих себя.
При
этом
философский
дискурс
не
выделяется
из
возможных/гипотетических текстов, про-чтение которых будет состоянием сознания, поскольку сама дефиниция не имеет имманентных характеристик для
интерпретации их как чего-то иного и в качестве таковых. Подобные
характеристики возникнут лишь в метатеории, учитывающей и ссылающейся
на определенную культурную традицию. Аналогом подобного рассуждения
может
послужить
привлечение
Гуссерлианского
обоснования
трансцендентального через обоснованную редукцию психического.
Как
указывают М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский, «...содержание не
коммуницируется как сознание. Коммуницируется нечто другое. Сознание
постоянно должно возникать. А если нечто коммуницируется, то оно не
сознание» [Мамардашвили, Пятигорский 1997: 70].
При наделении актов со-знания некими субъективными характеристиками
типа «со-знание о-сознает себя в формах…» нельзя, однако, погружаться в
объективизацию ментальных актов. Этого можно достичь не только
постоянными рефлексивными отсылками к метатеоретической позиции. Эта
опасность наиболее ощутима с введением понятия структуры ментальных актов
со-знания, ведь состояние видится в индивидуальном: в отличие от структуры,
оно аналогично форме классиков и относится к трансцендентальному субъекту,
а значит, ведет к различного рода эквивокациям. Трансцендентальная
рефлексия не является рефлексивным актом трансцендентального субъекта,
развивающийся в процессе рефлексивный акт здесь отсутствует.
84
Разграничение состояния и структуры в силу объективных причин
должно производиться прагматически путем блокировки дву-осознанности
онтологии и семантики. «…в момент рассуждения о структуре сознания нет
возможности оценивать понимание сознания с точки зрения применения к нему
понятия структуры… можно утверждать, что содержанию такого факта
сознания, каким является в данный момент рассуждение о сознании,
соответствует известное состояние, но нет возможности описывать этот факт,
который эксплицируется… в смысле определенной структуры сознания»
[Мамардашвили, Пятигорский 1997: 74].
Структура в рассматриваемом нами смысле является содержанием,
абстрагированным от состояния, это пространственная характеристика – ряд
конкретных феноменов со-знания, рассматриваемых как тексты со-знания.
Один текст предполагает наличие одной/единой структуры: это протяженность
содержания в определенных рамках, иначе говоря, структурированное
содержание. «Содержательный факт или содержательный материал сознания
есть некоторое пространственное расположение самого материала сознания, не
в том смысле, что сознание в пространстве, а в том, что само-сознание (как
структура сознания) есть определенное пространственное расположение
относительно самого себя. Вместе с тем не каждый «факт» сознания
(случившееся
сознание)
можно
интерпретировать
в
плане
структурированности. Относительно какого-то факта сознания можно сказать,
что это структура, а о каком-то ином нельзя, «хотя последний, в определенных
прагматических ситуациях, может фигурировать и как структура сознания. Это
именно то, что можно было бы назвать псевдоструктурой сознания»
[Мамардашвили, Пятигорский 1997: 77].
Развивая тему продуцента ментального акта, субъекта со-знания, мы
закономерно приходим к вопросу о границах языка и о возможности и
объективной необходимости существования метаязыка философствования,
такого языка, в котором не происходит смешение описываемых нами понятий,
или данное смешение осознается как неизбежное и производится намеренно.
85
Рассматривая проблему в терминах языка науки, языка культуры или другого
подобного им языка, главное – о-сознавать, что средства данного языка не
всегда являются адекватными для вербализации ментальных актов, их можно и
нужно репрезентировать совершенно иначе.
Принятая априорно идея имманентного дуализма языков закономерно
выводит нас на новый этап, когда приходит о-сознание, что язык иногда не
просто некий язык, в ситуации феноменологической рефлексии он о-значает, и
о-сознание этого дуализма дает нам инструмент к порождению нового, осмысленного дискурса.
Вот
как
описывали
свойства
и
роль
языка
в
неузуальном
метатеоретическом подходе М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский в своей
работе «Символ и сознание»: «Когда мы говорим о том, что наш язык
релятивен и вероятностен, то это имеет смысл только в отношении сознания,
которое нерелятивно и невероятностно. Мы убеждены в непредсказуемости/
непрогнозируемости
прогностического
актов
мышления,
воздействия
той
или
в
отличие
иной
модели
от
возможности
порождения,
в
непредсказуемости самого факта, что случится та или иная мысль, тот или иной
сознательный опыт. Однако возможно порождение установки на то, чтобы
рассматривать самого себя как материю эксперимента, рассматривать свою
жизнь как то, в чем могут быть созданы такие условия, при которых мог бы
самостоятельно возникнуть эксперимент нового сознательного опыта...»
[Мамардашвили, Пятигорский 1997: 114].
Все вышесказанное может являться некоей схемой действования как
продуцента, так и реципиента философского текста, предполагающей особый
по-знавательный опыт (обладающий свойствами новума и творимости),
предполагающей новую феноменологическую рефлексию на третьем уровне
абстракции, а значит, и саму новую возможность о-сознания опыта в сфере
рефлексивной реальности.
86
2.2.
Теория прототипов во взаимосвязи с иерархической ноэматикой
Процессы
категоризации
семантизирующих
характерологических
признаков в структуре смыслового конструкта служат базисом образования
значения. Их исследование строится на принципах выявления денотативных
критериев прототипического смысла путем организации и вычленения базового
уровеня категоризации как ядерной структуры ноэм-доминант.
В настоящее время доказано, что язык является частью когнитивной
системы с помощью которого протекают процессы рецепции, интерпретации,
анализа,
хранения,
распредмечивания
и
опредмечивания
смысловой
реальности.
Способность к производству речи в когнитивном аспекте так же важна,
как и восприятие, и представление, запоминание и обучение, категоризация и
образование понятий, решение проблем или планирование и координация
действий. Значения как особые ментальные явления непосредственно связаны с
этими способностями, в том числе с категоризацией и образованием понятия.
Под категоризацией мы будем понимать когнитивные процессы, при
которых объекты систематизируются и распределяются по
определенным
категориям. Процесс категоризации есть возможность объединения класса
характерологических признаков в один класс, некое единое множество, дающее
общее представление. Однако следует заметить, что не каждое множество
является категорией. Вернее, члены категории должны быть примерами одного
и того же вида, а именно, всеми возможными примерами для этого вида.
Например: Категория Mensch – обобщение объектов, инстанций вида «Mensch»,
охватывает все настоящие, прошлые, будущие, а также мнимые Menschen.
Категория может содержать субкатегории. Категория Қ1 является
субкатегорией категории Қ2, если и только если каждый объект, член, который
принадлежит категории Қ1, действительно также является членом Қ2.
Процессы категоризации возможны, только если когнитивная система
предоставляет
для
представления.
Такие
дефиниции
категорий
представления
определенные
являются
ментальные
концептуализирующими
87
схемами, точнее, категориальными концептами. Категориальный концепт
определяет общие признаки членов категории, ментальным представлением
которых является концепт.
Допустим следующее порождение категориального концепта как набора
семантизирующих
Платоновский
характерологических
эйдос,
то
общее,
что
признаков,
образующих
дает понимание
некий
феномена при
речепроизводстве каждому члену лингвокультурного сообщества.
Концепт Mensch – ментальное представление, которое определяет
категорию – Mensch. Оно определяет общие признаки человека как феномена,
то есть физические характеристики, функциональные особенности, форму
существования и т.д.
В данном случае при категоризации и порождении понятия как некой
структуры устойчивых признаков, изначально наличествовавших в разных
употреблениях единицы, т.е. представлявших собой ноэмы различного порядка,
мы наталкиваемся на ряд вопросов, решение которых необходимо для
понимания процесса формирования значения: 1. Являются ли концепты
самостоятельными
психическими/ментальными
категориями
или
лишь
особыми нейрофизиологическими состояниями человеческого мозга? 2.
Являются ли концепты результатом когнитивного освоения мира или
заданными
образцами
когнитивной
системы,
с
помощью
которых
структурируется содержание восприятия? 3. Существует ли совокупность
основных и действительно универсальных концептов, которые закреплены в
человеческом сознании и лежат в основе всех концептов? 4. Имеют ли
концепты образную, символическую или геометрическую структуру, и в
результате каких операций образуются новые концепты? [Gärdenfors 2000: 47]
Мы
полагаем,
что
категориальный
концепт
как
описательная
структура значения может выступать в роли несущих смысловую нагрузку
лексем или развернутых суждений. Описательное значение выражения как его
денотат определяет категория. Такие особые категории обозначаются как
семантические категории.
88
Однако, безусловно, не всякий концепт является структурной схемой
значения лексемы. Многие концепты вербализируются только в сложных
синтаксических выражениях или вообще не вербализируются, т.е. не для
каждой категории существует вербальное обозначение, иногда они понимаются
имманентно на уровне ноэматической рефлексии, не воспринимаясь, а как бы
намекая на себя.
Очевидно, что схематизация – тот путь, по которому идет образование
значения, и в отличие от смыслопорождения (структурации), является способом
сокращения измерений и уменьшения вариантов хронотопического восприятия
(например, Dasein как философская категория) и, как правило, более
абстрактна, то есть содержит меньше признаков, чем индивидуальные
авторские концепты (например, семантизирующие признаки
Бытия и
Человеческого существа и т.д. в работах М. Хайдеггера).
Классическая модель категоризации (построения значения из некоего
набора употреблений – индивидуальных смыслов), – это модель необходимых
и достаточных условий (модель НДУ). Она восходит к аристотелевскому
учению об определениях. Категория детерминируется множеством условий,
которые в итоге являются также достаточными для категоризации.
Например: Категория In-der-Welt-sein содержит именно те объекты,
которые имеют признаки наличие в, бытийность, экзистенциальность и
аффицируемость.
Необходимые условия (НУ):
Если Σ In-der-Welt-sein, то Σ наличествует в данном мире и не
наличествует в другом.
Если Σ In-der-Welt-sein, то Σ имеет все характеристики бытийности.
Если Σ In-der-Welt-sein, то Σ является экзистенциальным объектом и к
нему применимы все характеристики.
Если Σ In-der-Welt-sein, то Σ ведет к чувственному восприятию и опыту.
Если Σ In-der-Welt-sein, то Σ коррелирует с Dasein.
Достаточное условие (ДУ):
89
Если Σ наличествует в данном мире и не наличествует в другом, Σ имеет
все характеристики бытийности, Σ является экзистенциальным объектом, Σ
ведет к чувственному восприятию и опыту и Σ коррелирует с Dasein, то Σ Inder-Welt-sein.
Модель НДУ также составляет основное положение для бинарной
семантики признаков. Бинарные признаки отвечают необходимым условиям в
модели НДУ.
В основе классической модели категоризации лежат следующие
положения: 1) категории основываются на постоянном множестве признаков,
2) каждый такой признак не является обязательно необходимым, 3) признаки
бинарного рода, то есть объект либо принадлежит к данной категории, либо не
принадлежит, 4) категории имеют четкие границы, 5) категории однородны, то
есть все члены категории имеют один и тот же статус [Lakoff 1987: 17].
Основная сложность классической модели категоризации заключается в
том, что чаще всего не ясно, какие признаки на самом деле релевантны для
определенной категории.
Например: In-der-Welt-sein: => онтологический эквивалент чистого
явления,
обладающий
опытностью
восприятия
и
чувственностью,
характеризующийся корреляцией с Dasein в его понимании в качестве Mensch
М. Хайдеггером.
Необходимы
ли
признаки
аффицируемость,
наличие-в
или
экзистенциальность для того, чтобы объект был причислен к категории Inder-Welt-sein, или же достаточно характеристики бытийность?
Однако на настоящий момент наиболее перспективной в понимании
процессов категоризации является теория прототипов. Она развилась на
основе экспериментов по категоризации, которые в 70-х годах предпринимали
ученые, занимавшиеся когнитивной психологией и семантикой.
Разрешающим фактором были данные, полученные Брентом Берлином и
Полом Кеем (1969) в отношении систем «цвет-слово». После появления работ
указанных
авторов
категоризация
цветов
ориентировалась
не
на
90
категориальные признаки, а на цвета, находившиеся в фокусе, в качестве
постоянных точек.
1.
Чем ближе определенный цвет находится к цвету в фокусе, с тем
большей уверенностью его относят к соответствующей категории. Система
«сот»
в
категории
цвета,
очевидно,
является
секционированной/структурирующей. Замечательно, что подобный принцип
принят и в некоторых компьютерных программах.
2.
Напротив, категоризация с возрастающим интервалом от цвета,
данного в фокусе, становится менее достоверной. Границы цветовой категории
также являются нечеткими [Berlin, Kay 1969: 83].
Психолог Элеанор Х. Рош (1973, 1975) провела эксперименты для
категории Bird: испытуемые должны были распределить различные виды птиц
на шкале в соответствии с тем, какие из них являются лучшим или худшим
примером для категории.
Ответы дали в итоге следующую иерархию: лучший пример: малиновка;
менее хороший пример в сравнении с предыдущим: голуби, воробьи,
канарейки; средний уровень: совы, попугаи, фазаны, туканы; плохие примеры:
утки, павлины; худшие примеры: пингвины, страусы [Rosch 1973: 328–350;
Rosch 1975: 192–233].
Кроме того, выяснилось, что время реакции при ответе на вопрос
«Является ли X птицей?» сокращалось, если вид птицы X классифицировался
как типичный. Для многих категорий существует нечто вроде денотатного
образца (лучшего объекта объективной реальности или референциальной
реальности для абстрактных понятий). Для этих членов категории и был введен
термин прототип.
В дальнейших экспериментах было доказано, что наряду с категорией
цвета также и многие другие категории имеют нечеткие границы.
Другим
выявление
интересным
примером
прототипических
ассоциативного
характеристик
предметов
эксперимента
и
на
феноменов,
формирующих категорию, явились исследования В. Лабова. Вильгельм Лабов
91
(1973) поставил перед испытуемыми задачу классифицировать изображения
сосудов по тому, были ли они обозначены как чашка, ваза или пиала (миска).
Вдобавок испытуемые должны были представить, что сосуды заполнены кофе /
туда поставлены цветы.
Важнейшие выводы таковы: 1. Существует единодушное мнение
относительно того, что является прототипом чашки (для кофе – с ручкой,
одинаковой ширины и высоты) и прототипом вазы (для цветов – без ручки,
явно скорее высокая, чем широкая). 2. По отношению ко всем другим сосудам
между ответами разных испытуемых были большие различия. Часто при этом
ответы одного и того же испытуемого также были противоречивыми [Labov
1973: 340–373].
Людвиг Витгенштейн (1953) – ранний критик классической модели
категоризации – при
анализе категории Spiel установил следующее: 1. Не
существует определяющего признака, который подходит всем членам
категории без исключения. 2. Определенные члены разделяют некоторые
признаки с другими, а те в свою очередь – другие признаки с еще одними
членами. 3. Категория организуется на основе того, что между ее членами
существуют различные сходства. То, что связывает все члены категории друг с
другом,
Витгенштейн называет семейным сходством (Rosch, Mervis 1975:
573–605).
Исходя из вышесказанного, в основе модели категоризации теории
прототипов лежат следующие предположения:
1.
Существуют прототипы, рассматриваемые как денотативные
основы для данной категории. Они являются ядром категории, а элементы их
структурирующие являются ядерными ноэмами при порождении смысла.
2.
Прототипы служат базовыми сценариями и наряду с этим
критериями для категоризации: вопрос, принадлежит ли что-то к категории или
нет – это вопрос сходства с ее прототипом.
92
3.
Принадлежность
к
категории
не
связана
с
постоянным
множеством необходимых условий. В частности, прототип может иметь
семантизирующие признаки, которые разделяют не все члены категории.
4.
Члены категории связаны друг с другом не наличием общих
признаков, а семейным сходством.
5.
Категории имеют иерархическую структуру, члены категории
имеют неодинаковый статус, существуют лучшие и худшие примеры, а значит,
есть актуализированные и не актуализированные, но имманентно действующие
ряды ноэм и метаединиц в ядерном и периферийном полях [Бредихин 2013: 29].
6.
Принадлежность к категории не является вопросом, требующим
либо положительного, либо отрицательного ответа, она может основываться на
градуальном распределении.
7.
Категории имеют нечеткие границы.
Однако
детальное
определение
прототипа
вызывает
некоторые
затруднения, возьмем некоторые допущения:
1.
Прототип – это член категории, находящийся в фокусе.
Это вызывает следующее затруднение: знакомство с одним конкретным
экземпляром является постоянным условием того, что прототип может служить
базовым сценарием для категоризации других членов категории.
2.
Прототип – это субкатегория категории.
Однако при данном допущении проблема прототипа распространяется на
понятие субкатегории, что приводит к дилеммам следующего рода:
- Если только прототипичные денотаты субкатегории рассматривать как
прототипы категории, то прототип субкатегории будет являться также
прототипом категории.
- Если все прототипичные денотаты субкатегории рассматриваются как
прототипы
категориальные,
то
также
нетипичные/дефектные
субкатегориальные прототипы будут принадлежать к прототипам категории.
- Для субкатегории всегда имеются также такие категориальные
признаки, которые в процессе категоризации не играют никакой роли.
93
3.
Прототип категории – это абстрактная совокупность признаков,
которая определяется прототипическим понятием.
Например: прототипичное понятие для In-der-Welt-sein закрепляет также
функциональные характеристики феномена (например, аффицируемость),
онтологические формы (наличие в) и определенную манеру бытования
(экзистенциальность) общего Sein, но не его отнесенность к конкретному
феномену, способ репрезентации в хронотопе или форму.
Категориальные признаки, которые составляют прототип категории,
обозначаются как её прототипические признаки.
Среди прототипичных признаков есть такие, которые ориентированы на
выделение членов категории от тех, которые не входят в её состав. Очевидно,
что такие признаки имеют большое значение для дифференциации членов
категории (cue validity).
Например:
Для
In-der-Welt-sein
признак
аффицируемость
имеет
большое значение для распознавания – почти все члены этой категории имеют
данный признак, в то время как у всех не входящих в нее он отсутствует.
Напротив,
признаки
наличия
в,
экзистенциальность
или
репрезентируется только в отношении человека не имеют определяющего
значения для распознавания, так, как, например, Dasein во всех работах М.
Хайдеггера обладает всеми этими признаками.
Члены категории являются протипичными экземплярами, если они
олицетворяют собой все признаки (абстрактного) прототипа категории. При
этом они могут отличаться по признакам, которые прототипичное понятие
содержит в себе как имманентные.
Категориальные элементы организуются в иерархические структуры.
Этому соответствует то, что один и тот же объект может попасть в категории на
разные уровни данной структурной схемы. Анализ эмпирического материала
показывает,
что
произвольно
предпочитается
средний
уровень
между
намеренно специфичной (периферической) и намеренно генерализующей
(доминантно-ядерной) категоризацией. Рош называет этот уровень базовым
94
уровнем, а категории на этом уровне – базовыми категориями [Rosch 1975: 192–
233].
Базовый уровень является привилегированным с когнитивной точки
зрения по следующим причинам: 1. Его категории имеют высокую степень
внутреннего семейного сходства и хорошо выделяются на фоне соседних
категорий. 2. По нему организуется большая часть сведений о данных объектах.
3. Это высший уровень, на котором для всех членов категории существует
общий схематический образ. 4. На нем категоризация осуществляется быстрее,
чем на любом другом уровне.
Выражения для базовых категорий, соответственно, играют особую роль
в
языковых
таксономиях,
т.к.:
а)
являются
предпочтительными
в
коммуникации; как правило, это простые, часто также короткие слова, б)
формируют наибольшую часть основного словарного фонда и изучаются
первыми, в) лучше всего соответствуют количественному правилу разговорной
практики, согласно которому следует давать не больше и не меньше
информации, чем необходимо.
На базовом уровне расположено большинство категориальных признаков
более значимых для декодирования и распредмечивания ядерных ноэм, именно
поэтому данный уровень особенно значим для образования прототипов.
Таким образом, очевидно, что функциональный приоритет доминантных
ноэм и ноэм-культурных-основ в ядерной зоне смысла заставляет как
продуцента, так и реципиента при категоризации того или иного понятия,
релевантного для понимания смысла всего текста или же закрепления
конструкта именно в конкретном значении, прибегать к феноменологической
рефлексии над компонентами смысла. Однако при актуализации периферийных
ноэм личностного смысла и применении трансформаций суперструктуры
продуцент в угоду неузуальности и многомерности смысла может нивелировать
закрепленные категориальные признаки и сосредоточивать свое внимание и
внимание реципиента на релевантных в конкретной ситуации семиозиса
признаках. Таков путь от смысла к значению и обратно.
95
2.3.
СМД-методология при анализе смысла философского дискурса
Особую значимость при анализе смыслопорождающих механизмов
философского дискурса приобретает СМД-методология Г. П. Щедровицкого.
Сама
возможность
рассмотрения
процессов,
происходящих
в
пространстве логоса, зиждется на обращении к системо-мыследеятельностной
методологии (далее СМД-методологии), поскольку только в рамках этой
методологии Г. П. Щедровицкого имеется возможность научной работы с
понятиями смысл, понимание, рефлексия.
Остановимся
подробнее
на
возможности
использования
СМД-
методологии при анализе смыслопорождающих механизмов. На первый план в
этом аспекте выступает герменевтико-интерпретационный метод, имеющий в
основе онтологию деятельности, разработанный и подробно описанный в
работах
Г. П. Щедровицкого. При описании категоризованных понятий,
вербализованных в философском дискурсе, резонно использовать схему
мыследеятельности (МД) Щедровицкого [Щедровицкий 1995: 281–298],
которая
описывается
в
виде
«трехслойной
модели»,
где
работа
мыследеятельности фиксируется в одном из следующих слоев: М (Чистое
Мышление), М-К (Мысль-коммуникация), МД (Мыследействование).
Как справедливо отмечал В. Айрапетян, «…слово по-настоящему
значимо, пока мы настойчиво спрашиваем, что значит это слово» [Айрапетян
2000: 11]. Как известно, фиксация рефлексии ведет к порождению (причем
намеренному) многомерного философского смысла и является главным
условием
наличия
смысла
и
о-смысленности
единиц
высказывания.
Вербализованные концептуализированные понятия в философском дискурсе
являются достаточно частотными с одной стороны, а с другой – подвергаются
вторичной репрезентации (иногда имеющей вид интерпретации) в других видах
дискурса, многие же проходят процедуру пере-интерпретации для уточнения
смысла в рамках самого философского дискурса. А это представляет
объективную
необходимость
осуществления
рефлексивной
пониманию» в определенном пространстве логоса.
«работы
по
96
В нашей работе рефлексия рассматривается как основное условие
формирования
смысла,
поскольку
иерархическую
ноэматическую
языковые
структуру,
как
средства,
составляющие
правило,
«прегнантны»
имеющимися в её составе мельчайшими квантами смысла, а значит, в
прецедентных текстах философского дискурса им должна быть отведена
определяющая роль. Данные средства и единицы, вербализованные с их
помощью, важны не только при о-сознании и понимании текстового
содержания, но и в понимании его смысла, ведь смыслы репрезентируют
концептуально-валерную систему человека, которой и руководствуется как
продуцент, так и реципиент в своей языковой картине мира.
Мыследеятельность,
по
Щедровицкому,
не
есть
совокупность
психические процессов. Она относится, скорее, к сфере работы духа, по
крайней мере, в рамках онтологии деятельности. При этом каждый слой,
упомянутый
выше,
связан
со
специфической
действительностью.
Распредмечивание и уточнение иерархического многоуровневого смысла
любого концептуализированного понятия возможно рассматривать с позиций
герменевтики, что дает возможность получать ноэматические характеристики
рассматриваемых слов. В рамках этого подхода необходим анализ языковых
средств,
вербализующих
мыследеятельности,
эти понятия,
с
учетом именно
того
пояса
где и происходит фиксация рефлексии над этими
языковыми средствами и получения того или иного языкового выражения.
Само же понятие рефлексивного акта имеет характер мыследеятельности,
духовности. Это не психический процесс, а относится к поясу чистого
мышления; с одной стороны, рефлексивный акт (как акт творения смысла)
представляет собой путь к пониманию (о-сознанию), а с другой стороны – это
ментальная деятельность со-знания в фиксации понимания как такового в
терминах понятий, схем и интерпретаций.
Мышление в данном конкретном случае представляется неким набором
операций со знаками естественного языка или же метаязыка третьего уровня
абстракции как с объектами, имеющими единственную функцию – замещать
97
реальные объекты эмпирики, что приводит к возникновению категоризованных
понятий в мышлении и их вербализации в речевых актах, а затем фиксации в
системе языка.
Неоднородность, многогранность и сложность мышления для анализа
приводит
к
гетерохронны,
неоднородности
схем
по-знания,
гетероиерархированы...
Схемы
которые
«...гетерогенны,
знаний
содержательно-
генетической логики и теории мышления вставляют процесс понимания и
интерпретации внутрь самой схемы, кардинальным образом меняя способы
работы со схемами» [Щедровицкий 1986. Понимание и интерпретация схемы
знания (доклад на «внутреннем» семинаре) [электронный ресурс] Кентавр.
1993. № 1. http://www.circle.ru/kentavr/ TEXTS/008GPS(2).ZIP]. В работе Г. П.
Щедровицкого наглядно показаны возможности разного существования и
логики построения различных частей данной схемы:
Рис. 1
- знаковая форма
- объективное содержание
- значки стрелок или связей, образующие двустороннюю операцию;
создаются в мыслительной деятельности и существуют в ней, в понимании,
интерпретации и т.д. [там же]. Однако и понимание «знаковой формы» в
рамках данной схемы может отличаться в своей интерпретации от самой схемы
действования, что схематично представлено в виде скобок, отделяющих
определенный пояс мыследеятельности, на следующем рисунке:
98
Рис. 2
И при этом знаковая форма по-знания как некий единый целостный
объект относится как к идеальной, так и к материальной сфере субъекта познающего (homo sciensis) представленной схемы, который как субъект
мыслящий (homo existimans), человек рефлексирующий (homo reflectibus),
упомянутый нами выше, находится вне этого пояса – в пограничной позиции
(за знаковым представлением кроется представление идеальное):
Рис. 3
Каждая знаковая форма вербализации содержания должна иметь два
плана интерпретации и, соответственно, две плоскости: в первом плане
интерпретации и первой плоскости она о-значает (замещает объект реальности
для ментальной работы); во второй плоскости его применение независимо от
реального объекта, репрезентирует самое себя и представляет некоторые
кванты (элементарные частицы) по-знания.
Г. П. Щедровицкий считает, что содержание объективно существует в познании и в то же время является результатом интерпретативной деятельности,
объективирующей знаковые формы особого рода в особом смысле. В данном
99
случае объективируется акт по-знания и понимания, и содержание этого
процесса существует в многомерном и многогранном пространстве:
1) в репрезентации по-знания, где происходит фиксация объективного
содержания;
2) в каждом конкретно детерминируемом акте по-знания и отдельной
отрасли знания, где происходит его вплетение соответствующими средствами в
сферу конкретного дискурса. Это наглядно показано на третьем рисунке, где
стрелки схематично отображают как интерпретативную работу, так и работу по
пониманию знаковой формы как единства.
Взяв за основу трехслойную модель Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий
1995: 452], Г. И. Богин выстраивает следующую иерархию типов понимания
текста:
1. Первый уровень – семантизирующее понимание, то есть декодирование
единиц текста, выступающее в знаковой функции.
2. Второй уровень – когнитивное понимание, возникающее при
преодолении трудностей в освоении содержания, то есть тех предикаций,
которые лежат в основе составляющих текст пропозициональных структур,
данных читателю в форме тех же самых единиц текста, с которыми
сталкивается семантизирующее понимание.
3. Третий уровень – распредмечивающее понимание, постоянно имеющее
место при действовании с идеальными реальностями. «Распредметить» –
значит восстановить при обращении рефлексии на текст какие-то стороны
ситуации мыследействования продуцента (или восстановить то, во что эти
ситуации мыследействования превратились в ходе последующего бытования
текста в обществе; такое восстановление приводит к выявлению или даже к
появлению многих граней понимаемого, что соответствует многоаспектности
бытования текста в обществе) [Богин 1993].
Ноэма как мельчайший квант смысла всегда первична по отношению к
семе, ведь смысл, рождающийся в тексте (как неузуальный, так и узуальный),
будет априорно первичен по отношению к значению. Г. И. Богин использует
100
ноэму как основу анализа рефлективных актов реципиента в процессе
понимания текста. Для него понимание как акт строится из ноэм.
Ноэма в работах Богина понимается как «интенциональная сущность»,
мельчайшее идеальное образование, формирующее в своем многообразии
смысл как систему. Он пишет: «Ноэмы – это та самая малая единица с
функцией
установления
связи
и
отношений
между
элементами
коммуникативной и деятельностной ситуации, которая необходима для
смыслообразования. Ноэмы – это указание, осуществляемое рефлексивным
актом сознания, обращенного на минимальный компонент онтологической
конструкции. С этой точки зрения, ноэма соответствует семе, играющей ту же
самую роль при определении уже не смыслов, а выводимых из их совокупности
значений,
что
необходимо
для
построения
словарей
и
грамматик…
Существенно, что ноэмы неделимы. Они усматриваются субъектом прямо в
своей душе» [Богин 1993: 10–11].
Для нашей работы релевантно определение ноэмы как мельчайшего
кванта смысловой структуры. Для прояснения различий в смысле и значении
обратимся к вопросу об их отношении и, соответственно, связи ноэмы и семы.
Человек определяет свое отношение к миру воспринимаемому через призму
смыслов, образующих лингвокультуру сообщества. В этом смысле М. Бубер
справедливо замечает: «Культура есть универсальный способ, каким человек
делает мир «своим», превращая его в Дом человеческого (смыслового) бытия»
[Бубер 1993: 81]. Даже объективная реальность для реципиента несет на себе
отпечаток по-мысливания, а значит, превращается в мир смыслов. Для
большинства лингвистических концепций разграничение смысла и значения не
несёт принципиального характера. Г. И. Богин в своем фундаментальном труде
«Обретение
способности
понимать»
[Богин
2001]
достаточно
четко
разграничивает смысл и значение и описывает категориальные различия в
рассматриваемых понятиях: «Смыслы «есть» только в рефлексии, только в
движении, в потоке коммуникации с человеком и текстом, они являют себя
через
самих
себя,
переживаются
не
через
«отражение
внетекстовой
101
действительности», а через переживание же, пробуждаемое рефлексией в душе
реципиента.
Смыслы
–
не
«форма
существования
материи»:
они
характеризуются как «данности сознанию». «Смысл тяготеет к динамизму,
значение – к стабильности, и оба эти признака создают баланс в понимании как
субстанции. Значение близко к содержанию, смысл – к ситуации с ее
личностным компонентом. Смысл выводится из ситуации; если эта ситуация
вербальная, смысл выводится из вербального контекста. Отвечая на вопрос о
смысле, обычно придумывают вербальную ситуацию (контекст)» [Богин 2001:
33].
Смыслы
как
системы
обладают
одновременно
характеристиками
индивидуальности и общности, что возможно при содержании в них
определенных квантов как в иерархической структуре, воспринимаемых и
переосмысливаемых продуцентом или реципиентом смысла как индивидуумом,
так и некоторых дробных образований, воспринимаемых тем же субъектом –
членом
лингвокультурной
общности.
Смысл
является
частью
бытия
рефлексивной реальности, индивидуализированного и разделенного с другими.
Употребление смысла и рождение смысловости не обязательно требуют осознания значения, ведь именно значения выводятся в процессе речевой
практики из смыслов. Для того чтобы оперировать с сущностью как с целым,
нужно задействовать различные виды рефлексии, фиксация которой и
организация в иерархическую структуру дают процесс смыслопорождения.
Определяющим условием появления смысла, таким образом, является
необходимость понимания, о-с-мысления и о-сознания.
Г. И. Богин относительно значения пишет: «…значение возникает в связи
с учебными и лингвистическими задачами. Оно возникает потому, что
общество не может согласиться с бытованием языка только в виде parole и
langage: язык должен существовать еще и институционально – в виде langue,
фиксированного в виде словарей, грамматик, образцовых звукозаписей, вообще
в виде собрания нормативов. При несоблюдении этого условия могла бы
102
прерваться культурная традиция всех старописьменных народов, которым
подражают народы новописьменные и даже бесписьменные» [Богин 2001: 32].
Категориальные
понятия,
репрезентирующие
релевантные
(наиважнейшие) смыслы, присутствуют в прецедентных философских текстах,
получая свое дальнейшее смысловое развитие как некоторая естественно
развивающаяся система, и выстраиваются в виде иерархической структуры
интенциально релевантных ноэм (репрезентируют многочисленные грани
смысла). В текстах подобного рода вычленяются единства, структурирующие
концептуально-валерное поле для представления конкретной языковой картины
мира.
В философских текстах рефлексивные акты являются вербализованными,
представляют собой высказанную рефлексию, однако это отнюдь не
предполагает её непосредственного интуитивного восприятия без привлечения
феноменологической
непостижимость
рефлексии.
авторского
Невозможность
смысла
является
или
принципиальная
симулякром
обыденного
восприятия. В рамках филологической феноменологической герменевтики с
учетом всех метаединиц понимания работа со смыслами раскрывает всю
многогранность конструктов, вводит их в сферу по-мысливаемого. Все
имманентное содержание прецедентного текста может имплицировать смысл
наиважнейших для конкретной лингвокультуры понятий.
Структурированные смыслы перманентно расширяющиеся в понятии при
этом можно анализировать с опорой на ту плоскость мыследеятельности, в
которой осуществляется мышление и фиксация рефлексии относительно
данного категориального понятия. При подобном подходе о-сознается каждый
отдельный рефлексивный акт со-знания, совершаемый продуцентом текста при
опредмечивании и распредмечивании смысла избранного понятия. При
распределении
потенциальных
мыследеятельности,
появляется
«отрефлексированности»
случаев
фиксации
возможность
вербализованных
релевантными для конкретной лингвокультуры.
рефлексии
определения
понятий,
в
поясах
степеньи
являющихся
103
В случае фиксации рефлексии в поясе мыследействования (МД)
репрезентацию и реализацию находят словарные значения с привлечением
эмоциональной сферы о-сознания и понимания.
В
слое
мысле-коммуникации
(МК)
понятия
рассматриваютсяв
определенном ближайшем контексте. Вследствие данной процедуры может
происходить переосмысление понятия и введение в его смысловую структуру
дополнительных коннотаций. Вербализованное понятие при этом приобретает
статусную характеристику в концептуально-валерной системе и т.д.
В поясе чистого мышления (М) происходит выражение базовых
лингвокультурных смыслов и идей чистого мышления, обсуждается суть
смысла понятия.
С
одной
стороны,
мыследеятельности
фиксация
представляется
рефлексии
главным
в
одном
условием
из
поясов
формирования
иерархической структуры смысла, с другой – именно рефлексия определяет
позицию в иерархии и статус той или иной структурной единицы,
порождающей
текстовое
пространство.
В
языковых
единицах,
репрезентирующих данные структуры в текстовой ткани, происходит смешение
лингвистической
рефлексии
над
значением
понятий
и
ноэматическая
(интуитивная), основанная на лингвокультурном общем, данный вид рефлексии
уже работает со смыслами, и рефлексия феноменологическая (о-сознанная),
позволяющая в рамках анализа процессов фиксации рефлексии выявить и
описать стратегии смыслопорождения в конкретной лингвокультуре.
В проблематике соотношения смысла и значения необходимо учитывать
примарность смысла по отношению к значению. В связи с этим Г. И. Богин
утверждает, что «признание первичности смысла вовсе не следует трактовать
как основание для пренебрежительного отношения к значению» [Богин 2001:
34].
Наша задача при исследовании данной проблемы заключается в том,
чтобы представить анализируемые тексты как опредмеченную рефлексию
(фиксацию рефлексии) над содержащимися в них философскими понятиями.
104
При этом смыслы, которыми обрастают рассматриваемые понятия в
зависимости от того, в каком поясе мыследеятельности осуществляется
относительно них мышление, являются для нас не менее важным.
2.4.
Филологическая феноменологическая герменевтика
Для лингвистического описания смыслопорождения ещё не выработан
некий универсальный подход. В нашем понимании важно определить
возможности объединения герменевтики и когнитивной лингвистики при
анализе смыслопорождения. В этой связи наше внимание сфокусировано на
квантах понимания и декодирования смысла текста как многоуровневой и
иерархической ноэмной структуры, т.е. на механизмах смыслопорождения. Все
элементы значения рассматриваются с точки зрения продуцента и реципиента.
Методологической
основой
взаимодействия
когнитивистики
и
феноменологии могут служить следующие теоретические положения: 1)
понимание слова как его употребления, по Людвигу Витгенштейну; 2)
представление о ноэматической природе словоупотреблений (а значит, и
смыслопорождений в любой единице языка) (иерархическое понимание
ноэмной структуры как основы любого порождения и декодирования); 3)
принятие феноменологических редукций за основу объективации.
Поскольку
в
герменевтике
используются
семиотические
методы,
логические и феноменологические приемы, то она должна непременно
основываться на методологическом базисе когнитивной лингвистики, ибо они
направлены на постижение объективного, внутреннего смысла текста, именно
смысла, а не содержания, которое может быть построено из значений,
закреплённых в системе языка. Все остальные моменты смысловой структуры
текста, навеянные психологическими особенностями автора, историческими и
социальными условиями, являются внешними факторами, они своеобразно
влияют на смысл текста; безусловно, они должны учитываться и включаться в
изучение текстов под общим названием «условия понимания» [Кузнецов 1991:
199–214].
105
Ноэматическая иерархическая структура любой языковой единицы
закономерно предполагает только герменевтическую модель восприятия в
системе МД по Г. П. Щедровицкому. Анализ каждой разноуровневой языковой
единицы
может
осуществляться
множеством
способов,
в
том
числе
исползуемых в традиции лексической семантики и концептуального анализа,
однако
при
всей
близости
их
содержательных
задач
по
сути
они
противоположны.
Первый способ направлен на выявление содержания знака на основе
семного анализа. Второй же, имея своей исходной точкой концептуальное
содержание как единство, предполагает возможности его вербализации.
Лексическая семантика – по сути парадигматическая, классифицирующая,
нормирующая. Заимствованный из культурологии в лингвокультурологию
концептуальный анализ обязательно рассматривает не только лингвистические
феномены, но и феномены культурные. Ориентация на этот подход требует
привлечения
всех
возможных
средств
репрезентации
некоего
концептуализируемого смысла или понятия во всех сферах антропологической
деятельности (культурологический подход). В этом ракурсе наш подход
позволяет
рассматривать
содержащуюся
концептуализации.
в
только
любом
Таким
ноэму концептуальности
феномене
образом
выйти
культуры,
на
чисто
как
основу,
подвергающемся
лингвистическое
рассмотрение проблемы, хотя и с привлечением метатеории Эразма Шёфера.
В некоторых случаях наблюдается предвзятое отношение к работам по
концептологии, однако философское понятие «концепт» приложимо к любым
языковым единицам. Например, у Абеляра концепт есть некая собирательная
сущность всех репрезентируемых смыслов понятия в речи. Ю. С. Степанов
упоминает о надречевом существовании концептов (по сути, для нас это не
только вербализация смыслов в виде ноэм в речи, но и их парадигматическое
сосуществование в языке и слое чистого мышления). Это понимание концепта
присуще и математической логике (культурология заимствовала это понятие
106
именно оттуда): концептуальность в этом смысле есть содержание языковой
единицы.
Подобный
подход
представляет
концепт
как
синоним
смысла,
соотносимого с объёмом понятия, а концептуализацию – как синоним
смыслопорождения,
что,
безусловно,
является
лишь
частью
того
метатеоретического подхода, на котором базируются наши исследования.
Вслед за Г. Фреге смысл понимается нами как «...путь, которым люди приходят
к имени», тогда описание концептуализации будет подобно описанию
смыслопорождения, и систематизация ноэм в иерархическую структуру смысла
уподобляется истории концептуализации, подвергшейся сжатию и компрессии»
[цит. по Степанов 1997: 42]. То, что Ю. С. Степанов использует для прояснения
«смысла» слова этимологический анализ (а мы включаем сюда ещё и
этимологическое переразложение по примеру опытов М. Хайдеггера), роднит
этот подход с традицией изучения внутренней формы слова, хотя и в его
широком понимании. Здесь можно говорить о рационализированном понятии
внутренней формы, которое воспринимается как одна из сторон платоновского
эйдоса, как феномен архетипа или правила для нас в смысле той иерархической
структуры, которая обеспечивает и опосредует порождение и декодирование
чаще всего интуитивно. Совокупность определений внутренней формы слова в
психолингвистических работах даёт возможность «истолковать её как
присущий языку прием, порядок выражения и обозначения с помощью слова
нового содержания или, иначе, как выработанную модель, языковую формулу,
по которой с участием предшествующих слов и их значений происходит
формирование новых слов и значений. Это языковой механизм, всякий раз
приходящий в движение, когда нужно представить, понять и закрепить в
индивидуальном обозначении новое явление, то есть выразить словом новое
содержание» [Гречко 1985: 167–168].
В этимологических изысканиях Ю. С. Степанова содержательный анализ
внутренней формы слова через выявление его этимологического пути есть
способ
содержательно
определить
процесс
концептуализации.
Но
107
переосмыслить внутреннюю форму слова посредством этимологического
анализа – значит определить концепт лишь с одной стороны. Другой стороной
выступают
примеры
словоупотребления
в
различном
контекстуальном
окружении.
Осуществляя этимологический анализ и синтез единицы (по примеру
«языковой
игры»
необходимо
этимологического
одновременно
переразложения
проследить
М.
Хайдеггера),
лингвокультурные
аллюзивные
ассоциации и архетипы.
Таким образом, можно заключить, что нашей главной методологической
целью
является
герменевтики,
создание
ноэматического
независимого
от
отдельного
метаязыка
филологической
конкретного
языка,
т.е.
универсального. Для этого мы выработали подходы к анализу конкретных
языковых единиц, которые позволяли бы осуществлять лингвистическую
работу,
но
в
то
же
время
дали
бы
возможность
оперировать
лингвокультурными иерархически структурированными ноэмными квантами
смысла.
Можно
утверждать,
что
иерархически
структурированные
ноэмы
пронизывают все компоненты как смысла, так и значения языковой единицы,
но в большинстве своём на настоящий момент не существует достоверного
способа фиксации и теоретического описания того или иного кванта смысла,
чаще всего приходится полагаться на интуицию, как утверждает Анри Бергсон
[Bergson 1959]. Следует,
однако, отметить
существование нескольких
экспериментальных методов (перестройка исходного текста различными
реципиентами, свободные ассоциации), которые также ориентированы на
фиксацию и теоретическое описание квантов смысла.
Именно попытка преодоления проблемы поиска семы в значении
заставляет нас искать новые методы и закономерно прийти к логически
связанному со смыслом, и являющемуся первичным по отношению к семе
понятию ноэмы и иерархической структуры внутри семы.
108
Для подобного анализа релевантно восходящее к логико-семантическим
рассуждениям Готтлоба Фреге различение смысла и значения: ученый говорил
о том, что «имя» выражает (drückt aus) свой «смысл» (Sinn) и обозначает
(bedeutet) свое значение (Вedeutung) [Frege 1986: 35].
«Значение»,
по
Э.
Косериу,
определяется
как
«...содержание,
создающееся в конкретном языке... на основе существующих в нем оппозиций,
как в грамматическом строе, так и в словарном составе» [Косериу 1989: 65].
«Смысл» не является принадлежностью собственно языковой единицы, а
создается в ином пространстве. Г. П. Щедровицкий в целом определяет
«смысл» как «...общую соотнесенность и связь всех относящихся к ситуации
явлений» [Щедровицкий 1995а: 562].
Как известно, понятие ноэмы впервые было применено в Тверской школе
филологической герменевтики для анализа смыслообразующей рефлексии. По
Г.И. Богину, это «интенциональные сущности», т.е. наиболее дробные
идеальные образования, способные формировать смыслы как системы [Богин
1993: 10–11].
Понятием «ноэма» пользуются при анализе рефлексивных усилий
читателя по пониманию текста. Однако, на наш взгляд, не только возможно, но
и необходимо применять подобные «идеальные» конструкции как для
декодирования, так и для анализа смыслопорождения, построения новых
деривационных моделей на любом уровне языка, т.к. понимание трактуется как
процесс, повторяющий, по сути, порождение: реципиент должен пройти тем же
путём, что и продуцент. Порождение и декодирование целостной структуры
высказывания зиждется на понятии «содержание», а оно являет собой некий
набор предикаций в рамках пропозиционных структур. Сами предикации уже
состоят из языковых единиц, которым присущи лексические и грамматические
значения,
а
конфигурация
кроющаяся
между
связей
(ситуации
множеством
компонентов
мыследеятельности
и
ситуации
ситуации
коммуникативной) и есть смысл, который, в свою очередь, представляет собой
многокомпонентную иерархическую структуру, реализованную не только
109
линейно в тексте, но и парадигматически в виде многоуровневых связей в
языке и посредством бесконечного множества аллюзивных соответствий.
Данная структура эзотерична.
Смыслообразование
интуитивную
и
декодирование
рефлексивную
деятельность
имеют
и
в
качестве
основы
интенциальность.
Любые
регистрируемые в конкретной языковой единице ноэматические изменения
(мельчайшие нюансы смысла в различных контекстах) свидетельствуют о
рефлексивных мыследеятельностных актах разного уровня абстракции. Однако
в данном случае мы говорим именно о лингвистическом, а не о
культурологическом анализе. Смыслы, принадлежащие уровню мышления,
вербализуются посредством ноэм и в подобном опосредованном качестве могут
быть доступны лингвистическому анализу.
Ноэматическая структура языковой единицы может быть зафиксирована
и строго описана в виде отражения осуществляемых в поясе чистого мышления
рефлексивных мыследеятельностных актов разного уровня абстракции, а
ноэматическая структура некоторого абстрактного понятия может быть
описана как образованная ноэмами преимущественно слоя Мышления или же в
равной мере ноэмами слоя Мысли-коммуникации и слоя Мышления.
Ноэматический анализ распределения архетипических элементов по
поясам
МД
(в
данном
случае
ноэма
будет
выступать
в
качестве
вербализованного или имплицитного продукта рефлексивного мышления) дает
возможность учитывать и диалектический, лингвокультурный, универсальный
статус той или иной языковой единицы с опорой на ноэматику.
Как было указано в предыдущем параграфе, при фиксации рефлексии в
поясе мыследействования (МД) репрезентацию и реализацию находят
словарные значения с привлечением эмоциональной сферы о-сознания и
понимания. А в поясе мысле-коммуникации (МК) задействуется понятие в
определенном ближайшем контексте. Вследствие данной процедуры может
происходить переосмысление понятия и введение в его смысловую структуру
110
дополнительных
коннотаций.
В
результате
вербализованное
понятие
приобретает характеристику в концептуально-валерной системе и т.д.
Особенностью пояса М-К являются ноэматические сдвиги за счет
приписывания понятию «необычных» характеристик. Так, при реализации
понятия «die Muttersprache» в поясе М-К мы обнаруживаем сравнение
«немецкого
языка»
с
«женщиной»:
«матерью»,
«женой»,
«любимой».
Например:
Ich gebe zu, dass mein Verhältnis zur deutschen Sprache wie mein Verhältnis
zu meiner Frau ist: Ich liebe sie, ich bewundere sie, ich verstehe sie meistens, aber
ich beherrsche sie nicht – Я сознаюсь, что мое отношение к немецкому языку
такое же, как и к моей жене: я люблю ее, я ею восхищаюсь, я в большинстве
случаев ее понимаю, но я ей не хозяин (Blix).
В поясе чистого мышления (М) происходит выражение базовых
лингвокультурных смыслов и идей чистого мышления, обсуждается суть
смысла понятия. Как мы уже неоднократно указывали выше, в поясе чистого
мышления осуществляется обсуждение базовых ноэматических характеристик
слова. Например, в случае слова die Sprache в немецкой языковой картине мира
рассматриваемый пояс оказался достаточно заполненным. М. Хайдеггер
выводит формулу, которая, как путеводная мысль, должна привести к сущности
этого понятия:
Die Sprache als die Sprache zur Sprache bringen [Heidegger 1959: 242] –
дать слово языку как именно языку.
При
рассмотрении
возможностей
смыслопорождения
в
концепте
главенствующим является тот факт, что значение состоит из означенного
набора сем, смысл – из интенционально релевантных ноэм.
При образовании новых понятий и их концептуализации продуцент
прибегает к построению окказионализмов на основе данного ему изначально
набора онтологических картин (фоновых знаний – ноэм-культурных основ).
Однако используются также ноэмы другого вида, действующие именно в том
виде дискурса, где они представляют собой «интенциональные сущности», т.е.
111
наиболее дробные идеальные образования, способные формировать смыслы как
системы,
называемые
периферийными
ноэмами.
В
этих
системах
осуществляется внутренняя согласованность устойчивого ядра смысла, однако,
как мы увидим ниже, ядро отнюдь не является центром (структура смысла как
естественной сложной самоорганизующейся системы нейтрализуется тем
понятием центра, к которому мы привыкли). Каждый вид ноэм возникает
благодаря интенциональности актов сознания, т.е. их способности указывать на
онтологический конструкт, «душу» автора.
В нашей диссертации мы обращаемся к анализу смыслов слов как
некоторых идеальных образований, стоящих за вербализованными структурами
(фиксации рефлексии) понятий «Dasein/In-der-Welt-sein», «Бытие/Вот-бытие»
и«
/
» (сейдзон/сондзай).
В процессе смыслопорождения при образовании философских концептов
на первый план выступают периферийные концепты, а именно окказиональные
деривационные модели и интенция автора. Его личностные смыслы являются
базовой
конструкцией, на различных
уровнях
которой
и размещены
доминантные, культурные и контекстуальные смыслы.
Движение смысла при образовании и функционировании философского
концепта происходит, как это ни парадоксально (в отличие от других типов
номинации), не от образа к идее, а, наоборот, от априорно заданного
«доопытным путем» концепта к непосредственному опыту восприятия
перцепта.
Выявление ноэм предполагает следующие действия и составляет
следующую структурную иерархию:
1) ноэма как основа, которая указывает на некоторые базовые
архетипические смыслы в различных лингвокультурах, являющие собой
общность смыслопорождения в поясе чистого Мышления;
2) обширный ряд ноэм-доминант, воспроизводящих стереотипы и
константы определённой лингвокультуры, которые составляют как общие для
разноструктурных
языков
ноэмы,
что
иллюстрирует
принципиальную
112
общность способов вербального освоения мира различающимися культурами,
так
и
специфичные
ноэмы,
характеризующие
самобытность
смыслообразования и специфику менталитета лингвокультурных сообществ;
3) некоторое количество периферийных ноэм, устойчивых тематических
направлений
развертывания
ноэм-доминант,
которое
в
различающихся
лингвокультурах остаётся открытым, прежде всего в связи с непрерывностью
порождения и декодирования смыслов в ряду аллюзивных понятий и
неограниченных возможностей языка к порождению вторичных образных
номинаций [Милованова 2005: 166].
Отдельные исследователи говорят об отсутствии таксономии смыслов,
подчеркивая, что само смыслообразование ошибочно трактуется таким
образом,
как
будто
оно
происходит
без
рефлексии.
Соотнесение
воспринимаемого с прежним жизненным и читательским опытом ими иногда
признается,
но
лишь
как
промежуточная
операция,
тогда
как
смыслообразование имеет в качестве основы именно рефлексию и интенцию, и
к
действительным
смыслам
может
выводить
только
действительная
интенциональность. Но, на наш взгляд, таксономия смысла представлена в
самой иерархической ноэматической структуре семы, и если минимальный
таксон системы имеет иерархическую структуру, то закономерно, что любая
структура
как
состоящая
классифицированных
из
иерархически
и
определённым
систематизированных
образом
элементов
сложноорганизованных областей также имманентно содержит ключ к
пониманию
таксономии
элементов.
Однако
не
следует
осуществлять
таксономию с примитивной систематикой: если систематика имеет дело с
реальными группами элементов – таксонами, то таксономия в нашем
понимании занимается прежде всего разработкой и анализом таксономических
категорий и такой их системы, которая позволяла бы построить наиболее
информативную, непротиворечивую и удобную классификацию, максимально
близко воспроизводящую естественную систему языка.
113
Структура в настоящее время ориентируется чаще всего на описание
элементов и связей любого построения, в том числе и структура смысла
нейтрализуется центром, не только ориентированным на поиски организации,
но и усматривающим свою цель в ограничении игры структуры [Марков 2001:
135] (закономерной мутации любой иерархической естественной системы), в
возможности для каждого нового прочтения – смыслопорождения или
смыслодекодирования – выделить в качестве центрального компонента новую,
не всегда ядерную, а иногда даже не находящуюся внутри данной структуры
ноэму). Центр обеспечивает когерентность системы, исчерпывая игру
структуры и определяя тотальность формы, что полностью уничтожает
возможность
«безграничного»
(на
грани
и
вне
границ
языка)
смыслопорождения. Пример подобного порождения можно наблюдать у М.
Хайдеггера.
Хайдеггеровский
проект
Х.
Г.
Гадамер
называет
«герменевтической феноменологией». По сути, центрального компонента в нем
нет и его быть не может, ведь его нельзя представить в виде пустоты (пустота
ничего структурировать не может: в невесомости жидкость притягивается к
стенкам сосуда, а не к его центру), центр не занимает никакого места –
локализация не есть его характеристика, он лишь представляет из себя
функцию, некий феномен, свойство которого в том, чтобы предполагать и
обусловливать бесконечный обмен и движение ноэм в иерархической структуре
смысла. Вследствие отсутствия жёсткого центра иерархической структуры
любой языковой единицы, вне какой-либо принятой системы невозможно будет
установить значение, которое также не будет являться константой. А
отсутствие
мыслимой
константы
расширяет
сферу
порождения
и
декодирования в различных ситуациях семиозиса до бесконечности и
предполагает новый методологический подход к любму типу дискурса, вне
зависимости от его направленности.
Достаточно спорным для нас является вопрос о реальном существовании
в едином хронотопе всех структурированных ноэм, как это было бы в ситуации
бифуркации, при допущении множественности и одновременности всех шести
114
хронотопов, потенциально реализованных в тексте. Вполне возможна лишь их
парадигматическая виртуальная потенция и реальная актуализация при
вербализации,
но
тогда
многомерности
и
представляется,
всегда),
достаточно
многоуровневости
ведь
спорным
смысла
онтологические
будет
утверждение
(наличествующего,
картины
о
как
неисчерпаемы,
количество возможных ноэм неисчерпаемо, иерархическая структура уходит в
бесконечность.
А
естественные
системы
великолепно
описываются
в
феноменологическом модусе.
В работе мы приводим анализ примеров из японской лингвокультуры, по
той причине, что именно «герменевтическое» по своей сути мышление
иероглифических лингвокультур облегчает разъяснение и схематизацию
отдельных квантов смысла в той или иной единице.
В своей работе «Предельные понятия в Западной и Восточной
лингвокультурах» Т. Н. Снитко делает вывод, что все особенности японской
лингвокультуры (отсутствие инфинитива, а следовательно, и способа передачи
абстрактной идеи, неопределенной ситуации, отношения и т.д.; отсутствие
продуктивного способа образования абстрактных имен от глагола и от
прилагательных) объясняются ее устройством по типу Понимания [Снитко
1999]. «Мышление» такой культуры есть «Понимание», а задачей культуры
Понимания является прежде всего выработка средств понимания, а не
абстрактных понятий, как это наблюдается в «познающем мышлении»
западной лингвокультуры. В качестве средств Понимания, благодаря их
особым семантическим потенциям, в восточной лингвокультуре выступают
иероглифы. Подобный подход нами воспринимается как чистая герменевтика.
Но и он противоречит западной лингвокультуре «познающего мышления», по
сути, и когнитивистике с её ориентацией на когнитивные структуры. Самым
интересным является то, что герменевтика и её методологический материал не
были созданы в восточной лингвокультуре (понимающее мышление о
понимании – это для Востока нонсенс), в западной мысли созданы и разделены
когнитивистика и герменевтика.
115
Объективно рассматривать дискурс можно в поясе МК, именно на этом
уровне нам представлены тексты. Работа над текстами (прототекстами,
текстами самими по себе и метатекстами) отражает субстанциональную
сторону – поле науки, т.е. то, с чем лингвистика, казалось бы, уже
распрощалась и что осталось лишь в структурализме и в генеративистике.
Рефлексия, зафиксированная именно в этом поясе, иррадиирует и на два
остальных
пояса,
поэтому
в
широком
смысле
можно
говорить
о
смыслообразующих средствах как средствах пробуждения рефлексии вообще –
Р/{(мД+(М-К)+М}.
Подобное рассмотрение и определение смысло- и текстообразующих
средств
особенно
важно:
именно
благодаря
способности
пробуждать
рефлексию вообще ноэмные структуры смыслопорождения/декодирования
могут пробудить рефлексию, фиксирующуюся не только в поясе мысликоммуникации (Р/М-К), но и в поясе мыследействования (Р/мД), и в поясе
чистого мышления (Р/М). Это позволяет реципиенту восстанавливать на этом
основании как ситуацию мыследействования, так и ситуацию чистого
мышления продуцента, т.е. распредмечивать средства смыслопостроения и тем
самым выходить к усмотрению живой способности смыслообразования у
продуцента.
Наш подход можно назвать «филологической феноменологической
герменевтикой», в которой разрушаются стены между познающим и
понимающим,
а
метаязык
данного
подхода
может
претендовать
на
универсальный онтологический статус.
2.5.
Феноменологическая рефлексия как основа понимания
многомерного смысла
Герменевтический акт понимания смысла, в частности многомерного
смысла философского дискурса, является иерархически структурированным
сложным процессом, в котором, однако, не может быть устоявшихся,
закрепленных
«схем
действования»
действования»
оказываются
не
[Богин
работающими
1986].
в
Точнее,
«схемы
большинстве
случаев
116
интерпретации философского дискурса. При восприятии и интерпретации
многомерного смысла герменевтическое понимание является единственным
способом распредмечивания и введения в когнитивную сферу смыслов
философского дискурса, реципиент идет тем же путем порождения, что и
продуцент текста, если же акты восприятия оказываются нетождественными
актам творения, возникает коммуникативный диссонанс – непонимание или
неверное толкование. В большинстве своем в реальности продуцент не
прибегает к феноменологической рефлексии для порождения многомерного
смысла в обыденном высказывании, но и реципиент не нуждается в
герменевтическом акте
интуитивное
интерпретации
ноэматическое
текста.
Продуценту необходимо
смыслопорождение,
тогда
как
реципиент
довольствуется когнитивным распредмечивающим пониманием, для которого
семантизация – лишь момент практики, существующей в снятом виде [там же].
В работе «Иерархическая ноэматическая суперструктура vs. фрейм в
смыслопорождении
концептуальных
понятий»
мы
уже
отмечали
невозможность применения фреймовых структур понимания [Бредихин 2013].
В отношении этих структур А. С. Богомолов писал: «Кроме уже имеющихся
источников узуальных деривационных смысловых моделей, строящихся на базе
ноэматической рефлексии, <…> при порождении нового терминологического
аппарата или переосмыслении уже имеющегося появляются окказиональные
дериваты и это настоящее, свободное смыслопорождение на третьем уровне
абстракции» [Богомолов 1982: 142]. Применение фреймовых схем полностью
нивелирует все константы смыслопорождения, кроме субъективности: эта
константа не позволяет воспринимать действительный смысл и выступает в
роли
безапелляционного
нормоконтролера,
являющегося
единственным
смыслообразующим началом. По мнению Г. И. Богина, этот подход открывает
дверь в современный агерменевтизм [Богин 1982].
Термин «схемы понимания» не отражает суть структурных моделей
герменевтических
развертывания
актов,
рецепции
которые
текста,
являются
эти
действиями
рефлексивные
в
процессе
акты
обладают
117
процессуальностью,
а
не
результативностью.
Множество
иерархически
структурированных актов, одним из которых является понимание, включаются
в данный процесс. Именно такой подход и правильное освоение техник
интендирования, которые существенно улучшают и рационализируют действия
реципиента по восприятию и интерпретации глубинных структур текста,
является ключевым аспектом смыслопорождения.
В процессе герменевтического понимания происходит распредмечивание
и опредмечивание множества элементарных ноэмных квантов внутреннего
содержания текста, которые возможны по причине сходных операций
продуцента по вербализации многомерных смыслов. Действия реципиента
направлены не только на то, чтобы воспринимать, но и интерпретировать,
категоризировать данные узловые элементы суперструктуры смысла. При
феноменологической рефлексии над результатами этой категоризации мы
оперируем метасмыслами и метасредствами. Г. И. Богин определяет «схемы
действования» в процессе восприятия и понимания текста как «упорядоченные
наборы метасмыслов и метасредств, т.е. метаединиц» [Богин 1986: 27],
релевантных в процессах, связанных как с порождением, так и с рецепцией и
интерпретацией текста. Структурная иерархическая система может состоять
как из одной, так и из множества метаединиц в зависимости от набора
релевантных актуализируемых ноэм смыслового суперконструкта. Данные
метаединицы могут менять свое место в системе, так же, как и при
определенных
трансформациях
изменяется
суперструктура
смысла
(перераспределение ноэм-доминант, ноэм-культурных-основ и периферийных
ноэм); как смысл существует лишь в тексте, так и метаединицы систем
действования существуют лишь в динамике процессов их возникновения,
развертывания, обогащения, угасания и т.п. Это предполагает их зависимость
от
характера
мыследействования
(«трехслойка»
Г.
П.
Щедровицкого)
реципиента, а значит и само герменевтическое понимание и интерпретируемый
(личностный) смысл со всеми актуализируемыми ноэмами зависят от
названного характера.
118
«Схема
действования»
переживается,
ноэматической
осознается
усваивается
или
рефлексии.
реципиентом,
воспринимается
Причем
эмоционально
интуитивно
усвоение
данной
на
уровне
перцептивно-
интерпретативной модели происходит поэтапно, что связано, прежде всего, с
константами модальности и ситуативности. А. С. Богомолов описывает схему в
качестве «способа деятельности, состоящего в построении эмпирических
«образов» сообразно общему понятию» [Богомолов 1982: 159–151]. Однако
подобный подход действителен лишь для герменевтического понимания и
категоризации научного однозначного термина, в случае многомерного
структурированного смысла такое построение оказывается неработающим.
Ни категоризованное понимание, ни герменевтическое, идущее без
применения «правильных тактик интендирования» вне «схем действования», не
могут претендовать на правильность и универсальность, хотя это так
называемое
встречается.
«иллюзорное
Оно
понимание»
присутствует
в
[Богин
рамках
2001]
категории
достаточно
часто
субъективности,
собственных ассоциативных связей, не включающих в сферу рассмотрения
ноэмы-доминанты, ноэмы-культурные-основы. Допустим, при восприятии
некоторых
конструктов
М.
Хайдеггера
для
несведущего
в
тактиках
герменевтического понимания реципиента остаются скрытыми некоторые
узловые кванты суперструктуры, а значит, пассажи воспринимаются неверно:
Entwurf (набросок) или же Projekt (проект) относится в немецком к той же
группе слов, что и Skizze (набросок), Zeichnung (рисунок), Modell (модель), так
же сюда входит глагол entwerfen (набрасывать/проектировать). Хайдеггер же,
напротив, использовал глагол werfen (бросать) в различных комбинациях как,
например, Überwurf (переброс). Здесь он чувствует возможность образования
новых сложных слов: Der Entwurfcharakter des Verstehens besagt ferner, daß
dieses das, woraufhin es entwirft, die Möglichkeiten, selbst nicht thematisch erfaßt.
Solches Erfassen benimmt dem Entworfenen gerade seinen Möglichkeitscharakter,
zieht es herab zu einem gegebenen, gemeinten Bestand, während der Entwurf im
Werfen die Möglichkeit als Möglichkeit sich vorwirft und als solche sein läßt
119
[Heidegger 1967: 145]. – Набрасывающий характер понимания значит далее,
что оно само то, на что себя бросает, возможности не конципируют
тематически. Такое конципирование отнимет у наброска как раз его характер
возможности, снизит его до данного, подразумеваемого состава, тогда как
набросок в броске пред-брасывает себе возможности как возможности и как
таковым дает им быть.
Так же и veröffentichen (издавать), Veröffentlichung (издание) образуются
из базовых ноэм узуального понятия öffentich (публичный/открытый) и
факультативно употребляемого префикса ver и не имеют ничего общего с
publizieren (публиковать/издавать в печатном варианте), актуализирующимся
в узуальном конструкте. Die veröffentlichte Zeit hat als Zeit-zu... wesenhaft
Weltcharakter. Daher nennen wir die in der Zeitigung der Zeitlichkeit sich
veröffentlichende Zeit die Weltzeit [Ibidem].– О-публикованное время как времядля… имеет, по сути, характер мира. Потому мы называем публикуемое во
времени и временности время мировым временем. Такая интуитивная игра с
трансформациями суперструктуры смысла – только первый опыт подобного
смыслопорождения, который позже находит всё более широкое подтверждение.
Например: Andenken к новому транзитивному глаголу andenken. Dessen Anfang
immer noch auf ein Andenken wartet, die andenkende Nähe zum Fernen [Heidegger
1971: 107–108]. В данном случае мы наблюдаем дифракцию/переразложение
существующих узлов структуры многомерного смысла, которое базируется на
операциях с ядерными структурами в корневых морфемах и аффиксах.
Реципиент просто не может выйти на третий уровень абстракции (по причине
не владения верными тактиками интендирования): он просто не предполагает
возможного прочтения и интерпретации с учетом операций с узловыми
компонентами понятия, не видит возможности распредмечивания и повторного
опредмечивания содержания на луче феноменологической рефлексии. Однако
возникает слепая вера в полное понимание высказывания (ведь все слова
знакомы, и мы можем даже без особых потерь перевести данное высказывание),
в этом случае в результате цепной реакции и принципа аналогии реципиент
120
«понимает» дальнейший текст подобным образом, что возможно в бытовом
интуитивном ноэматическом понимании,
но не работает с текстами,
выстроенными на основе феноменологической рефлексии.
В описанном контексте интересно изучить и противоположный вид
рецепции на базе «трафаретных» схем, вероятно, интенциально заложенных
продуцентом текста. Они вербализованны с помощью метасредств тексто- и
смыслопостроения, как в примере с термином Lichtung, используемом
Хайдеггером всегда в своем изначальном, этимологическом смысле, и не
дающим внутритекстовой возможности его двоякого прочтения, а значит,
действующим как некий нормативный акт для когнитивных процессов
восприятия. Создание или мутация отношений объекта мыследеятельности с
актуализируемыми элементами структуры (на основании первоначального,
иногда этимологического перераспределения акцентов в суперконструкте
смысла) – повторная, но не вторичная номинация нового феномена на основе
изменения системы координат или точки отсчета, которая определяется
парадигмальным смещением в функциональности и прагматической адаптации
вербализации. Лексема Lichtung (прогалина/поляна) в немецком языке
относится к группе слов Wald (лес), Gehölz (роща/перелесок) и т.д. и, конечно, в
современном немецком языке его нельзя отнести к группе слов Licht (свет),
Hellichkeit (освещенность), хотя их этимологическое родство сразу же
бросается в глаза. Хайдеггер по-новому образует это слово от глагола lichten
(светить) как anslichttreten (высвечивать), offenbarwerden (раскрывать). И в
большинстве его работ это слово связывается с Sein, даже таким образом, что
Хайдеггер говорит о Lichtensgeschichte des Seins (история высвечивания
бытия).
Противоположными
ему
понятиями
выступают
Verdeckung
(затемнение/маскировка), Verhüllung (сокрытие). Однако в «Бытии и Времени»
Lichtung (освещение/прояснение) относится к структуре человеческого бытия.
Позже, в «Бытии и Времени», Хайдеггер использует не Lichtung, а Gelichtetheit
(абстрактное качество проясненности / результат процесса прояснения), где
мы видим употребление абстрактных существительных на -heit.
121
И уже независимо от репрезентации нормопонимания в когнитивных
структурах он автоматически действует в качестве стереотипа и ложится в
основу любого понимания текста реципиентом, даже там, где он уже не
действует. Все это побуждает реципиента применять феноменологическую
рефлексию над каждым из метасмыслов, опредмеченных и вербализованных в
разных текстовых формах и единицах.
При
использовании
верных
тактик
интендирования
в
структуре
усматриваются не только смыслы и их узловые элементы (ноэматические
узлы), но и средства вербализации, интегрируемые в метаединицы. «Схема
действования развивается, развертывается, но не теряет при этом уже
введенных метасмыслов, освоенных нормативов» [Богин 1993: 6]. Приращение
и
перераспределение
смыслов
и
метасмыслов
длится
в
процессе
герменевтического понимания текста реципиентом, применяющим «схемы
понимания». «Схемы понимания» имеют в качестве элементов метаединицы, в
то время как метаединицы состоят из форм и элементарных узловых квантов
смысла. Именно подобная иерархическая модель четко структурирует стадии
понимания, нормализует герменевтический процесс, превращает его в
активный смыслотворческий процесс. Стандартная процедурность исчезает, и
возникает рефлексия на третьем уровне абстракции, привлекающая все
константы модальности, интенциальности и субъективности, а также анализ
ноэмной структуры смысла в иерархии ноэм-доминант, ноэм-культурных-основ
и периферийных ноэм.
Применение герменевтического понимания по «схемам» структурирует и
позволяет прогнозировать процесс построения когнитивного распредмеченного
знания. Будучи репрезентированной в подобных конструктах, «трехслойка»
мыследействования связывается с объективной реальностью, вербализованной
в тексте [Pearson 1980: 71–88]. Рефлексивность в данном процессе доказывает
не изначальную данность «схем действования», а их развертывание и
порождение в процессе понимания. В «схемах действования» представлены все
122
типы понимания текста: семантизирующее, когнитивное, распредмечивающее и
т.д.
В первую очередь реципиент строит определенную «схему понимания»,
некоторая схема или схемы представляются в форме ряда метаединиц
действования,
которые
сами
являются
схемами
по
отношению
к
категоризуемым элементам структуры смысла. Таким образом, схема сама
представляет собой иерархическую структуру на базе факторов эстетического
восприятия и феноменологической рефлексии.
При
построении
адекватных
актов
интендирования
как
«схем
действования» в процессе герменевтического понимания «текст как бы
управляет процессом понимания: начиная с первых же осмысленных единиц
деления у индивида формируется установка, связанная с прогнозированием
дальнейшего содержания» [Бессознательное: природа, функции, методы
исследования. 1978: 99]. Организуется сам процесс понимания с помощью
различных уровней текстовой действительности: композиции, организации
фонемного построения, средств когезии и когерентности, вертикального
контекста, взаимосвязи сюжетных эпизодов. Вербализованная интенция
продуцента реализуется через средства текста, представляется реципиенту в
форме «соотношения кусков, их последовательности, сменяемости одного
куска другим» [Кулешов 1929: 16]. Сама форма текста является не менее
важным звеном в процессе понимания, чем интенция реципиента. В идеале
имеются
два
процесса
действования
герменевтического
понимания
–
смыслопорождение продуцента и смыслодекодирование реципиента, которые
имеют определенные стадии:
1) распредмечивание некоторого содержания, репрезентирующего
объективную реальность, продуцентом текста. Первый уровень абстракции,
порождение собственного смысла события или явления;
2) вербализация,
повторное
опредмечивание,
смысла
в
тексте
продуцентом – создание нового содержания, имманентно принадлежащего
тексту, но не объективной реальности – второй уровень абстракции;
123
3) усмотрение реципиентом формы текста, осознание определенных
тактик интендирования;
4) повторное распредмечивание многомерных смыслов реципиентом,
преобразование некоего вербализованного содержания в «смыслы-длясебя». На данном этапе усмотрение авторской интенции не является
обязательным, происходит вскрытие собственных для реципиента и общих
для лингвокультурной общности смыслов на третьем уровне абстракции,
данный процесс зависит от способа рефлексии реципиента;
5) избранный феноменологический или ноэматический тип рефлексии
фиксируется в сознании реципиента и является схемой для дальнейшего
прогнозирования, усмотрения и, главное, понимания смысла, в собственно
человеческом чувстве. На данной стадии обязательно следует понимание
интенциальных смыслов продуцента.
Процессы активного действования в рамках «трехслойки» Г. П.
Щедровицкого присущи при условии использования «схем» понимания, не
только продуценту текста, порождающему новый неузуальный многомерный
смысл, но и реципиенту, также действующему на третьем уровне абстракции.
Реципиент в данном конкретном случае при интерпретации философского
дискурса нуждается в четкой структурированности, а не в субъективной
произвольности процедур «схем понимания». Следует отметить, что задать
реальные правила герменевтического понимания и интерпретации, отхождение
от которых будет означать полное непонимание, невозможно. Однако можно
определить методологию феноменологической рефлексии, с помощью которой
реципиент будет активно взаимодействовать с текстом, а не останется
пассивным
наблюдателем
Схематические
содержаний,
характеристики
разворачивающихся
новообразованных
в
тексте.
суперконструктов
в
герменевтическом понимании обусловлены формой текста, типом рефлексии
продуцента и реципиента. Они санкционируют цели мыследеятельности,
связывающих их с актами интендирования, и других констант производства
многомерного смысла: модальности, ситуативности и трёх видов ноэм как
124
структурных единиц порождения речевого знака, восприятие смысла не как
константного образования, а как субъектно-ориентированного суперконструкта
релевантных кванторов актуализируемых в четырёх моделях хронотопа
(полихронотопность текста по А. И. Милостивой): 1) продуцент – реципиент, 2)
действующие лица порожденного текста между собой; 3) действующие лица
порожденного текста – реципиент, 4) продуцент – действующие лица
порожденного текста [Milostivaja 2010: 199], располагающихся на вертикальной
оси координат Прототекст – Текст – Метатекст, в которых репрезентируются
ноэмы – контекстными употреблениями, сопровождающимися развертыванием
новых смыслов. В целом при интерпретации и декодировании неузуального
многомерного иерархически структурированного смысла в философском
дискурсе функционируют два типа понимания – понимание герменевтическое,
являющееся отрефлектированным актом/процессом, но не результатом, и
понимание ноэматическое, являющееся нерефлектированным, интуитивным
процессом.
2.6.
Константы интенциальности, субъективности и модальности в
герменевтическом понимании смысла
Как известно, проблема понимания смысла текста является одной их
самых насущных в наше время. Человек живет в мире смыслов, ибо
объективная реальность дана нам только в преломлении через рефлексивную
реальность, а потому рефлексивная деятельность – как ноэматическая, так и
феноменологическая – является наиважнейшим способом действования в
производстве и интерпретации внутреннего содержания вербализованных
текстов. Ноэмы как узловые элементы смыслопорождения и возникающий при
их актуализации многомерный смысл воспринимаются и «осмысливаются»
только
при
использовании
феноменологической
рефлексии
в
ходе
распредмечивания вербализованных, бытующих в ткани текста единиц [Smith,
McIntyre 1982: §16]. Для актуализации ноэмы рефлексия должна быть
направлена вовнутрь или вовне, положение луча рефлексии может быть понято
125
как некая онтологическая конструкция, реальная категория того мира смыслов,
в котором существует конкретный реципиент или продуцент текста.
Для большей наглядности можно рассмотреть пример некоей идеальной
реальности
из
текстов
М.
Хайдеггера,
понятие
Dasein
(Вот-
бытие/Присутствие), которое было впервые употреблено в XVII веке в
качестве понятия, синонимичного к латинскому Existentia, одновременно с
Dasein в язык философии вошло понятие Sosein как Essentia. М. Хайдеггер
строит свой текст таким образом, что «осмысление» внутреннего содержания
данного конструкта реципиентом в полихронотопном пространстве является
основным критерием понимания всего произведения «Sein und Zeit», да и всей
его экзистенциальной философии в целом. Впервые Dasein у Хайдеггера
употребляется по большей части в традиционном значении как существование,
наличие чего-либо. Но уже в курсе лекций 1920 г. («Феноменология созерцания
и выражения») он пользуется данным понятием как бытующим в то время в
философском узусе неким ядром синонимического ряда (гиперсемой) к Leben,
разграничивая konkretes Dasein (конкретное существование) и aktuelles Dasein
(актуальное
существование).
Первые
попытки
осмыслить
Dasein
как
феноменологическую экспозицию человеческого бытия происходит в его
работе «Онтология. Герменевтика фактичности», где Хайдеггер показывает,
что тема языка есть ближайшая к основной теме философии: бытию [Heidegger
1967].
Разумеется, такие конструкции предоставляют широкие возможности для
интерпретации смысла, казалось бы, терминологического понятия, рождают
подозрения о каузальности и постоянном перетекании и неопределенности
смысла конструкта.
Однако при учете всех типов хронотопа ( 1) продуцент – реципиент, 2)
персонажи порожденного текста между собой, 3) персонажи порожденного
текста – реципиент, 4) продуцент – персонажи порожденного текста [Milostivaja
2010: 199]), располагающихся на вертикальной оси координат (Прототекст –
Текст
–
Метатекст
[Кузьмина
URL:
http://
www.
irlras-cfrl.rema.ru:
126
8101/publications/reports/perevod-2.htm]), в которых репрезентируются ноэмы, и
при
включении
констант
распредмечивания
этот
конкретный
смысл,
пронизывающий все творчество М. Хайдеггера («сущность существования»),
определен посредством вертикального контекста в самом широком смысле
(интер-
и
интралингвистически).
Во-первых,
потому,
что
константа
интенциальности продуцента прогнозирует герменевтическое понимание
именно в этом ключе. Во-вторых, потому, что подготовленный реципиент,
применяя свои фоновые знания, свою интенцию в интерпретации текста,
нуждается в подтверждении и находит его в дальнейшем употреблении этого
конструкта. Хотя «осознание» онтологических вопросов БЫТИЙНОСТИ
является одной из ключевых проблем философии, но свою лепту вносит и
константа ситуативности, где видны развитие смысла и актуализация
различных ноэм в разные периоды философии не только в целом, но и в
философствования Хайдеггера в частности. Актуализация узловых элементов
суперструктуры с построением нового неузуального смысла или метасмысла не
есть существование материального. Они усматриваются только в рефлексии, в
постоянной динамике, в «трехслойке» действования реципиента с текстом. Эти
смыслы могут проясняться только через самих себя, распредмечиваться не как
денотация объективной реальности, но как пропозиция рефлексивной
деятельности
реципиента
над
создающим
проблемы
в
понимании.
Суперконструкт <смысл> не дается априорно реципиенту. Он рассматривает в
конкретном контексте при применении к интерпретации и пониманию
филологической феноменологической герменевтики. Ноэма потому всегда
распредмечена мыследействованием. Интроспекция нормализует активность
герменевтического
понимания
уже
усмотренных
смыслов
и
помогает
иерархически структурировать действия в герменевтическом понимании.
Рефлексия не является предметной и осязаемой, она не ощутима в своей
процессуальности, но до тех пор, пока реципиент не наталкивается на
определенные
трудности
в
понимании
смысла,
пока
не
рождается
трансформация модификации/уточнения отношения актуализируемых квантов
127
к ситуации при неудачах в коммуникативном акте, а затем происходит
исправление их в результате феноменологической рефлексии. Проблема
восприятия и интерпретации возникает, когда реципиент в действительности
задумывается,
воспринимать
ли
это
Dasein
в
качестве
«сущности
существования» или же в качестве синонима «жизни», что зависит от
константы интенциальности и модальности продуцента в применении
трансформаций
повторного
распредмечивания
смысловых
структур
в
соответствии с концептуально-валерной системой продуцента/реципиента, что
имеет в своей основе константу модальности, интенциальной амфиболии
смысла, а также
способа определения валерности узловых квантов –
определения места элемента структуры в акте порождения личностного смысла,
что связывается с константой субъективности. Донормированное когнитивное
понимание в ненаправленном рефлексивном акте не позволяет «осмыслить» все
грани распредмечиваемого смысла, но когда у реципиента возникает
объективная необходимость, луч феноменологической рефлексии выступает в
качестве «всеобщей среды» герменевтического понимания, что привносит в
процесс
понимания
определенность,
иерархичность
и
обособленность
метаединиц. В данном случае мы рассматриваем весь сонм ключевых
характеристик как рефлексию, именно тогда ноэма и рефлексия проясняются
сами через себя: «мы сохраняем равенство вещи с самой собой и ее истину,
состоящие в том, что вещь есть «одно» [Гегель 1959: 65].
Структурирующая
рефлексия,
обеспечивающая
герменевтическое
понимание, не является спонтанным, не контролируемым психическим
процессом: она есть осознанное изменение наполнения онтологических картин
реципиента.
Феноменологическая
рефлексия,
задействует
константы
порождения и декодирования и представляет смысл и любой феномен не в его
первичном снятии с объективной реальности или текстовой действительности.
Она пробуждает константу фоновых знаний, привлекая константу модальности.
С учетом константы интенциальности и субъективности продуцента и
реципиента. Она работает в конкретных условиях семиозиса согласно
128
константе ситуативности, дает полную картину усматриваемого и затем
«осмысливаемого». Именно подобный вид рефлексии презентирует не только
процесс, но и «субстанцию понимания» [Богин 2001], пподводя к пониманию
многогранного смысла, а не только одного его измерения. Изначально
воспринятая сторона смысловой суперструктуры оказывается релевантной
лишь в парадигматической взаимосвязи с другими гранями смысла, а в качестве
распредмеченного – «узнанного» – она обретает сущностность и фиксируется,
освобождается от «аспектуальной случайности» [Гадамер 1988: 161]. Подобные
процессы, бесспорно, релевантны не только для реципиента, но и продуцента,
для любого представления в вербальном виде объективной реальности, в
каждом распредмечивающем понимании и вербализации. Как отмечает
Гуссерль относительно первичности восприятия смысла и феномена [Husserl
1973: 122–123], опыт восприятия и первичного осознания переходит в качестве
части фоновых знаний в пассивное состояние в рефлективной реальности. «При
пробуждении рефлексии опыт оживает и реализует горизонт (т.е. происходит
растягивание смысла), причем не так, как это случилось бы во времена
появления
опыта»
рефлективного
[Богин
поля
1993:
подвигает
10].
нас
к
Бессознательность
мысли
о
образования
рождении
процесса
смыслопорождения и смыслодекодирования на луче ноэматической рефлексии,
и, по сути, в негерменевтическом понимании так и происходит – это «горизонт
недетерминированной реальности» [Husserl 1995: §27], представляющий основу
обыденного понимания.
При рецепции некоего текста модификации, перераспределению узловых
элементов внутри структуры и растяжению подвергается неограниченное
количество смыслов, как бесконечен горизонт событий рефлексивной
реальности, так бесконечно и количество актуализаций ноэм, происходит
бесконечное
число
трансформаций
и
изменений
ранее
образованных
онтологических картин.
Формирование языковой личности, да и личности социальной зависит от
возможностей конкретного индивида в аспекте смыслообразования при
129
применении рефлексивных актов в оперировании с текстами и объективной
реальностью, «осмысливания» и перераспределения ноэм, модификаций,
перераспределений и растягивания смысла, процесса категоризации и
концептуализации и превращения данного смысла в метасмысл. В нашей статье
«Феноменологическая рефлексия как основа понимания многомерного смысла»
мы подробно останавливались на некоторых единицах текста, названных Г. И.
Богиным
метасмыслами,
метаединицами,
конституирующими
«схемы
действия» при герменевтическом понимании [Бредихин 2013: 35; см. также
Богин 1993].
Образование и закрепление «схем понимания», развертывание смысла в
направлении от узловых актуализированных ноэм к общим смыслам, а затем
метасмыслам проходит с той же скоростью, с какой воспринимается текст (вне
зависимости от формы репрезентации – звуковой или письменной); это особая
опредмечивающая смысл форма конкретизации – от абстракции третьего
уровня к «материальной», помысливаемой предметности мышления. Однако
назвать эту форму полным, герменевтическим пониманием нельзя, отчасти
потому, что высвечиваются не все грани смысла, и схемы действования
получаются неполными, не достигается прогностический эффекта. В отдельных
случаях прогнозирование определяется по жесткой модели, где нет места
процессу творчества в смыслопорождении. Но более высокий уровень
понимания – герменевтический, на луче феноменологической рефлексии –
основывается на рефлективной реальности и на опыте каждого конкретного
индивида, ибо индивидуальная картина мира есть обретение этого опыта,
познание мира, а эмоциональное переживание реальности – у каждого свое. А
значит, и «обретение способности понимать» движется у каждого реципиента
по своему неповторимому пути, лишь общие модели и сходные «схемы
действования» дают возможность подойти к процессам смыслопорождения с
позиций универсальности, вот где и проявляются константы понимания,
которые, однако, не исключают нормированности восприятия, точнее, его
иерархической структурированности, позволяющей продуценту и реципиенту
130
понимать друг друга.
Подобную дуальность на примере организационных
структур сознания показал Н. Г. Алексеев: «Организованности сознания в
отношении друг к другу могут выступать и как противоречивые, и как
взаимодополняющие, совместимые и несовместные, зависимые и независимые,
в самых различных типах обусловливания и т.д. и т.п. – и все это в одном,
произвольно взятом, индивидуальном сознании. <...> Сознание выступает как
организованное и неорганизованное одновременно» [Алексеев 1991: 6]. Надо
отметить,
что
и
субъективность,
интенциональность,
модальность,
ситуативность и т.п. могут быть органично включены в «схемы понимания».
Рефлексия феноменологическая, как мы уже упоминали, организует
понимание. Именно благодаря этой организации существует направленность
луча рефлексии вовне, что создает базу интенциальности. Последняя
актуализирует, порождающет и связывает ноэмы в узловых структурах
прототипических ситуаций, а также рождает многогранные смыслы, которые
строятся при интенциальном взаимодействии с текстовыми средствами. У
реципиента
же
феноменологическая
рефлексия
уже
над
средствами,
создающими ткань текста, становится смыслообразующей.
Многогранность и многомерность смысловых конструктов, порождаемая
многомерностью онтологических картин, повторяет структуру сознания.
Возможны два варианта закрепления отрефлектированного смысла в сознании:
предметно-денотативное
и
пропозиционально-референциальное.
Именно
второй путь запечатления смысла выстраивает рефлективную реальность
согласно актам интендирования. В первом же варианте происходит построение
базы аллюзивности и ассоциативности, но никак не рефлексии. Только во
втором
случае
продуцент
и
реципиент
получают
возможность
смыслопорождения на основе повторения пути по оперированию тем или иным
набором иерархически структурированных релевантных ноэм, обращаясь к
приемам вербализации смысла, на базе константы интенциальности.
В базу, структурирующую и формирующую рефлективную реальность,
входят, наряду со средствами текстопостроения, т.е. рефлексией, фиксируемой
131
в поясе Мыслекоммуникации, общие пропозициональные представления –
рефлексия, фиксируемая в поясе Мыследействования, а также фоновые знания,
образующие
отдельную
константу
смыслопорождения
–
рефлексия
фиксируемая в поясе чистого мышления.
Из вышесказанного следует вывод о том, что объект акта интендирования
в тексте является краеугольным камнем любого процесса порождения и
понимания, а значит, процесс рефлексии над ним и процесс его поиска и есть
создание смысла в дискурсе, или же понимание этого смысла. В данном случае
уже от продуцента зависит выбор оптимальных стратегий порождения
рефлексивных актов у реципиента, возможность дать ему с помощью
определенных маркеров нужные «схемы действования», снабдить умением
применять правильные акты интендирования, пробудить в нем способность к
герменевтическому пониманию. Как порождение, так и декодирование смысла
текста есть процесс активный и динамический, пронизывающий всю
когнитивную сферу.
Выводы по второй главе
Рассмотрение возможности различных подходов и легитимность их
применения в анализе структуры смысла, вербализованного в философском
дискурсе позволяет сделать следующие выводы:
1.
При описании состояния, возможности и особенности ментальных
конструктов, вербализующихся в философском дискурсе, нивелируются сами
условия их существования. Именно поэтому их бытие есть бытие-к-смерти, и
в этом смысле они уже не существуют в ситуации, в их применении, для
работы с работающим со-знанием мы применяем анализ только в отношении
функционирования в метаязыке, в применении к пониманию/по-мысливанию
ментальных конструктов. Только так исследователь должен работать с любым
феноменом или фактом, маркированным сознанием, рассматриваемым сквозь
призму человека. Это, по сути, есть подход к решению любой проблемы
философствования, ведь действование как продуцента, так и реципиента
метальных конструктов лежит в стратегиях картезианского дискурса. Любые
132
тексты,
порождаемые
в
процессе
мыследеятельности,
могут
быть
проанализированы и раскрыты общим свойством той сферы по-знания, для
понимания/по-знания которой и создается метатеория. Это общее свойство
является не воспринимаемым и не анализируемым лишь в теории. Специфика
кроется в том, что они есть некоторые невозможные возможности и
существуют априорно и апостериорно, а значит, и его по-мысливание, описание
будет происходить в понятиях метаязыка и метатеории. Некий метаязык в
данном случае оказывается не просто языком описания различных феноменов,
но и сам служит средством экспериментирования, порождения как смыслов, так
и знания, и процессов о-сознания и по-знания.
2.
Языковые выражения для базовых категорий философского
дискурса играют особую роль в языковых таксономиях. На базовом уровне
расположено большинство категориальных признаков с большим значением
для декодирования и распредмечивания ядерных ноэм, поэтому именно
базовый
уровень
особенно
значим
для
образования
прототипов.
Функциональный приоритет доминантных ноэм и ноэм-культурных-основ в
ядерной зоне смысла заставляет как продуцента так и реципиента при
категоризации того или иного понятия, релевантного для понимания смысла
всего текста или же закрепления конструкта именно в конкретном значении,
прибегать к феноменологической рефлексии над компонентами смысла. Однако
при актуализации периферийных ноэм личностного смысла и применении
трансформаций
суперструктуры
продуцент
в
угоду
неузуальности
и
многомерности смысла может нивелировать закрепленные категориальные
признаки и сосредоточивать свое внимание и внимание реципиента на
релевантных в конкретной ситуации семиозиса признаках.
3.
Фиксация рефлексии в одном из поясов мыследеятельности с одной
стороны является главным условием формирования иерархической структуры
смысла, с другой – именно рефлексия определяет позицию в иерархии и статус
той или иной структурной единицы, порождающей текстовое пространство.
Наша задача при исследовании данной проблемы заключается в том, чтобы
133
представить анализируемые тексты как опредмеченную рефлексию (фиксацию
рефлексии) над содержащимися в них философскими понятиями. При этом
изучение смыслов, которыми обрастают понятия в зависимости от того, в каком
поясе мыследеятельности осуществляется относительно них мышление,–
является не менее важным.
Анализ и определение смысло- и текстообразующих средств в
4.
различных поясах мыследеятельности позволяет расширить границы помысливаемого: именно благодаря способности пробуждать рефлексию вообще,
ноэмные
структуры
смыслопорождения/декодирования
могут
пробудить
рефлексию, фиксирующуюся не только в поясе мысли-коммуникации, но и в
поясе мыследействования, и в поясе чистого мышления. Это позволяет
реципиенту
восстанавливать
на
этом
основании
как
ситуацию
мыследействования, так и ситуацию чистого мышления продуцента, т.е.
распредмечивать средства смыслопостроения и тем самым выходить к
усмотрению живой способности смыслообразования у продуцента.
5.
Как при порождении, так и при интерпретации и декодировании
неузуального многомерного иерархически структурированного смысла в
философском дискурсе мы имеем дело с двумя типами понимания –
пониманием
герменевтическим,
актом/процессом,
но
не
являющимся
результатом,
и
отрефлектированным
пониманием
ноэматическим,
являющимся нерефлектированным, интуитивным процессом.
6.
Объект акта интендирования в тексте является краеугольным
камнем любого процесса порождения и понимания, а значит, процесс
рефлексии над ним и процесс его поиска и есть создание смысла в дискурсе или
же понимания этого смысла, он дает нам право на применение особых
подходов к анализу. Именно от продуцента зависит выбор оптимальных
стратегий порождения рефлексивных актов у реципиента, возможность дать
ему с помощью определенных маркеров нужные «схемы действования»,
снабдить умением применять правильные акты интендирования, пробудить в
нем способность к герменевтическому пониманию. Как порождение, так и
134
декодирование смысла текста есть процесс активный и динамический,
пронизывающий всю когнитивную сферу.
7.
нашего
Мы определяем подход, наиболее полно отвечающий задачам
исследования,
как
«филологическую
феноменологическую
герменевтику», разрушая стены между познающим и понимающим, давая
метаязыку данного подхода возможность претендовать на универсальный
онтологический статус.
135
ГЛАВА I. Общие принципы смыслопорождения в философском дискурсе
3.1.
Морфосинтаксическая иерархия значения, структура предикации
Проблема семантической значимости и природы лексического значения
теснейшим образом связана с теорией реализации аргумента, которая
основываются на представлении о важности сохранения принципов реализации
аргумента
в
утверждении,
реализациями
где
морфосинтаксические
соаргументов
глагола
различия
определены
между
значимостью
морфосинтаксической иерархии. Она, как известно, предполагает отражение
относительной семантической значимости между соаргументами в основном
значении
предикативной
основы
предложения.
Часто
семантически
структурированные компоненты в различных теориях не даны объективно (как,
например, показывают активные дебаты J-P. Koenig и A. Davis в 2006 году)
[Koenig,
Davis
2006:
Структура
78].
определяется
на
основе
морфосинтаксической значимости отношений.
Если
бы
мы
рассматривали
не
значимость
отношений
между
соаргументами, а значимость отношений между различными реализациями
единичного аргумента (то есть аргумента или косвенного чередования), мы
увидели
бы
интересный
набор
семантических
корреляций,
которые
предполагают определение объективного представления о семантической
значимости. В частности, можно предположить, что семантическая значимость
определяется в терминах импликационных отношений между тем, что означает
агент, когда он реализуется как прямой аргумент глагола, и тем, что он
означает, когда реализуется как косвенное чередование. Проанализировав
случаи в теории лексической семантики, в которых значение глагола состоит из
набора лексических импликаций, можно утверждать, что лексические
импликации состоят в импликационных отношениях, и на примерах этих
импликационных
отношений
можно
объяснить
отличия,
которые
усматриваются в разных видах аргумента, а также косвенных чередований. То,
что лексические импликации основаны на интерпретации, которые независимо
вступают в импликационные отношения, дает нам основания объективно
136
определить импликационное представление семантической значимости для
аргумента и косвенного чередования.
Мы рассматриваем два общих свойства чередования аргумента и
косвенного чередования и то, что должно быть зафиксировано в любой теории
реализации аргумента:
- импликационные различия: варианты прямого аргумента заключают в
себе дополнительные свойства чередования, не подразумеваемого
косвенными вариантами;
- зависимость от предиката: различие, продемонстрированное данным
предикатом в конкретном чередовании зависит, как правило, от
предиката.
Теория вида, которая, как предполагается, «схватывает» эти два свойства
естественным путем, вскрывает импликационное различие и свойства
зависимости от предиката. Это вытекает из импликационной структуры,
которой свойственны лексические импликации, включающие в себя значение
глагола. Свойства импликационных различий определены фактом наличия при
нципа морфосинтаксической организации, который неотъемлемо базируется на
минимальных
различиях
самостоятельно
в
определены
лексико-тематических
импликационными
ролях.
Последние
отношениями
среди
лексических импликаций. Свойства зависимости построения высказывания от
предиката обусловлены тем, что высоко идиосинкретические различия
чередований присущи особому глаголу, определенному как специфический
глагол лексических импликаций. Они подразумевают более общие лексические
импликации,
словами,
важные
для
иерархическая
морфосинтаксической
структура
организации.
Другими
импликаций,
которые
лексических
включают значение глагола (a), связывает лексико-тематическую роль
лексических
импликаций
с
другой
лексико-тематической
ролью
этих
лексических импликаций, а также (b) связывает специфический глагол с ноэмой
лексических
импликаций
с
лексико-тематической
ролью
лексических
137
импликаций, которые предсказывают импликационные различия и свойства
зависимости от предиката.
Большинство предыдущих подходов были не в состоянии описать
достаточную
богатую
семантику
или
достаточную
семантически
мотивированную связь между лексической семантикой и структурой аргумента,
чтобы рассматривать факты о чередовании аргумента или косвенного
чередования в достаточно общем направлении. Часто это связано с тем, что
большинство теорий реализации аргумента основано на структуре лексических
семантических
представлений,
а
не
на
значении,
присущем
этому
представлению, для того чтобы охватить соответствующие обобщения. Однако
мы можем также привести примеры, насколько понимание того, что лежит в
основе предыдущих теорий, в настоящем подходе к анализу структуры
лексического значения предиката может быть охвачено таким образом, чтобы
ничего не потерять. На основе этого подхода достигается лучшее понимание
прямого аргумента и косвенного различия. Однако некоторые сторонники
теории реализации аргумента обращались непосредственно к вопросу о том,
что по существу лежит в основе чередования аргумента или косвенного
чередования (за исключением Ф. Акермана и Дж. Мура (2001) [Ackerman,
Moore 1999]. Фактически только немногие обратились к диапазону данных,
которые были рассмотрены в недавних работах Дж.Т. Биверса [Beavers 2006].
По этой причине здесь мы вынуждены часто прибегать к экстраполяции того,
что лежит в основе чередования аргумента или косвенного чередования, для
данной теории, основанной на существующих исследованиях. Однако должно
быть ясно, какие из проблем были подняты в предыдущих теориях и какой из
подходов обращается непосредственно к этим проблемам.
Реализация аргумента формируется на основе атомарных тематических
ролей, таких как агент, пациент и инструмент, и учитывает принципы, которые
связывают эти роли предсказуемым способом, влияющим на выбор реализации
конкретного аргумента [Jackendoff 1996].
138
Последующая работа с тематическими ролями устанавливает дополнение
к ним, в котором ранжированы относительно друг друга. Например,
установление тематической иерархии роли позволяет нам переформулировать
правила [Bresnan, Kanerva 1989: 1–50].
Традиционные роли, например, агент или продуцент часто разделены в
иерархической структуре на более мелкие роли, так Круз в своих работах
идентифицирует четыре роли типа агента [Crouse 1973]; Ван Валин и Вилкинс
различают и идентифицируют отдельную роль спецификатора [Van Valin,
Wilkins 1996: 289–322]; инструменты, естественные силы и неодушевленные
продуценты окружены агентами, как описывает данные процессы в своих
работах ДеЛанси [DeLancey 1984].
Кроме того, морфосинтаксическая иерархия ролей часто произвольно
мотивирована как удобный путь для получения и анализа конкретных данных.
Морфосинтаксическая иерархия ролей располагается в определенном порядке.
Некоторый
вариант
агента
как
самая
верхняя
тематическая
роль
и
нижеуказанный агент имеют несоответствие роли в своём ноэмном составе. По
этой причине почти каждое возможное расположение большего количества
нетематических
ролей
агента
может
быть
универсальным.
Морфосинтаксическая иерархия тематических ролей различается двумя
свойствами
аргументированного/косвенного
чередования,
а
именно:
импликативной зависимостью контрактантов и сказуемого. Важными являются
импликативные
достаточной
контрактанты:
семантической
импликативных
контрастов
тематические
обособленностью,
роли
чтобы
не
обеспечиваются
показать
аргументированного/косвенного
наличие
чередования.
Подобное чередование в объектной позиции, по Ч. Дж. Филмору, определено
двумя различными путями в объектную позицию, где или позиция, или локатум
может стать объектом. Тем не менее, этот метод не описывает семантический
контраст, присущий чередованию, где какой угодно участник становится
объектом. Роль участника не изменяется в зависимости от реализации. Лучшим
методом можно назвать подход, при котором какой угодно участник является
139
объектом (позиция или локатум). Реализуя семантику, каждый участник имеет
прямое дополнение, косвенный участник воздействует, поскольку в общих
чертах позиции и локатум не должны подвергаться воздействию, даже если они
находятся в отношении чередования.
В настоящем параграфе мы исследуем основные свойства ноэматического
разложения предиката в свете теории реализации аргумента и некоторые
изменения этого подхода, предложенные в литературе в последнее время. Затем
мы возвратимся к проблемам, связанным с такими подходами, которые
охватывают импликационные различия и свойства зависимости от предиката.
Теории
разложения
предиката,
как
правило,
рассматривают
два
компонента значения глагола. Первый компонент – это модель события,
которая отражает структуру под-события этого события, созданного из
небольшого количества основных предикатов, которые представляют собой
различные под-события. Второй компонент – это некая первопричина,
связанная со специфическим глаголом, который обусловливает определенный
тип
события
и
отражает
общую
модель
события.
Первопричина
предусматривает один из двух типов особенного значения: способ реализации
события или определенный результат реализации структуры события. Образцы,
данные в примере (1), взяты из теории разложения Б. Левина и М. Раппапорта
Ховава.
(1) a. Dasein existiert in Sein-zum-Tode.
[изменение состояния x <IN-
SEIN-ZUM-TODE> ]
b. Die Sprache spricht, dass...
[x событие <SPRICHT> y ]
c. Die Sprache spricht mit klarem Sinne.
[[x
событие
<SPRICHT>
у
первопричина [изменение состояния y <KLARE SINNE>]]
В примере (1a) модель события полностью состоит из предиката,
имеющего базовую ноэму изменения состояния и указывающего на то, что
участник y изменяет структуру результата события (становится Бытием-ксмерти для глагола nicht-existieren/sterben). В примере (1b) предложение
соответствует событию ДЕЙСТВИЕ с двумя участниками x и y, несущее некую
140
первопричину SAGE, указывающую на то, что ДЕЙСТВИЕ – это событие – das
Sagen. В примере (1с), тот же самый предикат ДЕЙСТВИЯ служит первым
аргументом предиката ПРИЧИНЫ, чей второй аргумент
– предикат,
ИЗМЕНЯЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ, указывает на то, что участник y изменяет
структуру результата события (а именно, приобретает характеристику KLAR).
Предложение в примере (1с) состоит из того же самого события, что и в
примере (1b), а результаты изменения структуры события для участника y
соответствуют изменениям структуры в примере (1a) за исключением того, что
есть также под-событие причины. В соответствии с методом ноэматического
анализа положение каждого участника модели определяется реализацией
аргумента. В примере (1a) единственный участник представляет собой предмет
(не являющийся значимым в отношении декодировки). В примерах (1b) и (1c)
относительная значимость положения участников x и y в модели, в которой
участник x менее определён, чем участник y, показывающий, что участник x
представляет более значимую позицию, чем участник y, а специфический
актант x представляет собой продуцента, а участник y – объект.
Есть четыре ключевых момента для принятия подобного подхода к
пониманию структурно-семантических свойств предиката. 1). Он охватывает
структуру подсобытия конкретного события. Например, образец (1с) состоит из
двух под-событий, деятельность и изменение структуры, первый из которых
является причиной последнего. Структуры под-события, как видно, важны для
реализации аргумента; так, структура под-события определяет форму модели
события, которая, в свою очередь, определяет реализацию аргумента. 2). При
таком подходе можно ограничить возможные варианты моделей события,
предельно сократив набор основных семантических базисных элементов, на
основе которых построены более сложные структуры события. 3). Разложения
помогают
вербальному
аргументативные
выражению
потенции,
мысли
связавшись
получить
с
дополнительные
определенными
типами
семантических компонентов. При принятом нами ноэматическом подходе к
анализу структурно-семантических свойств предиката происходит встраивание
141
объектов, связанное с предикатами ПРИЧИНЫ: это всегда предполагает
наличие самого важного предиката в любом разложении, и, таким образом,
наименьший соположенный аргумент относительно предиката ПРИЧИНЫ
всегда будет самым значимым в разложении, соответственно, так выясняется
самый значимый вариант реализации, то есть предмет. 4). Данный подход
оправдывает разделение моделей события и первопричины, так, Б. Левин и М.
Раппапорт Ховав мотивируют это тем, что каждый компонент вовлечен в
различные аспекты реализации аргумента [Levin, Rappaport Hovav 2005: 75].
Модели события определяют важность отношений между соаргументами и
частично вовлечены в определение видовых классов, в то время как
первопричина определяет, какие модели события связаны с какими глаголами
[Levin, Rappaport Hovav 1998: 248–271], и, по крайней мере, частично
демонстрирует какие морфосинтаксические характеристики данных глаголов
могут быть задействованы в смыслопостроении.
Подобный подход переразложения семантических тематических ролей
являлся преобладающим в работах по реализации аргумента на протяжении
нескольких десятилетий. Чтобы привести пример в иллюстративных целях,
рассмотрим
лексическое
разложение
грамматики
Дитера
Вундерлиха
[Wunderlich 1997: 95–142]. Эта теория описывает разложение предиката,
построенного из парных предикатов, связанных с оператором, где два
предиката, связанные с оператором, должны быть связаны таким способом, при
котором под-событие, описанное предикатом слева от оператора, вызывает подсобытие, описанное предикатом справа от оператора. Это схематически
показано в примере (2a), а также в примере (2b) на примере немецкого слова
besprühen «обрызгать» [Wunderlich 1997: 36]. Каждый соаргумент в структуре
аргумента отмечен символом λ (несмотря на использование символа λ, для
того, чтобы отметить аргументы, он отнюдь не используется в некоем ряде λ):
(2) a. λx1...λxm. {P1&...&Pn}
b. besprühen: λzλyλxλs. {забрызганы (x, y) & изменяют состояние (локатум (y, at
(z)))}(s)
142
Порядок элементов в структуре аргумента определяется относительной
встроенностью
соаргументов
в
структуру
различных
предикатов
при
разложении. Встроенность каждого соаргумента в структуру аргумента
отличается двумя особенностями [+/-hr] (there is/is not a higher role) и [+/-lr]
(there is/is not a lower role). Например, один аргумент на основе
интранзитивных глаголов, два аргумента на основе транзитивных и три
аргумента – дитранзитивных, относящихся к обоим упомянутым выше видам,
имеют следующие особенности в структуре аргумента:
(8) Интранзитивный:
Транзитивный:
Дитранзитивный:
λx
λz
λy
λx
λx
λz
- hr
+hr -hr
+hr
+hr
- hr
-lr
-lr
-lr
+lr
+lr
+lr
Для единичного аргумента непереходного глагола нет тематических ролей
ни высшего, ни низшего порядка, для двух аргументов переходного глагола
есть и тематические роли высшего и низшего порядка соответственно, и для
трех
аргументов
дитранзитивного
глагола
дополнительно
есть
одна
тематическая роль среднего уровня, для которой есть роли более высшего и
низшего порядка. Аналогично устроены реализации структурных падежей,
например, именительный/абсолютив (в некоторых языках), винительный,
дательный, эргативный падежи отмечены теми же самыми особенностями, как
и в примере (3).
(9) [] Именительный/Абсолютив
[+lr] Эргативный
[+hr] Винительный
[+hr, +lr] Дательный
Таким образом, именительный падеж не маркирован, тогда как дательный
падеж больше всего акцентирован (существуют тематические роли любого
порядка, отмеченные двумя особенностями). Косвенные маркеры, с другой
стороны, имеют ноэматические особенности, которые, как предполагается,
более dsltktys, чем любые структурно-семантические особенности (например,
предлог into (в английском языке) имеет семантические особенности
143
[+М(естоположение), +Н(аправленность)]). Это связывает морфологическую и
дистрибутивную маркировку этих случаев:
(4)a. Nom/Abs<Acc, Erg<Dat<Oblique
b. [ ] < [+hr], [+lr] < [+hr,+lr] < [+semantic features]
Ограничения на участие в реализации точно определены совместимостью
особенностей реализации и положения аргумента в структуре аргумента
предиката. Например, комбинация структурных особенностей события и
структур аргумента предиката в сочетании с несколькими общими принципами
связи
определяет
канонические
модели
непереходных,
переходных
и
дипереходных глаголов в именительном и винительном падеже и абсолютивноэргативных языках:
(5)
Непереходный:
Nom/Acc:
Erg/Abs:
Переходный:
Дипереходный:
λx
λz
λx
λz
λy
λx
- hr
+hr
- hr
+hr
+hr - hr
-lr
-lr
+lr
-lr
+lr
NOM
ABS
ACC NOM
ABS ERG
+lr
ACC DAT NOM
ABS DAT ERG
Косвенные чередования представляют собой дополнения или могут быть
лексически определены глаголом, который учитывает их семантические
особенности. Например, немецкий глагол gehen «идти» приведен в примере (6).
Здесь глагол gehen учитывает [+loc, +dir] предикативный аргумент, который
ноэматически внедрён в косвенный маркер in.
(6)
in die Lage der Da-existieren gehen «войти в состояние здесь-
существования (со-существования)»
gehen: λP
λx {идти(x) &P (x)}
[+loc, +dir]
in die Lage der Da-existieren: [+dir]: λz. Изменение локации LOC (z, INT
(состояние))
Несмотря на то, что эта система сильно отличается от подхода Б. Левина и
М. Раппапорта Ховава, она также включает две особенности: (a) структура под-
144
события представлена в виде структуры разложения, и (б) реализация
аргумента
определена,
по
крайней
мере,
частично,
относительной
соположенностью аргументов в разложении.
Почти все подобные теории разложения осуществляются с вовлечением по
крайней мере двух этих свойств.
Хотя лишь несколько работ исследовали чередование аргумента или
косвенное
чередование
методологической
базы
как
систематический
по
разложению),
класс
можно
(это
ясно
сделать
из их
вывод,
что
чередование аргумента или косвенное чередование в значительной степени
зависит от многозначности переменного глагола, который связан с двумя
различными событиями-моделями, каждое из которых помещает переменного
участника на различном уровне соположенности, что приводит к изменениям в
их реализации. Следует заметить, что ни одна из проблем, которые
обсуждаются ниже, не является непреодолимой. Изменение предиката при
принятом нами подходе потенциально может столкнуться с этими проблемами,
также мы обсудим некоторые способы решения данных проблем. Даже если
соположенность может быть реализована и проанализирована на других
основаниях, это должно быть ясно при обсуждении импликационного различия
и свойств зависимости от предиката (о которых шла речь в нашей работе
«Структура
лексического
значения
предиката:
морфосинтаксическая
иерархия»), которые в анализе по разложению предиката не дают ясной
картины, поскольку эти свойства обсуждаются в подходах, охватывающих
семантические отношения между основными субкомпонентами лексического
значения.
Перейдем к импликационным различиям, например: laden/anspannen/
beschicken с местным чередованием, являющийся типичным примером для
работ
над
местным
чередованием
в
теориях
разложения
повторенный здесь (с количественно неопределенным локатумом):
(7) a. Die Zeitlichkeit beschickt die gewissen Kategorien ins Dasein.
b. Die Zeitlichkeit spannt das Dasein mit gewissen Kategorien.
предиката,
145
Вспомним,
что
местоположение
полностью
занимает
примарную
тематическую роль в примере (7b), в этом случае локация является прямым
дополнением, но не так, как в примере (7a), здесь это – косвенное чередование.
Б. Левин и М. Раппапорт Ховав характеризуют эти различия тем, что они
называют «соположенные парафразовые отношения» [Levin, Rappaport Hovav
1988: 19]: вариант прямого дополнения местоположения как в примере (7b), что
влечет за собой местоположение косвенного варианта как в примере (7a), но не
наоборот. Они показывают это на примере двух различных, но соотносимых
моделей [Ibidem: 26]:
(8) a. Die Zeitlichkeit beschickt die gewisse Kategorien ins Dasein.
(Изменение местоположения, cf. beschicken)
[x причина [y, чтобы быть в z] / BESCHICKEN]
b. Die Zeitlichkeit spannt das Dasein mit gewissen Kategorien.
(Изменение состояния, cf. anspannen)
[[x причина [z, чтобы быть в СОСТОЯНИИ]]
ПОСРЕДСТВОМ [x причина [y, чтобы быть в z]/ ANGESPANNT]]
При анализе примера (8a) выявлен случай изменения местоположения,
тогда как в примере (8b) – случай изменения состояния местоположения
посредством изменения местоположения. Б. Левин и М. Раппапорт Ховав
предполагают, что прямое дополнение по правилу связи, в котором наименее
вовлечённый участник либо перемещен, либо изменен, связан с прямым
дополнением.
Когда система управления глагола включает одну из подструктур, как в
примере (9), она также связывает переменную x в любой подструктуре с
непосредственной переменной аргумента [прямое дополнение – JTB] в
структуре глагольной валентности.
(9) a.... [x появляется, чтобы быть в МЕСТОПОЛОЖЕНИИ]...
b... [x появляется, чтобы быть в СОСТОЯНИИ]...
Морфосинтаксические и семантические факты следует непосредственно
рассматривать при подобном анализе. Каждая модель располагает различные
146
аргументы на места важнейших тематических ролей в разложении, которые
определяют различное связывание прямого дополнения. Кроме того, пример
(8b) включает пример (8a), если основываться на «соположенных парафразовых
отношениях».
Однако использование этого подхода проблематично по нескольким
причинам. Во-первых, если мы вспомним вышеперечисленные два варианта,
влекущие за собой, по крайней мере, несколько степеней влияния для обоих
участников. Однако пример (8) не отражает влияния импликаций на любого
участника, остается также не определённым порядок декодировки различия
между полным включением и тематической ролью локативности. Во-вторых,
абсолютно непонятно, какое влияние закодировано в примере (8b), который
постулирует появление тематической роли локации для отражения некоего
состояния. Но почему это состояние интерпретируется как состояние
абсолютного заполнения места тематической роли, а не какого-либо другого
состояния
(например,
частичного
заполнения),
неясно.
В-третьих,
не
объясняется, почему отношение в примере (8) представлено ПОСРЕДСТВОМ
отношения в противоположность некоторому другому отношению. Так, Кёниг
и Дэвис акцентируют внимание на том, что (в варианте данного анализа
Пинкера) выбор этого отношения становится мотивированным, прежде всего,
из-за потребности понять геометрию правильного разложения, и они именуют
такие отношения «синтаксическими диакритическими знаками» (Koenig, Davis
2006: 75–76). В принципе, нет никакой причины настаивать именно на
подобных отношениях внутри высказывания. Например, если мы просто
используем отношение ПРИЧИНЫ, а не ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ отношения
(по-видимому, они семантически эквивалентны), то для примера (8) мы могли
установить структуру, как в примере (10) однако с релятивной обратной
связью.
(10) Die Zeitlichkeit spannt das Dasein mit gewissen Kategorien.
[[x причина [y, чтобы быть в z]/ANGESPANNT]] ПРИЧИНА [x причина
[z, чтобы быть в СОСТОЯНИИ]]
147
В-четвертых,
количественной
вспомним,
(но
не
что
этот
качественной)
анализ
основан
неопределенности
на
ошибке
локативных
партиципантов, зависящей от имманентно присущей валентности, где
локативный член понимается как простое множественное число или
неисчисляемое существительное, и, таким образом, не может быть определён в
терминах количества. Это усложняет возможность понимания общего
количества влияния для локации. Но когда локатум понимается как
количественно определенная именная группа (например, определенное имя
существительное с особым типом исчисления), понятие общего объема влияния
применяется также для локации, как это представлено в примере (8). В этом
смысле «соположенные парафразовые отношения», предложенные Бет Левин и
Малка Раппапорт Ховав, должны быть релятивны каждому из приведенных в
высказывании
аргументов,
которые фактически
импликационного различия, которые
представляют свойства
в данном конкретном случае
и
подвергаются анализу, и которые должны быть основаны на чередовании
аргумента или косвенного чередования более широко, согласно принципу
морфосинтаксического согласования. Следовательно, существует множество
причин, не охватывающих импликационные различия свойств чередования
аргумента или косвенного чередования.
Жан-Пьер Кёниг и Энтони Дэвис, основываясь на изучении репрезентации
аргумента в высказывании, закономерно предполагают, что глаголы местного
действия, включающие в свою семантику вариативный (изменяемый в
зависимости от конкретной ситуации семиозиса и своей валентности) локатум,
многозначны, и значение между изменением местоположения и изменением
состояния посредством изменения локации, которое они кодируют через
разнообразные лексические включения, аналогичны тем, что показаны в
примере (11).
148
(11)
Однако нам не удается объяснить обычным способом, какие импликации
изменяются для каждого глагола или чередования, даже приняв то, что
существует некая ключевая роль (KEY). Свойство участника, подвергающегося
воздействию (UND), мотивировано некоторыми характерными импликациями;
представления в примере (11) не объясняют, какие характерные импликации
связаны с KEY. UND в любом варианте чередования, которое охватывало бы
соответствующие различия, не объясняет, ни какие характерные импликации
мотивируются другой особенностью UND, ни почему последние ведут к
импликационными различиям. Кроме того, в этом анализе не ясно, почему userel и spray-ch-of-state-rel, представленные в варианте spraywith, и отсутствующие
в варианте sprayloc, начиная с манипуляции местоположения агенса и, по
крайней мере, частичного влияния на обоих участников, являющихся, повидимому, инвариантными при чередовании, являются не включёнными в
данную схему, то есть этот подход не охватывает тот факт, что оба участника,
по крайней мере, частично включены в оба варианта. В то время как Ж-П.
Кёниг и Э. Дэвис приводят доводы в пользу этого анализа, необходим другой
подход, который позволяет, не вовлекая немотивированные отношения средств
149
изменения состояния, независимо представить ключевую роль (которая
направлена на те же цели), и эта роль не эксплицируется, таким образом,
ключевая роль сама по себе – только потенциально является иным
«синтаксическим диакритическим знаком».
Представления
Пинкера
приведены
в
примерах
(12a)
и
(12b),
соответственно, где более важный второй участник СОБЫТИЯ является темой
в одном событии и реципиентом в другом. Таким образом, получаем
чередование,
в
котором
участники
связаны
с
объектом,
стоящим
непосредственно после глагола (косвенная реализация или реализация второго
объекта в двойной надстройке объекта).
(12)
150
Широкий диапазон чередования Пинкера наслаивает одну структуру на
другую. Различные подтипы переменных глаголов ограничены некоторыми
правилами, из чего следует, что основная модель включает дополнительные
особенности, чтобы охватить семантические особенности разных классов
глагола. Пинкер утверждает, что косвенные варианты переменного чередования
с глаголами, которые описывают понимание причинной обусловленности
потенциального обладания (CoP), и данная обусловленность напоминает
направленное
подобного
движение,
анализа.
прекрасно
Однако
этот
разъясняются
при
подход
объясняет
не
использовании
свойства
импликационного различия. Косвенные варианты являются приемлемыми в
контекстах тех вариантов косвенного дополнения, где это необходимо, в
частности, относительно так называемого эффекта «Лондонского офиса», где
варианты
косвенного
дополнения
являются
приемлемыми
только
с
неодушевленными получателями, если они интерпретируются как живые
(способные к некоему варианту реципиентной тематической роли). В то время
как
косвенные
варианты
могут
использоваться
с
неодушевленными
получателями или на основаниях реципиентной или локационной тематической
роли:
(13)
a. Das Dasein gibt der weiteren Abhandlung den folgenden Modus…
b. Das Dasein gibt den folgenden Modus in Rahmenbedingungen solcher
Fragenabhandlung …
В то время как эти два представления в примере (13) предсказывают, что
косвенные дополнения не должны быть совместимы с неодушевленными
получателями (при условии, что ABHANDLUNG не служит первым
аргументом предиката GEBEN), они не указывают на тот факт, что косвенный
вариант
описывает
супернабор
событий,
представленный
косвенным
объективным вариантом. Они не объясняют того, что может произойти как в
примере (13a) с теми же контекстами, так и в примере (13b), но не наоборот. В
принципе, представления в примере (13) позволяют определить возможности
151
каждого варианта, являющегося способным описать событие так, как другой не
может.
Проблема этого подхода состоит в том, что эти два представления не
имеют семантически очевидных путей отношений друг с другом, так чтобы не
существовало вообще возможности возникновения импликационных различий.
В конечном счете подходы разложения не охватывают свойства
импликационного
различия
чередования
аргумента
или
косвенного
чередования, потому что они, прежде всего, полагаются на структурные
различия между соаргументами в разложении (как описано Ж-П. Кёнигом и Э.
Дэвисом (2006)), в специфичности их относительной соположенности, для того,
чтобы установить факты реализации аргумента. Но решающим фактором
является относительная соположенность, которая не связана ни с каким
участником семантического разложения, на котором основано большинство
лексических импликаций с участником события, являющимся более свободным
и облигаторным.
3.2.
Смыслопорождение и условия формирования смысла
Чем же можно объяснить появление смысла как особого феномена? Его
порождение, декодирование, а значит и просто наличие появляется лишь при
определенных условиях. В работе Г.И. Богина «Обретение способности
понимать» (2001) даются следующие условия смыслопостроения в тексте:
1.
Есть некоторое содержание.
2.
Это содержание взято в определенной модальности.
3.
Есть
некоторая
ситуация
либо
в
деятельности,
либо
в
коммуникации, либо в том и другом, но при этом ситуация состоит из
элементов.
4.
Эти элементы способны перевыражаться в рефлексивных актах.
5.
Часть этих элементов способна еще до образования смысла
бытовать в виде минимальных смысловых единиц – ноэм.
6.
Эти ноэмы участвуют в интенциональном акте, то есть а акте
направления рефлексии.
152
7.
Ноэмы образуют определенную конфигурацию отношений и
связей.
8.
Эта конфигурация служит основанием для интендирования – и как
техники, и как акта указания на топосы онтологической конструкции, что
и приводит к перевыражению ноэматических отношений свойств
компонентов онтологической конструкции субъекта [Богин 2001].
В современной науке существует несколько точек зрения на вопрос
наличия/появления смысла. Так Р. Г. Альжанов ратует за трактовку смысла как
некоего идеального конструкта «в мозговых нейродинамических системах»
[Альжанов 1985: 144], да и мнение о том, что смыслы являются предметом
изучения, в первую очередь психологии, весьма широко распространено. С
данным утверждением спорить трудно, и нет препятствий к подобной
трактовке и изучению таких идеальных структур психологической наукой.
Однако, как нам представляется, сама психика и психические процессы в
ракурсе рассмотрения смыслопорождающих механизмов являются весьма
второстепенным
аспектом,
неким
инструментарием
по
отношению
к
смыслопорождению. Как отмечает А.П. Стеценко, «изначальная наделенность
мира
значениями
и
смыслами
организует
чувственные
впечатления,
обеспечивает постижение ребенком физических закономерностей окружающей
реальности, например, за счет прогрессирующей дифференциации сенсорных
модальностей» [Стеценко 1987: 28].
Не работающей в лингвистике оказывается и эпистемологическая
концепция позитивизма, ведь она, по сути, отрицает само существование таких
иерархических идеальных конструкций, как смысл. Релевантно в этом
отношении высказывание Ч. Пирса, вскрывающее саму суть позитивистских
воззрений: «Сначала человек объявляет, что удививший его предмет есть
удивительное, но по размышлении убеждается, что это есть удивительное
только в том отношении, что он удивлен» [Feibleman 1970: 232].
Отсюда можно сделать вывод о непосредственном существовании только
самого психологического «состояния удивленности» – это и есть объективная
153
реальность, которую и можно изучать. Считается, что существуют не смыслы, а
следы памяти об увиденных вещах [Hannay 1973: 183]. Боязнь встретиться с
идеальными сущностями, невнимание к субъективному в когнитивном, что,
собственно, и представляет из себя один из краеугольных камней понимания
механизмов смыслопорождения и смыслодекодирования, влечёт за собой
невозможность построения стройной теории смысла.
При многоуровневости смысла неизбежна многозначность языковых
единиц, и каждый реципиент выбирает то или иное значение при встрече с той
или иной многозначной языковой единицей. Этот выбор и есть то, что
приводит к отказу от объективности декодируемого, универсальности
порождённого,
это
даёт
нам
личностность,
индивидуальность
актов
смыслопорождения и смыслодекодирования.
По второму правилу, которое Г. И. Богин вывел в своей работе,
главнейшим является учет констант субъективности и модальности (как
основных условий индивидуального авторского смыслопорождения), только
при придании объекту исследования данных категориальных характеристик
проявляются важнейшие условия и признаки самой ситуации семиозиса (в
нашем случае мы более склонны говорить о ситуации ноэзиса), – все это
послужит базой для декодирования смысла как упорядоченной ноэмной
иерархической структуры, являющейся абсолютно мобильной и текучей в актах
текстопорождения. При введении в анализ базисных констант субъективности и
модальности сами процессы понимания и декодирования приобретают
имманентную индивидуальность, что даёт основания следовать в анализе
смыслопорождения утверждению Г. Фреге о том, что смыслы выражаются, а
значения обозначаются.
Именно константы субъективной модальности выстраивают личностное
миропонимание, определяет языковую картину мира конкретного члена
лингвокультурной общности, «генезис смысла определяется тем уникальным
отношением человека к окружающему миру, в котором рождается система
сложнейших функциональных взаимосвязей (субъект – объект), динамика
154
которых формирует и составляет смысл» [Вейн, Голубев 1973: 129]. Константа
модальности, намеренности в выражении конкретного содержания, также
является неоспоримым условием наличия смысла, она кроется в интенциях,
часто неосознанных, проявляющихся лишь в поле ноэматической рефлексии
действиях продуцента/реципиента, все это неимоверно усложняет и нагружает
иерархическую структуру смыслопорождения.
Модальность есть отношение высказывания к объективной реальности,
только так смысл вырастает в мире, а значит определяется его возможное
действие и интерпретация у других членов лингвокультурного сообщества,
смысловость уходит в мир. «Самые разные эффекты и впечатления
представлены в тексте в качестве причин превращения тех или иных текстовых
явлений в ноэмы» [Богин 2001: 324], это и есть идентификаторы текстовой
информации, опорные моменты для реципиента текста. Перевыражаясь в
рефлексивной деятельности целого сонма реципиентов и узуализируясь, они в
данной ситуации могут служить в качестве продуктивной модели порождения
смысловых конструктов, и являться в этой структуре модификаторами и
катализаторами изменения структуры как целого, неделимого единства.
В качестве некой конкретной сущьности, структурирующей связи
суперконструкта, выступает константа ситуативности. При распредмечивании
этих связей происходит декодирование смысла в рефлективной реальности
реципиента, ситуативность в данном ракурсе всегда субъективна.
Главными условиями возникновения и функционирования смысла в
текстовой
реальности
служит
имманентная
речевая
многозначность,
возможность языковых единиц выступать в разных контекстах, которая не
является аналогом многозначности языковой, на основе этого возникает
текстовая ситуативность. Как отмечал в своей работе Ф. А. Литвин речевая
многозначность является «естественным следствием знакового характера слова
– единицы с неоднородным содержанием – во взаимодействии с функциями
высказывания, в котором слово используется в речи» [Литвин 1984: 108].
Главным условием смыслопорождения в философском дискурсе, да и в
155
дискурсе
любой
направленности
выступает
многогранность
и
многоуровневость языковой единицы в ткани текста (ноэматические аспекты
различных единиц вербализуются и о-сознаются в конкретном контексте),
именно
благодаря
этому
каждый
реципиент
в
аморфном
(не
структурированном изначально продуцентом) контексте не в состоянии
разработать
единую
и
непротиворечивую
ноэматическую
модель
распредмечивания смыслового суперконструкта. Так рождается интенциальная
амфиболия с возможностью бесконечного выбора и актуализации некоторого
набора ноэмных характеристик, именно это и есть важнейший принцип
рождения и декодирования смысла.
А. Ф. Лосев помещает смысл в особую сферу рефлексивного бытия.
Относительно условий наличия смысла он пишет: «Сфера чистого смысла, от
отвлеченного понятия до художественной формы, есть сфера выразительного
смысла, т. е. такого, где помимо первоначального смысла играет ту или иную
роль пребывание этого смысла в инобытии…» [Лосев 1998: 47]. Это ино-бытие
есть то самое рефлексивное бытие, которое столь выжно для анализа
смыслопорождающих
трансцендентальный
механизмов.
смысл
Это
и
философского
есть
тот
дискурса,
сверх-смысл,
именно
его
непостижимость являет бытие-в-мире весьма спорным и абсурдным на первый
взгляд явлением. Некоторые исследователи, например, Н. Л. Мусхелишвили и
Ю. А. Шрейдер, предлагают весьма оригинальную сущностную трактовку
феноменологического
смысла
(образа,
текста,
понятия,
дествования).
Высказывается мысль, что безотносительно денотативного значения смысл
является абсурдным феноменом, однако думается, что абсурдность и
парадоксальность выражения отнюдь не является преградой для его осмысленности. Смысл существует не только как пред-данность или постданность феномена, он также имманентно присущ ему. Что однако не отменяет
принципов придания глубинным структурам смысловости, вчуствования, осознания и понимания (деятельного активного).
156
Как мы уже говорили, смысл не доступен прямому наблюдению, а потому
большинство исследователей констатируют и формализуют семантические
представления в качестве сложных граф, узловые элементы которых
маркируются как «смысловые атомы», а провалы понимаются как смысловые
связи [Мельчук 1999: 10–11].
Акты рефлексивного по-знания в ситуации декодирования являются
главным условием реализации смыслового суперконструкта, впрочем, мы
можем заявить это и о процессе порождения. Это, по Г. И. Богину, и есть
ноэматическая рефлексия [Богин 1982], для нас – первичный вид рефлексии в
ситуации ноэзиса, опосредующая особое усмотрение и восприятие феноменов
как структурированных о-смысленных конструктов.
Это есть рефлексивная
реальность (собственный мир, с субъективными фоновыми знаниями и
индивидуальными особенностями познания) без всякого рефлексивного
анализа, без проникновения в суть, чистое «разумное» герменевтическое
понимание. Никто не рефлексирует по поводу бытия на данном уровне, этот
гипотетический продуцент или реципиент просто есть (существует).
В условиях индивидуального окказионального смыслопорождения, вне
зависимости от наличия или отсутствия деривационной модели, сам процесс
данного порождения выталкивает продуцента за пределы ноэматической
рефлексивной реальности и выводит к необходимости осознанной или
феноменологической рефлексии. «Это начинается тогда, когда без воли ноэмы
складываются в конфигурацию и начинается интендирование как важнейшая
работа вовнутрь-направленного луча рефлексии» [Богин 1992: 90–104].
Рефлексия в данном случае происходит не только над объективной
реальностью, над собственным опытом, но над собственным текстовым
продуктом, над процессом о-сознания собственного понимания, возникает
намеренность усмотрения смысла в ткани текста – основа герменевтического
смыслопорождения.
Именно возможность о-сознания и вос-приятия ноэм как элементов
суперструктуры смысловой иерархии является главным условием к пониманию
157
процессов интендирования, указывает на хронотопические характеристики в
онтологии смысла. Ноэмы, актуализированные в тексте, являются глубинным
содержанием, непосредственным смыслом вербализованного феномена.
Фоллесдаль в своей работе «Понятие ноэмы в феноменологии Гуссерля»
пишет: «Ноэмы не воспринимаются посредством наших органов чувств»
[Фоллесдаль 1988: 65]. Однако смысл, выстраиваемый в результате актов
порождения и интерпретации, может сохраняться в рефлексивной реальности
не вербализуясь, хотя и воспринимается на некоем подсознательном
интуитивном уровне, на луче ноэматической рефлексии. О-сознание всех
граней смысла для реципиента в данном случае не является обязательным, но
они должны в полной мере о-сознаваться
продуцентом, который обязан
отвечать за направленное воздействие и введение реципиента в ситуацию
правильного интендирования. Главное «осмысление» такого акта рефлексии не
в восприятии чего-либо, не восприятие самом по себе, как некоем процессе, а в
формировании иерархически сформированного конструкта из интенциально
релевантных ноэм. Вслед за Э. Гуссерлем мы понимаем под данным процессом
«феноменологическую рефлексию», предопределяющую герменевтическое
понимание
как
таковое
и
прогнозирующую
определенные
«схемы
действования» по распредмечиванию и повторному опредмечиванию смыслов.
[Husserl 1965: 127]. Ноэмы как чистые ментальные конструкты и их анализ
являются предметом именно феноменологической рефлексии.
Мы не можем останавливаться на обычном семантическом анализе, если
хотим анализировать смысловой суперконструкт (таким образом, мы остаемся
в поле денотативного значения), при анализе смыслопорождения мы можем
опираться на феноменологическую рефлексию десигнативного анализа.
Ноэматические характеристики при десигнативном анализе в герменевтическом
акте понимания смысла соотносятся с семантической структурой значения,
однако с обязательным учётом имманентно присущего каждой такой
конструкции субъективности, модальности, ситуативности.
158
Категориальные ноэматические характеристики могут быть представлены
только в вербализованном виде в тексте, а потенциальность языковой системы
репрезентируется и реализуется только в текстовой реальности (семы – чёрная
дыра, ноэмы – квазар). Семантический конструкт заключен в значении единицы
в языковой системе. Данный набор конструктивных элементов можно
соотнести с содержанием текста (эксплицитным), но восприятие его не
обеспечивает однозначного вос-приятия смысла. Семный и ноэматический
анализ приводит к получению разных данных и должен предприниматься на
разных этапах исследования (семный анализ ничего не даёт и не работает на
текстовом уровне).
Важную роль в философском дискурсе с точки зрения наличия
смысловости
и
придания
о-смысленности
всей
ткани
текста
играют
микроконтексты употребления концептуализируемых понятий. Ситуация
порождения, вживания, сам ноэзис, снятый в рефлексивной реальности именно
в том ракурсе, в каком они предстают в практике мыследействования
продуцента этого текста, есть ещё одно условие существования смысла.
Лакан справедливо утверждает, что мы очень мало знаем о языке.
Очевидно этот факт связан с тем, что вербализация часто рассматривается
независимо от образов, схем действования по созданию структурированных
образований
и
вчувствований,
обладающих
безмерно
большими
возможностями к порождению смысловости, нежели языковая система.
Важным условием обогащения наших знаний о языке (вербальном) является
включение во внутреннюю форму слова, помимо значений именно смыслов,
образов, действий (как интуитивных, так и о-сознанных), чувств. При таком
идущем от В. Гумбольдта, А. А. Потебни, Г. Г. Шпета понимании языка, слова,
текста, открываются новые возможности интерпретации, переосмысления и
порождения.
Феноменологическая филологическая герменевтика как новая форма
анализа раскрывает глубинное сущностное содержание текста и ноэматическую
структуру смыслопорождения. Для филологической феноменологической
159
герменевтики при о-смыслении иерархической ноэматической структуры между
ноэмами даже денотативно равнозначных понятий наблюдается различие,
именно поэтому характеристики восприятия тех или иных элементов
необходимо получать лишь с характеристикой сопутствующей объективной
реальности.
Все рассмотренные нами константы смыслопорождения, выступающие
как
условия
и
структурные
модели
построения
смысла,
являются
многогранными, но не многоуровневыми образованиями (их дальнейшее
членение невозможно), вос-приятие той или иной грани ноэмы не дает
понимание смысла как целого, это возможно только в интенциальном акте
текстопорождения или понимания текста при феноменологической рефлексии,
с самими связями и отношениями, возникающими в иерархической структуре
между ноэмами.
Верные тактики интендирования представляются, таким образом,
приоритетным условием и принципом корректного смыслообразования, да и
самого наличия глубинного многомерного содержания. Действование на
третьем уровне абстракции в отношении вновь порожденных смысловых
конструктов обусловливает по-нимание и о-сознание самого продукта, не
только в отношении денотатов, но и на последующих уровнях – в рефлексии
над вербализованным в знаках и символах содержанием, в текстах-ментальныхконструктах. Данный вид рефлексии порождает прото- и метасмыслы текстов
на грани и за гранью понимания, которые будут описаны нами ниже.
Реально вербализованные и эксплицитно существующие в ткани текста
грани смысла не позволяют постичь глубинный смысл, который невыводим из
объективного опыта (получаемого в результате простого прочтения), но данное
внутреннее содержание можно раскрыть и распредметить в результате
правильных тактик интендирования. Каждый из рефлексивных актов, вне
зависимости от того, является ли он феноменологическим или ноэматическим,
дополняется
приращением
субъективности,
модальности,
значимости,
прнактически безграничным расширением ситуации ноэзиса («игрового»
160
смыслопорождения,
переразложением
этимологических
основ,
герменевтическим кругом и т.д.).
Главными условиями порождения смысла в текстовой реальности и
соотнесенности его с объективной реальностью являются ситуативность,
субъективность, ноэматичность, модальность и интенциональность, которые
также выступают в качестве особых структурных связей в метаединицах
смыслопорождения и смыслодекодирования (как особые алгоритмические
модели).
3.3.
Общие принципы смыслопорождения окказиональных образований
философского дискурса
Как известно, понятие «смысл» неоднозначно. Даже одна мысленная
конструкция, образ, представление могут иметь различную интерпретацию в
зависимости
от обстоятельств,
точки
зрения,
условий,
контекста,
от
психического состояния, от познавательных тенденций и т.п., поэтому есть
необходимость определить простую и достаточно однозначную исходную
позицию.
Общепринятым и устоявшимся считается представление об условнорефлекторной
деятельности
языка
(далее:
УРДЯ)
http://www.aicommunity.org/reports/ysto/emerg/emerg2.php].
[Истодин
На
этой
URL:
основе
сделана попытка проследить с учетом возможностей языка и его способности к
абстрагированию возникновение «смыслопорождающих» способностей и их
совершенствования, учитывая отображения в сфере мышления условнорефлекторной деятельности.
Следует отметить, что последовательность возможных реактивных
восприятий и реакций, связанная с УРДЯ, исходя из заявленных целей,
рассматривается здесь в упрощенном виде как цепочка последовательно
связанных
ситуаций,
определенных
при
действий
прохождении
(которые
которой
подразумеваются)
путем
выполнения
требуется
достичь
конечного результата. Мы попытаемся выявить в данном параграфе отличия в
смыслопорождающих
потенциях
обыденного
языка
(ядерной
области
161
реализуемых
значений,
без
ноэматической
нагрузки)
и
пограничных
возможностях (содержательных новообразований в языке философии), на
основе которых и построено большинство экзистенциалистских текстов.
Попытаемся рассмотреть реализацию концептуальных окказиональных
образований в повседневном речевом акте. Например, имеется ситуация, когда
надо из ситуации A перейти к ситуации Z, но непосредственной связи между A
и Z нет.
А -> Е,
Е -> К,
К -> Z.
а есть только опосредованная,
А -> E ->К -> Z. (4)
Несмотря на положительные результаты предыдущего опыта, даже
усвоив всю цепь, на каждом шаге надо производить реальное действие, так как
выполнять последующие действия в цепи можно (при линейном развитии
речевого акта, т.е. не имея общих знаний о структуре, а не только о системе
ноэматических отношений в тексте), только попадая в фиксированную
реальную ситуацию.
Другая особенность. Если не воспроизводится одно из звеньев (ситуация
для дальнейшей реакции), то цель для создания последующей ситуации не
может быть реализована. Эти рассуждения дают основание считать, что
реальная разговорная речь, бытующая в повседневном общении, не обладает
способностью осмысливания и абстрагирования в той же степени, что и
философский дискурс и, следовательно, смыслопорождающая деятельность по
отношению к
концептуализации и
введению в
узус
окказиональных
образований не может быть осуществлена.
Язык философии, в отличие от обыденного речевого общения, может в
плане развития обрести способность «посмотреть» на цепь условных рецепций
и реакций как бы со стороны, удерживая её в разреженном поле пограничного
словоупотребления. В результате у него может возникать и откладываться
162
обусловленный конкретной ситуацией смысл (именно смысл, который затем,
вполне вероятно, обретёт некоторое значение, закреплённое в языке, однако не
потеряет живости и возможности новых образований по вновь открытой или же
по-новому переосмысленной деривационной модели) выполняемых действий.
Если говорить более детально, то язык философии предоставляет
возможность перехода с одного интеллектуального уровня на другой, таким
образом, находясь в ситуации А, реципиент может мысленно попасть в
ситуацию Е и оставаться в ней, не предпринимая для этого реальных действий
по переходу от ситуации к ситуации. Находясь мысленно в ситуации Е, он
догадывается, что из нее таким же образом можно попасть в ситуацию К, а из К
в Z (подобная возможность появляется при наличии в языке возможности чётко
прослеживать
структурные
связи
между
элементами,
что,
очевидно,
невозможно в «хитросплетениях» ядерной зоны языка, однако периферийная
зона, благодаря разряженности и сохранению деривационных моделей, о
которых обыденный язык уже «забыл», предоставляет полный обзор «с высоты
птичьего полёта»). Из этого следует, что именно в философском дискурсе
существует реальная возможность построения своего рода ментальной
(идеальной) «модели» и фактически вырабатывается смысловое (отвлеченное)
содержание пошаговой связи от А к Z (как «свернутое представление»).
Можно предположить, что окказионализм на данном этапе (при
порождении нового смысла вне зависимости от способа его создания) вводится
потому, что, обладая аналогичной сознанию двойственностью, он отличен от
сознания тем, что с ним можно иметь дело в плане эксперимента, в качестве
«пробного тела», открывающего доступ к сознанию. Тогда возникает вопрос,
при чём здесь вообще сознание? Существует «ментальная необходимость»,
которая ориентирует на определенное понимание сознания или на работу с
сознанием. Это «необходимость» своего рода «борьбы с сознанием», в
результате
которой
сознание
перестает
быть
чем-то
спонтанным,
автоматически функционирующим, становясь «метасознанием», работающим с
пограничными возможностями языка.
163
Главная отличительная особенность философского дискурса состоит
здесь в том, что он способен, отображая в сфере уже «третичной» абстракции,
мысленно воссоздать и удерживать как элемент существующей «прозрачной»
структуры «текущую» ситуацию, не имея её в действительности, и на этой
основе продвигаться к следующей, соединяя их мысленно, что является
основой для абстрагирования и смыслообразования.
Язык философии относится к особому классу таких феноменов, которым
принадлежит и сознание, но не обыденное, оперирующее значениями и
реализующее их в речевом акте, а некое, как мы уже говорили, «третичное»,
абстрагированное не только от мира вещей, но и от бытования языка. Это такие
феномены, которые могут функционировать лишь при условии существования
каких-то метапредставлений о самих представлениях (значениях). Подобные
метапредставления могут рассматриваться как некий вторичный метаязык.
Здесь метавысказывания в «объективной форме» могут существовать в виде
фиксации прагматических и ноэматических связей на границе языка и
ситуации, т.е. в виде метапрагмем и метаноэм, но не знания о языке (или
сознании), а условия «работы» языка [Бредихин 2005: 84–102].
Учитывая сказанное, можно в целом считать, что соединение и
удерживание ситуаций и обстоятельств выполнения определенных языковых
(интерпретирующих или порождающих) действий позволяет продуценту
философского текста объединить и возвести их в некое единое сжатое
представление. Как правило, это представление, не выражаемое в терминах
обыденного языка описания конкретной действительности, т.е. настолько
абстрактное, что в языке повседневности ему не находится места и
разворачивать его (воспроизводить деривационную модель) имеет смысл лишь
тогда, когда это неизбежно.
Подобный переход и вообще оперирование со смыслами при желании
можно выразить с помощью формальной записи, используя оригинальные
символьные «конструкции». Естественно предполагать, что способность языка
философии выстраивать отвлеченное отображение цепи условных реакций
164
выработалась не сразу. В результате освоения возможностей (при условном
понимании
языка
и
всех
его
деривационных
возможностей)
можно
предположить, что у реципиента возникает способность определять, что все
узлы смыслопорождения могут быть связаны некоей «характерной» связью,
абстрагированной от ее реализации, связывающей феномены (это аналогично
абстрагированию от свойств предметов при арифметических действиях и
переходу к отвлеченным количествам). Выявление подобной связи тоже
соответствует
выработке
определенного
смысла,
соответствующего
существованию причинной зависимости. Иными словами, такого рода смысл
может применяться для представления и обозначения причинно-следственной
связи между ситуациями, событиями, явлениями.
То, что цепочку реакций можно, с одной стороны, воспроизвести
мысленно, а в действительности реализовать только завершающее действие или
просто мысленно определить это действие или результат без выполнения
промежуточных действий, приводит, к интуитивному представлению о
существовании также «особой» связи между элементами мышления. Эту связь
принятот называть логической (в более широком смысле, логического
следования). По характеру зависимости она аналогична причинно-следственной
связи, но соответствуюет более абстрактному уровню (который мы выше уже
попытались определить как третий уровень абстракции). Такой уровень
абстракции позволяет образовывать новые логические связи и структуры из
отвлеченных элементов мышления, фигурирующих на предшествующих
уровнях, соответствующих терминам и понятиям.
Представления о феномено-ситуативной-связи и логической связи
интуитивно трансформируются в сознании в единую универсальную связь и
комплекс
типично
философского
(структурированного,
иерархического,
феноменологического) миросозерцания, а что ещё важнее, такого же
отношения к языку, который используется в языковой деятельности. Однако не
следует понимать данное отношение как техническое (как его определяет для
М. Хайдеггера в своих работах В.П. Литвинов) [Литвинов 1986: 82–87].
165
Объединение цепи условных реакций в компактное представление,
которое в реальности соответствует результативным действиям, означает не что
иное, как осмысление своей языкотворческой деятельности и выработку
смысла, основанную на условно-рефлекторной деятельности языка. На этой
основе можно выразить адекватное для данного случая понятие смысла.
Содержательное
представление,
скрепляющее
мысленную
структуру
(конструкцию), отображающую структурные отношения действительности в
определённом контекстуальном окружении, можно назвать смыслом.
Мысленная
конструкция
и
смысл
в
силу
зависимости
его
от
содержательной стороны этой структуры (и контекста) образуют как
ассоциированные друг с другом составляющие неразрывное целое. Конкретный
смысл приписывается определенной мысленной структуре ассоциируемой
только с этим смыслом. При изменении условий ассоциирования «смысловое
содержание смысла» как представления может изменяться. Сами эти условия
можно также назвать контекстом. При этом мы должны абсолютно чётко
понимать, что смысл, в отличие от значения, не есть закреплённая в языке
структура, он является свободным и «плавающим», т. е. смысл есть не
семантическое, а ноэматическое образование. Главное свойство смыслов (как
представлений, отражающих смысловое содержание мысли) в том, что их
можно воспроизводить, анализировать и манипулировать ими, образуя новые
конструкции, не обращаясь к реальному функционированию значений слова.
Язык философии при создании и концептуализации содержательных
новообразований может самостоятельно связать последовательность звеньев
«стимул-реакция» и выявлять теоретически те или иные последствия при
мысленном
соединении
последовательности
определенных
ситуаций
и
феноменов. Движущей силой формирования или выявления смыслов служит
когнитивная активность пограничной области языка. Следовательно, поскольку
смысл находится (фигурирует) в сфере отображения третьего уровня
абстракции, можно обоснованно полагать, что смысл является феноменом,
фигурирующим не в сфере реальности, а в сфере идеального, образованной
166
живой подвижной «порождающей и каждый раз заново рождающейся
структурой языка» [Янко-Триницкая 1975: 414]. Тем не менее, следует считать,
что смысл реален для самой пограничной структуры, а конкретное его
содержание
субъективено;
следовательно,
для
другого
субъекта
этот
конкретный смысл может отсутствовать. Если предположить, что смыслы
могут существовать независимо от интеллектуальной языковой порождающей
деятельности, то затруднительно понять, как они появляются и продолжают
существовать уже в узусе.
Для
выявления
опосредованной
связи
порождающей
языковой
деятельности и смыслов как таковых необходимо описать саму структуру
подобных отношений, для краткости обозначим выражение «содержательная
структура отношений» термином «контент», означающим содержимое, для
которого определяется или вырабатывается смысл. Смысл рождается в
результате интерпретации контента, «контента» не только мысли как
структуры, но и, как предполагается, отображения, представления, образа и т.п.
Интерпретация как создание отвлеченного и сжатого структурированного
представления, ссылающегося на породившее его содержание, приводит к
пониманию, при котором происходит «восхождение» на метауровень или, как
иногда говорят, совершается «метасистемный переход» [Бредихин 2010: 130].
Структурирование (хотя происходит неявным образом) предполагается
неотъемлемым (неизбежным), поскольку иначе не будет возможности
достаточно просто и однозначно сопоставлять смысл и исходный контент.
(Предположительно, гораздо легче абстрагировать структуру, чем совокупность
несвязанных признаков, нагруженных параметрами и характеристиками, как
это практикуется в теории распознавания образов.) Вид структуризации
(«схематизации») осмысливаемого контента определяется контекстом его
проявления, на основе представлений и фоновых содержаний продуцента и
реципиента.
С
этой
позиции
конкретный
смысл
является
«контекстнообусловленным». Смысл – это целостное представление, служащее
выражением завершенного понимания. Целостное в том смысле, что
167
охватывает всю структуру контента в целом, служит своеобразным её сжатым
описанием и составляет с контентом единое целое. Поэтому во многих случаях
смысл присутствует в контенте как элемент его самоописания, как возможность
реализации на низшем уровне ноэматической структуры [Агафонов 2003: 189].
В процессе понимания в дополнение к внешнему создается внутренний
контекст, в соответствии с которым происходит интерпретация контента. (Как
было сказано выше, за внешний контекст были приняты внешние условия
ассоциирования контента и смысла.) Контекст помогает как образованию
смысла, так и воспроизведению в памяти только по смыслу всего
соответствующего ему содержания.
Образование внутреннего контекста, определяемого смыслопорождением
(смысловыявлением), и его интерпретация происходят последовательным
приближением
в
круге
их
взаимообусловливания.
Когда
происходит
совпадение представления и контента (на «фоне» выработанного контекста),
это отмечается как понимание, что выражается в виде удовлетворительной
реакции (как «озарение»).
Смысл
–
это
сжатое
представление,
фигурирующее
на
уровне
метаописания. Есть предположение, что смысл как сжатое представление
является «голой» схемой, отвлеченной структурой, совпадающей, подобно
модели, с оригиналом, с контентом. Таким образом, смысл есть сжатая схема,
отражающая вместе с тем определенную специфику, «профиль» контента как
ментальной структуры в определенном «субъективном» контексте. На уровне
этой схемы, как правило, используются свой язык и свои понятия, поэтому они
не сводимы к смыслу отдельных элементов интерпретируемой структуры.
«Скорее всего, новые понятия и язык представления относятся не к элементам,
не к конкретному содержимому, а к структуре контента» (Теория структурноинформационной многоуровневой организации) [Теория СИМО (единая
многоуровневая
система
средств
формального
URL:http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160033.htm].
описания
168
То обстоятельство, что смысл производит контекст, используемый при
интерпретации, а интерпретация порождает смысл, не является, как это может
показаться,
порочным
кругом
–
это
соответствует
постепенному
«согласованию» проявляющегося смысла и контента. Кстати, некоторая
автореферентность
присутствует
и
в
определении,
приводимом
в
энциклопедиях: «…Термин «смысл» может обозначать целостное содержание
какого-либо
высказывания
(научного,
философского,
художественного),
несводимого к значениям составляющих его частей и элементов, но само
определяющее эти значения» [Первый толковый большой энциклопедический
словарь 2006].
Смыслопорождение, по всей видимости, есть результат отображения и
представления в сфере мышления условно-рефлекторной деятельности языка
как структуры «периферийных, живых» отношений. Когнитивная языковая
деятельность свидетельствует что, образование новых смыслов (творческая
деятельность) требует больших усилий и особого склада ума, чтобы в нужный
момент
зафиксировать,
отметить
соответствие
смысла
и
его
смыслопорождающей конструкции, которые к тому же находятся в процессе
взаимного формирования.
Смыслы служат основой для образования значений, в том числе и
концептуальных. После закрепления значений язык начинает манипулировать
ими и их отношениями. Значения используются для образования производных
по отношению к ним структур контента и на этой основе служат для выработки
новых смыслов, в частности, еще более абстрактных.
Фиксация в узусе самих смыслов, всего, что образует смыслы и связано
со смыслами, является накоплением значений, которые, однако не уменьшают
свободы в смысловых деривационных моделях. Значения, согласно некоторым
представлениям, сохраняются в виде связанных в различные структуры
(«тексты») смыслов, а не конкретно контентов. В качестве системы,
поддерживающей и усовершенствующую организацию значений
применение можно назвать ядерную область (узус) языка.
и их
169
3.4.
Метафора как основа смыслообразования в философском дискурсе
Формирование
метафорического
коннотаций
выражения
различного
связано
с
рода
конкретными
при
и
порождении
абстрактными
содержаниями понятий, а построение новой или изменение уже существующей
лингвокультурной картины мира в конкретном социуме всегда соотносится с
неким абстрактным автором философского дискурса.
Метафоре, как мы помним, на всех этапах развития языкового творчества
отводилось особое место в системе выразительных средств, используемых не
только в художественной практике (поэзии, литературе иискусстве), но и
любых видах деятельности, в частности, в философском дискурсе. Именно
особый
способ
смыслопорождения
в
метафорическом
выражении
предоставляет новые возможности для прагматического плана построения
высказывания и служит для обеспечения понимания в соответствии с уже
сложившейся в данной культурной традиции системой значений, символов,
образов. За счет этого метафора может использоваться в концептуальных
разработках науки и философии, а также для структурирования различных
видов дискурса. Возможно, что метафора есть вообще наиболее мощный
лингвистический инструмент, который мы имеем в нашем распоряжении для
преобразования действительности в мир, способный адаптироваться к целям и
задачам человека.
Всякая метафора – как абстрактная, так и визуальная – строится на
основании сближения часто абсолютно разнородных понятий. При этом один
образ описывается через другой, связанный с первым по принципу аналогии на
основе имеющихся общих свойств и качеств. В некоторых случаях, например,
при рассмотрении философского дискурса, основанием для сравнения могут
быть ментально существующие, причём, вполне возможно, лишь в данном
конкретном тексте и отдельной «системе координат», функциональные
параллели, хотя устанавливаемое подобие ни в коей мере не является
сущностным или универсальным: оно всегда контекстуально, ситуативно и
субъективно. Можно утверждать, что метафора является идеальным средством
170
навязывания своей точки зрения, сопутствующего ей видения и описания
реальности, возможного только с какой-то определенной позиции, а также
выбора соответствующих средств номинации и способов классификации
объектов реальности.
Механизм
одновременной
метафоры
функционирует
реализации
первого
и
таким
второго
образом,
планов
что
«при
содержания
(пресуппозиций) метафоры возникает третий план (то, что имплицируется
продуцентом), т.е. новая реальность. Построение новой реальности является
одной из самых важных метафорических функций» [Телия 1988: 85]. Именно
использование принципа ситуативного априорного сочленения, благодаря
которому может сочетаться буквально «все со всем», делает метафору
универсальным и, вероятно, самым эффективным механизмом генерирования
новых смыслов. Это наиболее оптимальный режим построения концепций,
поскольку он не требует детального разъяснения и логического обоснования.
Структура
содержания
в
и
способ
образования
высказываниии
конкретного
предоставляет
метафорического
возможность
радикально
сокращать путь от одного смыслового элемента к другому, при этом опуская из
системы логических последовательностей привязку имплицитного значения и
ряды
причинно-следственных
связей,
опираясь
лишь
на
интуитивное
схватывание некоторой «сущности» описываемых явлений. Такое быстрое,
фактически моментальное перемещение от одного образа к другому позволяет
добиться значительного сокращения затрачиваемых усилий и экономии
символических ресурсов репрезентации. Поэтому философская или же
образная эстетическая метафора, маркирующая определенный стиль мышления
(в нашем случае это мышление на грани и за гранью языка), оказывается
наиболее востребованной.
Движение и изменение в процессе смыслопорождения при образовании и
функционировании метафоры происходит, как это ни парадоксально (в отличие
от других типов номинации) не от образа к идее, но, наоборот, от априорно
171
заданного
«доопытным
путем»
концепта
к
непосредственному
опыту
восприятия перцепта.
Так создается доминантный образ того или иного события, который,
безусловно, «светится изнутри» смысловым ореолом видения и понимания
данности, о которой ведётся речь только в ракурсе, задаваемом автором
метафоры.
Метафора выстраивает семантическое пространство текста вокруг себя и
выступает, таким образом, в качестве его смыслового центра.
Включаясь в систему образов, метафора начинает функционировать на
уровне конструирования символического пространства, становится материалом
формирования коллективных представлений. Она стимулирует процессы
генерирования смыслов и осуществляет «производство лингвокультурного» на
трех различных уровнях репрезентации, выступая в качестве «воображаемого
значения»: 1) перцептуальное поле метафоры; 2) концептуальное поле
(пространство); 3) символическое пространство. В итоге «поле» выступает как
результат совмещения, «наложения» и взаимопроникновения символического и
физического
пространств,
которые,
в
свою
очередь,
также
могут
рассматриваться как метафора (А. Я. Сарна).
Вопрос, таким образом, заключается в том, чтобы прояснить, как
перцептуальное и семантическое поле метафоры коррелирует с символическим
пространством социума и можем ли, воздействуя на первое, изменять второе.
Похоже, что авторы философских дискурсов уверенно отвечают: «Да, можем»,
– и создают новую картину мира, концептуальные положения которой и
предлагают нам отождествлять с реальностью. Для этого им нужна метафора, в
процессе
конструирования
которой
устанавливается
«отношение
квазитождества между метафорической моделью и объектом осмысления, что
позволяет далее оперировать объектом как полномочным «представителем»
метафорической модели» [Сарна 2005: 55–60].
Хотя мы на протяжении всего обсуждения пытались определить пути
смыслопорождения внутри философского метафорического выражения, мы всё
172
ещё имеем проблемы с вычленением и определением самой философской
метафоры. Метафоричность целого ряда философских терминов не может быть
зафиксирована непосредственно. К ним, в частности, можно отнести такие, как
«Ich» Фихте, «die absolüte Idee» Гегеля, «der Wille» Шопенгауэра и т.д.
Интерпретируя их содержание на основе обыденной понятийной системы, мы
неизбежно
оказываемся
выключенными
из
подлинного
смыслового
пространства философского текста. Мы всегда вынуждены продолжать ту
«языковую игру», которую предложил нам тот или иной автор, что мы и
пытаемся делать в наших работах.
Интересно заметить, что в текстах, на основе которых мы проводим
анализ смыслообразования метафорического выражения, имеются некоторые
отличия от повседневного языка: соотношение средств и методов такое же, как
и при использовании метаязыка (при описании «мышления на грани») и языка
художественной
литературы
(при
описании
мышления
вне
системы
мыследеятельности).
Например, из различных категорий изменения значения, которые даёт
семасиология – Bedeutungserweiterung, Bedeutungsverengerung, Bedeutungsverschlechterung, Bedeutungsverbesserung и других, – в работах М. Хайдеггера
мы можем наблюдать лишь Bedeutungseinengung или Bedeutungsabstraktion.
Также мы можем говорить о переходе обычных, нейтральных слов в сферу
специализированного метаязыка, где обычные словоформы будут являть собой
абстрактное метафорическое содержание. В работах М. Хайдеггера слово как
бы изымается из раннего поля употребления и вставляется в другое
семантическое поле или передвигается на другое место в этом же поле. В
обыденном языке мы можем привести некоторые примеры из сферы
расширения значения по общим законам языкового развития. Так, допустим,
сначала слово Wasserhahn было метафорическим названием Glockelhahn, что в
современном языке не имеет отражения. Таким же образом произошёл сдвиг в
значении слова Magt, которое ранее означало Jungfrau.
173
Кратко подводя итог изложенному, следует заметить: процедурная
особенность метафоризации позволяет активно использовать метафору в
философском дискурсе, выстраивающем новую картину мира, где наиболее
важными аспектами функционирования метафоры становятся «присвоение» и
«включение» номинируемого объекта (абстрактного или конкретного) в
определенные системы представлений и интерпретативные схемы. Метафора
наряду с другими средствами образует абсолютно новую концептосферу,
которую можно рассматривать только в рамках конкретной мыслительной
парадигмы.
Язык философии предоставляет возможность перехода с одного
интеллектуального уровня на другой таким образом, что, находясь в ситуации
А, реципиент может мысленно попасть в ситуацию Е и оставаться в ней, не
предпринимая для этого реальных действий по переходу от ситуации к
ситуации. Находясь мысленно в ситуации Е, он догадывается, что из нее таким
же образом можно попасть в ситуацию К, а из К в Z (подобная возможность
появляется при наличии в языке возможности чётко прослеживать структурные
связи между элементами, что, очевидно, невозможно в «хитросплетениях»
ядерной зоны языка, однако периферийная зона, благодаря разряженности и
сохранению деривационных моделей, о которых обыденный язык уже «забыл»,
предоставляет полный обзор «с высоты птичьего полёта»). Из этого следует,
что именно в философском дискурсе существует реальная возможность
построения своего рода ментальной (идеальной) «модели», и фактически
вырабатывается смысловое (отвлеченное) содержание пошаговой связи от А к
Z (как «свернутое представление»).
Например, у М. Хайдеггера мы встречаем множество примеров
предложений, построенных на «раскручивании» одного вопроса, анализе
чрезмерно увеличенного исходного пункта и возвращении к выводам
традиционной логики в связи с исследованием языкового низложения
металогического мышления. Круговой процесс понимания находит своё
174
выражение в нормальных формах, но можно найти и яркие места в анализе
больших периодов.
Для обозначения схоластического понимания природы бога Хайдеггер
образовал высказывание, которое типично уже для Лайзеганга. Es ist das
absolüte daß Ezistenz ist, wie in Wesen existiert und der Existenz west. В своей
работе «О сущности правды» он приводит следующее высказывание: Das
Wesen der Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens, при этом он формулирует не
диалектическое предложение, а, скорее, высказывание поворота.
Предложение, построенное подобным образом, сформулировано так не
только потому, что даёт возможность пониманию выступать в качестве некой
дефиниции до того, как понята сложность отношений внутри неё. Однако эта
мотивация не решающая.
Другое, аналогичное предложение из хайдеггеровских объяснений. Der
Satz des Grundes ist der Grund des Satzes. Halten wir eine Weile still, falls wir dahin
zugelassen sind: der Satz des Grundes – der Grund des Satzes. Hier dreht sich etwas
in sich selber. Hier ringlet sich etwas in sich selber ein, verschließt sich aber nicht,
sondern entringelt sich zugleich. Hier ist ein Ring, ein lebendiger Ring, dergleichen
wie eine Schlange. Hier fängt etwas sich selber an seinem eigenen Ende. Hier ist ein
Anfang, der schon Vollendung ist [Heidegger 1976: 131]. Имеется в виду, что обе
стороны образования тесно связаны друг с другом, но, в сущности, это одно и
то же, хотя нельзя сказать, что это пустое высказывание (оба компонента
идентичны). Каждая половина круга существует и может быть объяснена лишь
при существовании и объяснении другой его части, как со всей очевидностью
один элемент системы связан и должен быть связан и зависим как от системы в
целом, так и от каждого её элемента в отдельности.
Совершенно другой тип кругового мышления, который оставил свой след
в языке, содержит следующее высказывание:
Homo est animal rationale. Animal bedeutet nicht einfach Lebewesen; ein
solches ist auch Pflanze. Wir können aber nicht sagen, der Mensch sei eine
vernünftige Vegetation. Animal bedeutet das Tier, animaliter heißt (z.B. auch bei
175
Augustinus) ‘tierisch’. Der Mensch ist ein vernünftige Tier. Die Vernunft ist das
Vernehmen dessen, was ist, und das heißt zugleich immer: was sein kann und sein
soll. Vernehmen schließt in sich, und zwar stufenweise: das Aufnehmen, das
Entgegennehmen, das Vor-nehmen, das Durchnehmen, und das heißt Durchsprechen. Lateinisch heißt durchsprechen: reor, das griechische (Rethorik) das
Vermögen, etwas vor- und durchzunehmen; reri ist die ratio; animal rationale ist das
Tier, das lebt, indem es vernimmt nach der genannten Weise. Das in der Vernunft
waltende Vernehmen stellt Ziele her-zu, stellt Regeln auf, stellt Mittel bei und stellt
auf diese Weise des Tuns ein. Das Vernehmen der Vernunft entfaltet sich als dieses
vielfältige Stellen, das überall und zuerst ein Vor-stellen ist. So könnte man auch
sagen: homo est animal rationale: der Mensch ist das vor-stellende Tier [Heidegger
1971: 27].
Этот отрывок исходит из известного положения homo est animal rationale
и к этому же положению возвращается. Но оно понимается диалектически на
более
высоком
уровне.
Всё
размышление
идёт
по
пути
языкового
этимологического анализа, который посредством герменевтических ожиданий
направлен на одну цель. Однако при чтении подобных отрывков невольно
приходишь к выводу, что мысль здесь определённым образом «раскачивается»,
усиливает колебания, похожие на те, что происходят при пуске индукционного
двигателя.
Можно предположить, что круговое мышление на данном этапе (при
порождении нового смысла, вне зависимости от способа его создания) вводится
потому, что, обладая аналогичной сознанию двойственностью, отлично от
сознания тем, что с ним можно иметь дело в смысле эксперимента, в качестве
«пробного тела», открывающего доступ к сознанию.
Главная отличительная особенность философского дискурса здесь в том,
что он способен, отображая в сфере уже «третичной» абстракции, мысленно
воссоздать и удерживать как элемент существующей «прозрачной» структуры
«текущую» ситуацию, не имея её в действительности, и на этой основе
176
продвигаться к следующей, соединяя их мысленно, что является основой для
абстрагирования и смыслообразования.
Фиксация в философском круговом дискурсе самих смыслов, всего, что
образует смыслы и связано со смыслами, является накоплением значений,
которые, однако не уменьшают свободы в смысловых деривационных моделях.
Значения, согласно некоторым представлениям, сохраняются в виде связанных
в различные структуры («тексты») смыслов, а не конкретно контентов. Таким
образом, задачей интерпретатора по пониманию и о-сознанию смыслов
является,
прежде
всего,
погружение
в
саму
природу
авторского
смыслопорождения, а значит, адекватное смысловосприятие и смыслопередача
в языке перевода повторяет (однако не копирует) мышление автора.
3.5.
«Игровое» смыслопорождение и его коммуникативнопрагматический эффект
Языковая игра являет собой прежде всего модель порождения нового
смысла и его вербального оформления, её механизмы действуют как на уровне
обыденного языка, хотя в данном случае они не столь явны, так и в порождении
неузуальных
смыслов,
например,
философских
текстов:
необходимым
условием действия языковой игры как процесса смыслопорождения является
обращение к феноменологической рефлексии над созданным конструктом, что
обеспечивает
декодирования
порождение
и
и
дальнейшее
интерпретации
в
функционирование
философском
дискурсе
в
виде
некоторых
суперструктур интенциально релевантных ноэм в абсолютно новом или
переосмысленном
ассоциативным
виде.
образом
В
узловых
пересекается
точках
суперструктуры
ноэматика
и
смысла
феноменология
–
интуитивное и осмысленное, докса и парадокс. Л. Витгенштейн не учитывал
многие из данных параметров, хотя им верно схвачено основное свойство
«языковой игры» – речемыслительный процесс, работающий наравне с
прагматическим воздействием и действием в объективной реальности.
Различные трансформации суперструктуры смысла на лексическом и
этимологическом уровне – пожалуй, самый распространенный способ
177
деривации нового многомерного смысла на базе языковой игры, еще Л.
Витгенштейн в «Логико-философском трактате» утверждал, что любую форму
жизни и социального взаимодействия можно представить в виде игры. Сам
процесс игры, как и процесс перетекания и мутации смыслов, является вечным,
иногда не «правилосообразым», многомерные смыслы, вербализованные с
помощью комбинаторных свойств языка на всех его уровнях, обогащают не
только сам язык, расширяя его границы, но и мышление.
Среди мыслей вербализованных или за гранью вербализации мышления
многомерные смыслы структурны, и рассмотрение их именно в подобном
иерархическом ключе объясняет многие проблемы в случае, когда пытаются
понять, что может быть выражено в некоторых философских текстах и текстах
потока сознания, которые долгое время казались совершенно непонятными.
Порождение смыслов возникает на нескольких уровнях бытия языка, прежде
всего, нас интересует бытие языка как реальности и метаязыка как третьего
уровня абстракции, наша собственная оценка метауровней Бытия за последнее
время изменилась и, как нам представляется, существует пять метауровней
Бытия (описание которых более подробно будет произведено в следующей
главе).
Самым интересным является вопрос, каким же образом возможен
философский дискурс на пятом метауровне, который сам по себе немыслим в
парадигме языкового мышления, это самый высокий уровень сознания: он
открывает нам путь в царство бессознательного интуитивного, царство
ноэматической рефлексии. Это важно, потому что в наших работах мы
рассматриваем происхождение концептов и
смыслопорождение
внутри
философского дискурса на различных уровнях и обнаруживаем, что любая
схема смыслопостроения по происхождению имеет природу Ультра-Бытия, и
также замечаем, что истинное последовательное событие также имеет природу
Ультра-Бытия. Именно поэтому наиболее важным для нас было понять этот
наивысший уровень Бытия, потому что наши исследования языка философии
затрагивают вопрос о природе возникновения, а также природу схематизации.
178
Выяснилось, что Ультра-Бытие является общей доминантой для этих двух
понятий, этих двух явлений, явления последовательных событий и явления
схематических уровней. Раскрывается и делается возможным подобное в
первую очередь в игровом смыслопорождении. Однако для подобного анализа
релевантно допущение существования языкового Бытия в рамках пятого
метауровня (самого высокого, учитывающего все константы и работающего во
всех
поясах
мыследеятельности).
Минимальные
отттенки
смысла
в
суперконструктах обычно усматриваются только вне по-мысливаемого в
рамках языкового Бытия. Язык и игра в смыслопорождении – это пункт, в
котором парадоксально соприкасаются две последовательности (серии). Но мы
также должны учитывать барьер между двумя сериями, который является
рациональным. Таким образом, игра и контаминация – эзотерическое понятие.
Контаминация предоставляет возможность о-сознания минимальных различий,
кроющихся в возможности и необходимости трансформации суперструктуры
смысла при вербализации определенного типа мышления. Так мысль находит
языковое выражение.
Мы в игре можем оперировать некоторым, иногда безгранично огромным
количеством элементарных частиц, пытаясь вычленить неоюходимые и
адекватные, вне рамок установления или интенциальной деструкции правил.
Эта группа, как рой инкапсулированных монад не просто существует в мире, но
еще и в самой себе. Слияния сплавленной группы есть парадокс, и это парадокс
ясно сформулировал недвойственное значение как экспрессивность и дал
смысл всему миру. Игра, таким образом, рождает мир.
Для теории смыслопорождения основным моментом является различение
значения как потенции и смысла как реализации. В системе языка значение –
это идеальная единица, которая хранится в этноязыковом сознании и
представляет некую общую репрезентацию узуальных речеупотреблений. В
конкретном употреблении или изменении единица языка любого уровня может
подвергаться игровым трансформациям в узуальной или окказиональной
форме. Некая ноэма, вне зависимости от принадлежности ее к различным видам
179
(доминант, культурных основ или периферии) является внедискурсивным
конструктом, квантом смысла, который ноэматически интуитивно или
феноменологически осознанно (рефлексивно) существует в лингвокультурной
общности и обладает свойством воспроизводимости, актуализируется в том или
ином окружении в зависимости от интенции продуцента или реципиента. Так
как этимологически конструирование и трансформации, а значит, и сами ноэмы
являются продуктами игры, то иерархически структурированное образование,
строящееся из интенциально релевантных ноэм, является неким целым,
единым, обеспечивающим существование, развитие и творимость смысла в
дискурсе, а его деривационная модель являет собой архетипический концепт.
Со всей очевидностью можно утверждать, что смысловые конструкты,
основанные на языковой игре, главной своей ценностью имеют лежащий в их
основе дискурсивный парадокс, столкновение непрерывностей на высших
уровнях бытия языка, слияние осмысленного и интуитивного, возможного и
невозможного. «Именно благодаря парадоксу человеческому мышлению
удаётся оторваться от стереотипов прямо номинативного дискурса и в новой
логике
лингвокреативных
рассуждений
оказаться
в
стихии
косвенно-
производного знакообразования» [Ешкенази 1977: 138]. Главным признаком
этого пара-доксального является «противоречие». Противоречие в логически
формально несовместимых элементах и их игровом объединении в спаянное
единство в одной прототипической ситуации. Сочленимость несочетаемых
элементов в суперконструкте направлена на референцию, в то время как
отношения, объединяющие ноэзис – на вторичную денотацию, которая имеет
своей базой свойство творимости – главный признак языковой игры. «Языкова
игра как форма речевого мышления эксплуатирует механизмы ассоциативного
переключения узуального стереотипа восприятия, создания и употребления
языковых единиц, характеризуется условностью и интенциональностью»
[Гридина 1996: 12]. Смыслотворческая игровая деятельность металогических
форм мышления как, в некоторых философских текстах, или текстах потока
сознания, основывается на использовании ноэм различных видов во вторичной
180
номинативной функции, на возможностях трансформации суперструктуры на
интерпретативных возможностях, «на включении знака в новый ассоциативнодискурсивный контекст» [Тармаева 1997: 12]. Именно при использовании
правильных тактик интендирования согласно ассоциативно-дискурсивному
контексту продуцент может прогнозировать желаемый прагматический эффект
и возможность правильной интерпретации смыслового суперконструкта.
Контекст и его парадигматическое восприятие дает возможность общего обзора
узловых элементов суперструктуры смысла и общих мест прототипической
ситуации, элементарных моделей смыслопорождающих механизмов.
Игровое
смыслопорождение
строится
главным
образом
на
двух
принципах: интенциальной амфиболии (координации несочетаемого) и
интенциальной контрактуры (контраста). Именно на основе данных
принципов
парадоксальное
высказывание
обретает
смысл.
Приемы,
являющиеся базой для интенциальной амфиболии и контраста, могут быть
типизированы следующим образом: 1) интенциальная кроссакцентуация; 2)
интерпретативное наложение (сближение, сопоставление, противопоставление)
на фоне актуализации интенциально релевантных ноэм; «3) ассоциативноигровая идентификация и деривационно-мотивационная связь ассоциантов; 4)
ассоциативная провокация (намеренное столкновение первичных денотатов)»
[Тармаева 1997: 16]..
Чрезвычайно интересным в данном плане является выделение в
отдельную группу парадоксальных ассоциативных рядов как, например:
schweigenden Rede des Gewissens, Mut zur Angst vor dem Tode, hellen Nacht des
Nichts. Как и в случае с омонимами, здесь связаны языковые элементы
различных содержательных уровней таким образом, что создаётся впечатление,
что они якобы соотносятся на одном уровне. В schweigenden Reden, schweigend
употребляется в прямом смысле как lautlos, akkustisch nicht vernehmbar, в то
время как Reden – в метафорическом смысле в качестве kundgeben, sich
bemerkbar machen, можно представить это как lautlose Kundgabe.
181
Так же понимается Nacht des Nichts как полная тьма, hell (просветленная) же она в метафорическом смысле, так как именно в ней человека
чаще всего посещает «озарение».
Подобные конструкты, основанные на парадоксальных ассоциациях
очевидно, являются праосновой любой стилистической фигуры, базирующейся
на переносе: метафоры, метонимии, оксюморона и т.п. В данном процессе
главная роль принадлежит открытому А. А. Ухтомским принципу доминанты,
который связан с фундаментальными стратегиями когнитивных процессов
[Ухтомский 2002: 448]. Доминанта в данном случае понимается как
преобладание некоего стимула, на основе которого и возникает целостный
единый образ. Именно на основе принципа доминанты нерелевантные грани
смысловой суперструктуры и неактуализированные ноэмы не вызывают
привычной реакции, а усиливают прагматический эффект ноэм-доминант.
Вообще «человек подходит к миру и к людям, – пишет А. А. Ухтомский, –
всегда через посредство своих доминант, которые «стоят между нами и миром,
между нашими мыслями и действительностью» [Ухтомский 2002]. Общая
языковая картина мира зависит в данном случае от доминантных образов,
репрезентирующих в конкретной лингвокультуре основные релевантные
концептуализированные смыслы.
Для нашего исследования, выстроенного в русле феноменологической
филологической рефлексии прежде всего важны когнитивные процессы,
порождающие
парадоксальную
ассоциативную
сочетаемость,
лингвокогнитивную переработку на основе третьего уровня абстракции.
I. Когда узуальный конструкт переосмысливается и выступает в одном
контексте с ранее не встречавшимися и не ассоциированными в узуальном
употреблении ноэмами, возникает когнитивно-семантический парадокс. В
данном случае нарушаются стереотипы вербализации, возникает «эффект
обманутого ожидания», логическая несовместимость ноэм концептуализации, а
также языковая несовместимость стилистически и функционально разных
единиц. В данном случае игровой компонент не участвует. Игра проявляется
182
лишь подключением новых ноэматических элементов, которые и отвечают за
объединение прямых и переносных значений. При такой амфиболичности
конструкта трансформации подвергается образный компонент, актуализация
внутренней концептуальной формы.
II.
В
других
случаях
используется
окказиональный
конструкт,
приводящий к стилистическому парадоксу, возникающий в результате
сочленения в едином суперконструкте ноэматических характеристик разных
уровней мыследеятельности. В основе своей стилистический парадокс при
игровом
смыслопорождении
дополняется
когнитивно-семантическим.
Языковая игра, которая своей базой имеет окказиональную реализацию
интенциально релевантных ноэм, чаще всего может осуществляться по
узуальным деривационным моделям, в данном случае мы не можем говорить о
неузуальной игровой деятельности. Прототипическая ситуация является
нормативной, а потому интенциально обусловленная когнитивно-дискурсивная
значимость не вызывает сомнений. Подобные формы языковой игры,
строящиеся на употреблении окказиональных компонентов, пользуются
когнитивно-дискурсивной метафорой, игрой слов, аллюзивным употреблением,
расширением значения.
Механизм
использования
смыслопорождении
кроется
в
метафорического
актуализации
переноса
одной
или
в
игровом
нескольких
периферийных ноэм, являющихся носителями субъективной информации или
же особых обертонов в смысловой суперструктуре. Они раскрываются
посредством дискурсивных средств, выходящих за рамки одного высказывания,
это одна из наиболее часто встречающихся моделей окказиональной
трансформации суперструктуры, чьей отличительной чертой является создание
ассоциативного ряда, выходящего за рамки собственно самого конструкта и
имеет парадигматические связи со всем концептуально-дискурсивным полем
продуцента/реципиента.
Игра слов в игровых моделях смыслопорождения базируется на
когнитивно-метафорических ассоциациях между концептом и прототипом, она
183
часто связана с интенциальной амфиболией и двойной актуализацией ноэм,
когнитивная антитеза строится на одновременном воздействии на реципиента
этимологического и прототипического в структуре ноэмной иерархии –
строится так называемая бинарная экспозиция.
Игра
создает
этимологическое
семантический
переразложение
сдвиг
с
к
прототипу,
раскрытием
и
происходит
внутренней
формы
и
деметафоризации при двойной актуализации, создавая эффект когнитивного
диссонанса.
При сохранении узуального компонента суперструктуры дискурсивный
контекст может создавать особую архетипическую ситуацию, разрушающую
внутреннее единство суперструктуры, однако не нарушающую ее целостного
восприятия. На основе метонимического переноса некоторые компоненты
могут связываться с первичной дискурсивной ситуацией, при этом некоторая
часть узловых ноэм экстраполируется на новую ситуацию, языковая игра
создается
ретардацией,
замедляя
процесс
декодирования
смысловой
суперструктуры.
Другой возможностью вербализации неузуального компонента смысла
является вклинивание уточняющей смысловое содержание ноэмы посредством
трансформации модификации/уточнения отношения актуализируемых квантов
к ситуации при неудачах в коммуникативном акте, исправление в результате
феноменологической
рефлексии
(о
данном
виде
трансформации
суперструктуры будет сказано ниже).
Дискурсивная
аллюзия
(как
интенциальное
о-сознанное
средство
порождения нового, доселе скрытых граней смысла) позволяет в игровом
смыслопорождении
вводить
репрезентирующие
образную
посредством
намека,
ноэматические
составляющую
интуитивного
структуры,
косвенно
суперструктуры.
Именно
схватывания
происходит
целостное
восприятие отдельных квантов суперконструкта. Главным в аллюзии является
высвечивание ассоциативного образа, как это бывает в иероглифических
языках, самые важные смыслы находятся за пределами слова, и на них можно
184
только намекать. Игровое инкодирование дискурсивной аллюзии происходит за
счет пересечения дискурсивных контекстов. Ассоциативная идентификация
создает
возможности
переразложении
для
его
нового
структуры
восприятия
и
снимает
суперконструкта
исходную
при
ноэматическую
оппозицию.
Поскольку игровое смыслопорождение может опираться на когнитивнодискурсивные трансформации суперструктуры как целого ноэматического
конструкта, так и одной или нескольких из его полилатеральных частей в
отдельных
узлах
структуры,
мы
можем
рассматривать
игровое
смыслопорождение как вид трансформационной модели общего философского
смыслопорождения.
Реально
структурированные
ноэмы,
одновременности
всех
существуют
и,
четырех
при
в
едином
допущении
хронотопов
(по
хронотопе
все
множественности
А.
И.
и
Милостивой),
потенциально реализованных в тексте, возможна их парадигматическая
виртуальная потенция и реальная актуализация, однако лишь при вербализации
в парадоксальном игровом смыслопорождении.
Декодирование смысла в философском дискурсе: основные типы
3.6.
трансформаций суперструктуры
Декодирование
смысла
философского
дискурса
и
проблемы
со
сложностью восприятия неких переосмысленных конструктов связаны прежде
всего со спецификой самого философского текста, о чем мы уже упоминали в
первой главе. А потому обычные способы декодирования здесь оказываются не
работающими или же не дающими полной картины распредмеченного смысла в
со-знании реципиента.
Совершенно
необходимым
выступает
процесс
трехчленного
декодирования (наряду со смысловосприятием и смыслопорождением на
третьем уровне абстракции, в дополнение присутствует и смена кода
продуцента на код реципиента – однако это не просто нечленимая
эвристическая деятельность, вполне реально вычленить трансформационные
модели,
участвующие
в
этом
процессе).
Порождение
адекватного
185
распредмеченного смысла при декодировании предполагается лишь в условиях
адекватного и эффективного декодирования исходного опредмеченного смысла
текста.
Данное утверждение лишь подтверждает правомерность и важность
проблемы декодирования смысла текста. Для того чтобы исследовать этот
процесс, в первую очередь ответим на несколько вопросов. Во-первых, следует
изучить процесс декодирования смысла текста и определить его единство и
неделимость или же возможность прохождения определенных стадий, затем
выяснить, являются ли эти стадии и их последовательность четко и однозначно
детерминированными, и рассмотреть их содержание, уяснить, какие конкретно
действия производит реципиент, на каком уровне фиксации рефлексии для
достижения конечной цели этого процесса – условно адекватного и
эффективного декодирования смысла текста. И, во-вторых, является ли этот
процесс линейным, соположены ли трансформации и когнитивные операции,
участвующие в нем, и если он имеет парадигматическую структуру, то как он
протекает и в какой иерархии находятся его элементы [Демьянков 1994: 17–33].
Первейшей операцией в процессе декодирования будет прочтение самого
текста,
предназначенного
для
интерпретации.
В
случае
ничем
не
обремененного чтения, не интерпретативного, которого именно и требует
понимание философского дискурса, данный процесс протекает без обращения к
феноменологической рефлексии, задействуя лишь ноэматическую, чаще на
интуитивном
уровне,
но
в
случае,
когда
реципиенту
присуще
распредмечивание имманентных философских смыслов, он подразумевает ряд
действий на уровне феноменологической рефлексии. Иногда эти действия
могут осуществляться автоматически, однако это предполагает известный опыт
в применении корректных тактик интендирования.
Уже
при
прочтении
можно
выделить
некоторое
количество
трансформаций, выступающих в качестве ключевых для восприятия смысла как
отдельных единиц, так и целостного текста. В первую очередь, это
трансформации, строящиеся на ноэматической рефлексии, интуитивном
186
восприятии имманентного многогранного смысла, для восприятия текста, и
феноменологической рефлексии для повторного распредмечивания и создания
ментальных конструкций. Мы можем выделить несколько подходов к
ноэматическому анализу. Объекты анализа первого типа – сложные ментальные
образования,
типа
философских
понятий:
Dasein
(Вот-бытие,
бытие
экзистенциалистское, синоним к Mensch / человек у Хайдеггера), Nicht-mehr-inder-Welt-sein (Более-не-бытие-в-мире, экзистенциалистская смерть) и т.п. В
качестве исходного языкового материала берутся контексты из разных типов
философского
дискурса
–
экзистенциалистский,
лингвистический,
онтологический и др. Хотя следует отметить, что некоторые не дают
философскому
дискурсу
статуса
отдельного
языка
со
своими
характерологическими свойствами, а значит, и со своими собственными
деривационными моделями смысла, строящимися как традиционно, так и
окказионально. Например, В. Т. Фаритов так определяет философию, не
выделяя в ней как в дискурсе особых признаков, а делая её главной
характеристикой подражание, копирование: «в большинстве случаев имеет
место аберрация, суть которой состоит в непонимании псевдодискурсивного
характера философии и отождествлении её с тем дискурсом, который ей же
самой
копируется»
[Фаритов
URL:
http://phil.ulstu.ru/files/stat/faritov_
psevdodiskurs.pdf]. И именно в текстах подобного рода для интерпретации
смыслов, именно смысла, а не значения языковых единиц и не содержания
текста как такового, возможно привлекать не только ноэматическую
рефлексию, но и выходить на уровень феноменологической, повторяя путь
автора по порождению того или иного конструкта. В тех случаях, когда
результат такого подхода получает достойное оформление, мы будем иметь
дело с «осмысленным» отрефлектированным дискурсом, поясняющим всю
сложность и многомерность смыслореализации в текстах, построенных на
«языковой игре» или текстах потока сознания, где традиционные методы
семного и концептуального анализов оказываются неработающими.
187
Объекты ноэматического анализа во втором случае примерно те же, что в
первом: предикатная лексика, некоторые типы пропозиций, модальные
частицы. В качестве исходного материала используются многочисленные и
обширные диагностические контексты, которые могут быть взяты из текстов
или
же
сочинены
авторами.
Примеры
сопровождаются
развернутой
неформальной аргументацией, запись результатов близка к традиционной,
авторы апеллируют к языковому чутью и научной эрудиции читателя, здесь мы
имеем дело только с ноэматической рефлексией, неизбежной для понимания (в
герменевтическом смысле), часто интуитивного, смысла целостного текста и
отдельных языковых единиц. Подобный акт ноэматической рефлексии на луче
вовне имеет в качестве ключевого момента постоянное «присутствие» пары
«продуцент – реципиент», вместе с их целями, ценностями и внутренними
мирами, то есть включает и акт интендирования, и аспекты модальности и
субъективности. Соответственно, в центр внимания попадает проблема
интерпретации смысла.
Процедура
третьего
вида
ноэматического
анализа
иерархической
структуры отличается использованием любого языкового материала без
ограничений
(«конкретная»,
предикатная
лексика,
способы
выражения
модальности, метафора и т.д.). Метод анализа – феноменологическая рефлексия
на луче, направленном вовнутрь. Занимаясь сходными процедурами и совпадая
в представлении о результате, различные типы ноэматического анализа имеют
принципиально
разные
«теории
среднего
уровня»,
если
пользоваться
терминами Мертока.
Особо
выделяется данная
методика именно
тем что, вычленяя
собственный терминологический материал и методологический аппарат, не
отказывается от уже имеющихся наработок в этой области, однако включает в
уже существующие методы анализа ноэмы, представляющие собой кванты
смысла, открывающие путь к третьему уровню абстракции, включающему акты
интендирования, учет аспектов субъективности и модальности. В данном
случае мы получаем именно тот уровень, на котором осуществляется полное
188
понимание смысла текста как информативного и эмоционального планов, так и
обертонов
и
смысловых
коллизий,
интенциально
предусмотренных
продуцентом. Важность понимания смысловых обертонов в декодировании
признается многими учеными: «расшифровка смысла получаемой информации
(кода дискурса) является решающим аспектом успешной лингвистической
коммуникации, хотя коммуникативный процесс не заканчивается на обработке
структурных особенностей и декодирования информации» [Оломская 2010:
159].
Ноэматическая и феноменологическая рефлексии, осуществляемые в
рамках филологической феноменологической герменевтики, направлены на
максимальную
экспликацию
квантовых
мутаций
смысла
неязыкового
характера, аккумулированных как в общемыслительном, лингвокультурном,
так и в личностном пространстве. При анализе интенциально релевантных ноэм
в составе смысловой иерархической структуры необходимо базироваться на
собственной интерпретации, толковании, ведь анализ смысловых структур
всегда есть интерпретация, и интерпретация герменевтическая. Движение
ноэматической структуры смысла при образовании и функционировании
понятий в философском дискурсе при их восприятии, декодировании
имманентного смысла и интерпретации происходит, как это ни парадоксально
(в отличие от других типов номинации), не от образа к идее, но, наоборот, от
априорно заданного «доопытным путем» концепта к непосредственному опыту
восприятия перцепта. В процессе смыслопорождения при концептуализации
понятий и функционировании концептов культуры и познания на первый план
выступают периферийные ноэмы, именно новые деривационные модели,
интенция продуцента при порождении и реципиента при декодировании
смысла; их личностные дифференциальные маркеры концептуальности,
определяемые
ноэматикой
конкретного
индивидуума
и
конкретной
лингвокультуры, являются базовой конструкцией, на различных уровнях
которой и размещены доминантные, культурные и контекстуальные смыслы.
189
Кратко
приведем
те
трансформации,
которые
претерпевает
суперструктура при декодировании многогранного смысла в философском
дискурсе.
1.
Распредмечивание
граней
смыслов,
приписанных
объектам
мыследеятельности и постигаемых нами. Парадокс Шлейермахера гласит, что
интерпретатор / реципиент понимает текст более детально, чем продуцент.
Данная трансформация, как правило, базируется на константе фоновых знаний.
Рассмотрим некоторые новообразования, возникающие в ходе данной
трансформации
смысловой
структуры:
Хайдеггер
порождает
новые
содержательные единства параллельно к уже имеющимся. Но часты случаи,
когда автор обращает внимание лишь на новое слово, оставляя первое его
значение, имеющееся в узуальном употреблении, без внимания. Когда
Хайдеггер говорит: Beide Stimmungen, Furcht und Angst, be-stimmen je ein
Verstehen [Heidegger 1967: 344] – Оба настроения, страх и ужас, всегда
обусловливают
понимание,
соотв.
обусловлены
таковым,
–
то
новообразованное слово be-stimmen (на-страивать), in eine Stimmung versetzen
(придавать определенное на-строение) не должно означать каждое be-stimmen,
детерминанту, которая в основе своей является die Versetzung in eine Stimmung
(переход в определенное настроение). Это так называемое вынужденное
новообразование. Если речь идёт о Selb-ständigkeit (само-стоятельность) (в
связи с Standgewohnenhaben (наличие привычки) или же о Unselb-ständigkeit (несамо-стоятельность) (как противоположности к Standfestigkeit (устойчивость
/ стабильность), то становится ясным, что связь с обычным содержанием в
смысле Unabhängigkeit (независимость) и во втором случае Entschlusslosigkeit
(нерешительность) теряется. Вместо этого на первый план выходит
содержание, которое понимается из отдельных составных частей этого слова (в
смысле
die
Eigenschaft
des
Stehens
(свойство
стояния),
либо
как
противоположность der Mangel an dieser Eigenschaft (дефицит этого
свойства). Подобный опыт языкового разложения, похожий на химический
анализ элементов, так же свойствен языку М. Хайдеггера, как и синтез слова из
190
нескольких основ, которые частью ведут к образованию формально новых слов
частью
к
уже
объяснённым
и
использованным
содержательным
новообразованиям.
Кажется, что он использует следующие возможности языкового
выражения и все чаще обращается к подобному способу словообразования в
угоду профилю своего языка или стиля. В «Бытии и Времени» мы находим
такие известные образования, как Ent-fernung (от-даление) в смысле Näherung
(близость), Ge-stell (со-став) как некоторое коллективное образование к
глаголу
stellen,
Un-fug
(раз-лад)
как
Nicht-gefügtes
(не-слаженный/
несочлененный). Как мы видим уже на этих трех примерах, Хайдеггер не только
разделяет слово на составные части посредством написания через дефис и не
только сводит его к уже существующим, например, Ent(-)fernung и слитно, и
через дефис, но и синтетически образует совершенно новые слова с помощью
аффиксов, как, к примеру, Ge-stell (со-став), Un-fug (раз-лад). Можно сказать,
что слова, совпадающие с этими по звуковой форме, но имеющими другое
содержательное наполнение, замечаются нами лишь при новообразованиях
таких слов, как Ge-stell, Un-fug. У исследователя, который хорошо разбирается
в словарном запасе языка, возникает впечатление, что исходным пунктом для
новообразования служат уже имеющиеся в языке слова, однако при ближайшем
рассмотрении совершенно точно можно сказать, в каком направлении идёт это
словообразование. Если речь идёт об анализе, тогда содержание исходного
слова более или менее ясно, при синтезе же, напротив, содержание
формального параллельного слова отделяется от такового в новообразовании и
не несёт никакого сопутствующего значения.
2. Повторное распредмечивание смысловых структур в соответствии с
концептуально-валерной системой реципиента, данный вид трансформации
имеет в своей основе константу модальности. Как М. Хайдеггер поступает,
например,
с
понятием
Ekstase
(экстаз/восторг),
переразложенным
возрожденным в соответствии с интенцией автора, в его системе координат.
и
191
Ekstase понимается в норме как слово из области чувств, как, допустим,
Erregen (волнение), Freude (радость), Erschütterung (потрясение), но оно не
имеет ничего общего с хайдеггеровским Ek-stase, ek-statisch (эк-стазы
временности), которое строится из греческих слов как hinausstehen (выступать
/ выдаваться) рядом с Hinausstand (вы-сказывание) – термином для
трансцендентальной структуры человеческого суждения. Напротив, Ek-stase в
«Бытии и Времени» указывает на другой феномен – Zeitlichkeit (временность),
Хайдеггер сам указывает, что в основе его версии времени лежит
интерпретация Аристотеля того же явления. Таким образом, его термин Ekstase идёт от греческого слова.
В этом же ракурсе можно рассматривать и мышление об отношениях в
работах М. Хайдеггера, где он приводит одно из высказываний, показывая, что
думает об отношениях: Wir sind nicht, und wenn, dann nur selten und dabei kaum,
in der Lage, eine Beziehung, die zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Wesen waltet,
rein aus ihr selbst zu erfahren [Heidegger 1967: 188] – Мы практически никогда
не в состоянии понять отношения между вещами или сущностями, по крайней
мере из них самих), – очень характерно использование сочетаний типа
Beziehung waltet (Корреляция является определяющей / Отношения царят), они
(отношения) в этом смысле основываются на связи объектов-участников
отношений, лишь их надуманная или реальная активность порождает
отношения. Таким образом, становится ясно, что мышление об отношениях
есть динамическое мышление, которое должно искать способ выражения в
глагольной сфере. Здесь конвергируют два направления, область zwischen
(между, промежуточных) структур и отношений является самостоятельной, но
она лишь тогда мыслится сообразно её сущности, когда её внутренняя
подвижность так же берётся во внимание. Этот тип мышления присутствует в
важнейших понятиях экзистенциальной философии. Именно смена и динамика
смысла внутри суперконструкта является продуцирующей, наиважнейшей.
Интерпретируя экзистенциалистский текст, мы можем декодировать Sein
(Бытие) не как субстанцию в философском дискурсе экзистенциальной
192
направленности, а как высший принцип – это разница между этими двумя
состояниями. Sein west und währt nur [Heidegger 1976: 39] – Бытие лишь
существует как онтологически, так и во времени (Бытие есть время).
Das Nichts nichtet (НИЧТО ничто-жно) – эта формула есть сущностное
определение Nichts (НИЧТО).
Die Welt weltet (мир строит сам себя) в «Бытии и Времени» это означает:
Der Zusammenhang dieser Bezüge (Um-zu, Wozu, Dazu, Um-willen) wurde früher
als Bedeutsamkeit herausgestellt. Ihre Einheit macht das aus, was wir Welt nennen
[Heidegger 1967: 364] – Взаимозависимость этих отношений (ДЛЯ, ДЛЯ ЧЕГО,
ПОТОМУ, ИЗ-ЗА) ранее осознавалась как осмысленность. Их единство
позволяет нам воспринимать мир.
Sprache (язык) – нечто происходящее, подвижное, проектируемое его
сущность Sage (вы-сказывание). Die Sprache spricht (Язык говорит).
Это лишь намёки на то, что в точках кристаллизации (основных
понятиях) философского мышления царят всё та же динамика и движение, что
и в предметах конкретного анализа, как и в использовании языка для создания
философского дискурса. Если мы отойдём от языкового момента философского
смыслопорождения, то всё равно увидим, что попытка создания мышления,
которое так же резко уходит от всего предыдущего опыта текстообразования,
как и от главенствующего в наш век технического прогресса представлений,
всё же в его основополагающих феноменах не пытается преодолеть
существующее миропонимание.
3. Модификация/уточнение отношения актуализируемых квантов к
ситуации при неудачах в коммуникативном акте, исправление в результате
феноменологической
рефлексии.
Постоянное
обращение
к
некоему
непонятному, «вызывающему удивление» и иногда вводящему в состояние
измененного восприятия понятию, репрезентирующему многомерный смысл
(интенциальную амфиболию), позволяет выйти на новый уровень, виток в
герменевтическом круге интерпретации.
193
Но при движении по кругу и понимании последующих разъяснений
необходимо
происходит
изменение
в
восприятии
исходного
пункта
высказывания. В понимании Хайдеггера круг – основополагающая структура
любого понимания. Круг в этом смысле неизбежен. Из этого можно заключить,
что круг у Хайдеггера может выражаться не только в необычной форме, он
более затрагивает последовательность мыслей и предложений, которые могут
принимать форму нормальных повествовательных предложений.
У
Хайдеггера
построенных
мы
встречаем
множество
на «раскручивании» одного
примеров
предложений,
вопроса, анализе чрезмерно
увеличенного исходного пункта и возвращения к выводам традиционной
логики в связи с изучением языкового низложения металогического мышления.
Круговой процесс понимания находит своё выражение в нормальных формах,
но можно найти и яркие места в анализе больших периодов предложений.
Хайдеггер порождает новые содержательные единства параллельно к уже
имеющимся в узуальном языке или же давно обсуждавшимся в философском
узусе, подробно описывает и этимологически разлагает их в пассажах,
построенных на основании герменевтического круга и тем самым выводит
новые категоризованные понятия. Но часты и такие случаи, когда автор
обращает
внимание
лишь
на
новое,
ранее
сокрытое
в
содержании
переосмысленного конструкта, оставляя первое (словарное) его значение,
имеющееся в узуальном употреблении, без внимания. Перейдем к следующему
примеру:
Der griechische Ausdruck φαινόμενον, auf den der Terminus »Phänomen«
zurückgeht, leitet sich von dem Verbum φαίνεσθαι her, das bedeutet: sich zeigen;
φαινόμενον besagt daher: das, was sich zeigt, das Sichzeigende, das Offenbare;
φαίνεσθαι selbst ist eine mediale Bildung von φαίνω, an den Tag bringen, in die
Helle stellen; φαίνω gehört zum Stamm φα- wie φώς, das Licht, die Helle, d. h. das,
worin etwas offen-bar, an ihm selbst sichtbar werden kann. Als Bedeutung des
Ausdrucks »Phänomen« ist daher festzuhalten: das Sich-an-ihm-selbst-zeigende, das
Offenbare. Die φαινόμενα, »Phänomene«, sind dann die Gesamtheit dessen, was am
194
Tage liegt oder ans Licht gebracht werden kann, was die Griechen zuweilen einfach
mit τάδντα (das Seiende) identifizierten [Heidegger 1967: 28] – Греческое
выражение φαινόμενον, к которому восходит термин «феномен», производно
от глагола φαίνεσθαι, который означает: казать себя φαινόμενον означает
поэтому: то, что показывает себя, самокажущее, очевидное; само
φαίνεσθαι. – медиальная форма от φαίνω, выводить на свет, приводить к
ясности; φαίνω принадлежит к корню φα- как φώς свет, ясность, т.е. то, в
чем нечто обнаруживает себя, само по себе способно стать видимым. Как
значение выражения «феномен» надо поэтому фиксировать: само-по-себесебя-кажущее, очевидное, φαινόμενα «феномены» суть тогда совокупность
того, что лежит на свету или может быть выведено на свет, что греки
временами просто отождествляют с τά δντα (сущее).
Этот отрывок исходит из известного положения homo est animal rationale и
к этому же положению возвращается. Но оно понимается диалектически на
более высоком уровне. Однако всё размышление идёт по пути языкового
этимологического анализа, который посредством герменевтических ожиданий
направлен на одну цель. И всё же при чтении подобных отрывков невольно
приходишь к выводу, что мысль здесь определённым образом «раскачивается»,
усиливает колебания, похожие на те, что происходят при пуске индукционного
мотора.
Очень интересным и важным является слово Zeug (опредмеченное
внутреннее содержание в экзистенциальной философии Хайдеггера / вещь,
прибор, штука), оно употребляется сейчас пейоративно рядом с такими
словами, как Kram (хлам), krims-krams (ерунда, штуковина), либо как
спецтермин в языке модельеров, к примеру, для Tuche (ткань, сукно). Ещё
более оживляется его содержание в таких композиционных словах, как
Schreibzeug (письменные принадлежности), Spielzeug (игрушка) и т.д. В
средневерхненемецкий период это слово употреблялось и изолированно: ziug,
geziug. Хайдеггер изолировал компонент zeug в композитах и, более того,
возродил его изначальное, утерянное в конце средневерхненемецкого периода,
195
смысловое содержание, которое до этого сводилось лишь к словообразующему
суффиксу. Он использует его для обобщения в названии и характеристике
вещей, которые противостоят человеку в некоторой форме как аппараты,
инструменты,
суть
которых
–
служба
для
чего-либо,
полезность,
используемость.
Как только Хайдеггер объясняет характер Umzu (ДЛЯ) (предметной
используемости) этого Zeug, он может употреблять его для называния или
указания на предметы, которые имплицитно имеют этот смысл, а также
образовывать множественное число Zeuge (ВЕЩИ). Таким же образом,
консеквентно, очки есть Zeug для видения, телефонная трубка – это Zeug для
слушания и т.д.
Так же он создает и новые сложные слова с элементом zeug – это очень
удачный способ образования или переосмысления уже имеющегося слова.
Подобные случаи переосмысления наблюдаются у Хайдеггера в отношении
глаголов и прилагательных, но мы не будем их здесь описывать, назовём лишь
некоторые переосмысленные слова: festnehmen (удержать в сознании, понять),
zeitigen
(временить,
(«горизонтный»
быть
простор,
во
времени),
внутри
sein
которого
in
(быть-в),
непредвиденность
horizontal
может
застать присутствие врасплох) и другие.
Любая анализируемая языковая единица имеет чаще всего логично
организованную иерархическую структуру, состоящую из ядерных элементов и
связанных с ним через прототипические отношения производных элементов и
периферийных квантов ноэм. Следует говорить о некоем структурном фоне, на
базе которого происходит порождение новых смыслов, чаще всего путем
мутации старых, в зависимости от изменения положения той или иной ноэмы в
ядерной или периферийной структуре, в зависимости от актуализации
потенций в той или иной ноэме. Сумма всех частичных интерпретаций ноэм
будет достаточно полным семантическим описанием-объяснением языковой
единицы, однако без привлечения ноэматической и феноменологической
рефлексий с актами интендирования, аспектами модальности и субъективности
196
мы не получим полной структуры и так называемой карты ноэмной иерархии,
релевантных для определенного корпуса текстов и существенных для описания
ноэматики данной языковой единицы в данном типе дискурса.
Выводы по третьей главе
Рассмотрение общих принципов смыслопорождения в философском
дискурсе и описание сложных конструктов, вербализующих философский
многомерный неузуальный смысл, а также общих деривационных модели
смыслопорождения позволяют сделать следующие выводы:
1.
Смысл – это целостное представление, служащее выражением
завершенного понимания. Целостное в том смысле, что охватывает всю
структуру контента в целом, служит своеобразным его сжатым описанием и
составляет с контентом единое целое, поэтому во многих случаях смысл
присутствует в контенте как элемент его самоописания, как потенциальная
возможность реализации на низшем уровне ноэматической структуры.
2.
Мельчайшие кванты смысла (именно смысла) – ноэмы, усмотрение
которых в структуре смысла даёт ключ к процессу интендирования, к указанию
на топос в онтологической конструкции. Ноэма – это сама суть, сам
изначальный смысл отдельно взятого феномена. Она играет роль фактора,
направляющего луч рефлексии на топос реально воспринимаемой конструкции.
Некий
идеальный
состав
интенциально
релевантных
иерархически
структурированных ноэм, данный либо интуитивно по ноэматической
рефлексии, либо с опорой на феноменологическую рефлексию вовне, и
опредмеченный мир значений, денотатов, представленный как в объективной
реальности, так и в ментальных конструктах в виде мысленных образов и
представлений, абсолютно реален.
3.
Корректное образование смыслов, как и сама возможность их
наличия, связаны с использованием правильных техник интендирования, с
пониманием самого продуцента смысла и рефлексией его не только на первом
уровне абстракции, в отношении денотатов, но и на последующих уровнях –
при феноменологической филологической рефлексии над выраженным в знаках
197
и символах, текстах-ментальных-конструктах. Всё это обусловливает рождение
прото- и метасмыслов, нового в смысловой структуре, построение текстов на
грани и за гранью понимания. Их, однако, нельзя вывести из реально
существующих и видимых граней, но можно постичь, поднявшись над
метауровнем,
соблюдая
определённую
технику
интендирования.
Герменевтические витки вовне- и вовнутрь-идущих лучей феноменологической
рефлексии должны завершаться именно актами интендирования (приращением
субъективности,
модальности,
значимости),
непомерным
расширением
герменевтической ситуации («игрового» смыслопорождения, переразложением
этимологических основ, герменевтическим кругом и т.д.). Ситуативность,
субъективность, ноэматичность, модальность и интенциональность являются
главными условиями смыслопорождения и смыслодекодирования как акта
повторения и прохождения смыслопорождающего пути.
4.
Смыслы служат основой для образования значений, в том числе и
концептуальных. После закрепления значений язык начинает манипулировать
ими и их отношениями. Значения используются для образования производных
по отношению к ним структур контента и на этой основе служат для выработки
новых смыслов, в частности, еще более абстрактных.
5.
Движение смысла при образовании и функционировании метафоры
происходит (в отличие от других типов номинации) не от образа к идее, но,
наоборот,
от
априорно
заданного
«доопытным
путем»
концепта
к
непосредственному опыту восприятия перцепта. Процедурная особенность
метафоризации позволяет активно использовать метафору в философском
дискурсе, выстраивающем новую картину мира, где наиболее важными
аспектами
функционирования
метафоры
становятся
«присвоение»
и
«включение» номинируемого объекта (абстрактного или конкретного) в
определенные системы представлений и интерпретативные схемы. Метафора
наряду с другими средствами образует новую концептосферу, которую можно
рассматривать только в рамках конкретной мыслительной парадигмы.
198
6.
Игровое
смыслопорождение
опирается
на
когнитивно-
дискурсивные трансформации суперструктуры как целого ноэматического
конструкта, так и одной или нескольких из его полилатеральных частей в
отдельных узлах структуры. В этой связи правомерно рассматривать игровое
смыслопорождение как вид трансформационной модели общего философского
смыслопорождения. При допущении реального существования в едином
хронотопе всех структурированных ноэм и априорном учете множественности
и одновременности всех четырех хронотопов (по А. И. Милостивой)
[Milostivaja 2010: 199], потенциально реализованных в тексте, возможна их
парадигматическая виртуальная потенция и реальная актуализация, но только
при вербализации в парадоксальном игровом смыслопорождении.
7.
Любая
вербализующая
многомерный
смысл
единица
имеет
организованную иерархическую структуру, состоящую из ядерных элементов и
связанных с ним через прототипические отношения производных элементов и
периферийных квантов ноэм. Речь идет о структурном фоне, на базе которого
происходит порождение новых смыслов, путем мутации узуальных, в
зависимости от изменения положения той или иной ноэмы в ядерной или
периферийной подструктуре, в зависимости от актуализации потенций в той
или иной ноэме.
199
Глава V. Языковая картина мира, лингвокультура и смыслопорождение
4.1. Смыслопорождение на ультра- и гиперуровнях
При рассмотрении смыслопорождения на различных уровнях необходимо
учесть исследования Ж. Делёза, который дал исчерпывающий анализ
различным аспектам философских понятий Ультра-, Супра- и Гипер-Бытия и
возможностям
смыслопорождения
в
подобных
метаконструкциях
при
интерпретации и переводе последних. Данный аспект является работы наиболее
сложным из всех возможных для осмысления и производства. Он выходит за
грань чисто научных размышлений и недоступен мышлению лишь языковыми
средствами, а требует привлечения экстралингвистических феноменов.
В своих работах Ж. Делёз часто ссылается на Б. Спинозу в своих работах,
рассматривая вопрос Что есть философия, и рекомендует прочесть его книгу
«Экспрессионизм в философии Спинозы». Интересно то, что эта книга и книга
Г. В. Лейбница «Перелом» совершенно понятны даже непосвящённому
реципиенту, в то время как язык «главных» текстов Ж. Делёза, составивших
другие циклы, гораздо более сложен для восприятия.
Философия
Ж.
Делёза
представляется
образецом
философии
Первобытного Бытия. Жиль Делёз философ, пытающийся создать философию,
которую М. Мерло-Понти корректно назвал философией Первобытного Бытия.
Он не терпит никакой критики, ибо по его мнению любое критическое
рассмотрение является весьма поверхностным и не «осмысливающим» ту
сторону текстопорождения, которая скрыта от реципиента между строк. Оценка
метауровней Бытия позволяет утверждать, что существует минимум пять
метауровней Бытия, один из которых получил название Ультра-Бытие. Уже у
Ж. Делёз отмечаются некоторые намеки на частичное понимание Ультра-Бытия
и на то, что его философия не просто пример Первобытного Бытия. Его
философская концепуия является одной из самых сложных для понимания. Для
нас интересен тот факт, что Ж. Делёз обнаружил и детально прорабатывал
проблемы, которые находятся «на задворках» нашего мышления.
200
Например, в работах Ф. Ницше мы можем прочитать обе интерпретации –
и М. Хайдеггера и Ж. Делёза. Совершенно очевидно, что М. Хайдеггер толкует
Ф. Ницше, опираясь на второй метауровень Бытия, называя Желание Власти
Желанием Воли. Также очевидно, что Ж. Делёз интерпретирует Ф. Ницше,
обращаясь к понятию третьего метауровня Бытия, используя понятие «Желание
Необходимости Воли». Его подход к интерпретации Ницше на высшем
метауровне Бытия делает философию более глубокой, но в то же время
осложняет понимание. Его мышление как философа, работающего только с
Первобытным Бытием, на четвертом метауровне наиболее ясно проявляется в
его работах «Анти-Эдип» и «Тысяча Плато» в соавторстве с Гватари [Deleuze,
Guattari 1998]. Интересным является тот факт, что в работах самого Делёза не
указывается, что Ультра-Бытие существует как пятый метауровень Бытия.
Намеки на это содержатся между строк, и представляют собой один из видов
трансформации смысла, а именно аллюзивную амфиболию, прямо различия
Первобытного бытия и Ульта-Бытия смысловых конструктов не выделяются.
Именно этот факт позволяет порождать новые неузуальные смыслы, это то, что
чрезвычайно затрудняет восприятие и о-сознание, рождает мысль. Основным
же вопросом, при исследовании философии подобного рода, остается то, каким
образом, основываясь на каких фактах обьективной или рефлексивной
реальности, возможно выйти на этот пятый уровень? Этот наивысший
метауровень Бытия, который сам по себе немыслим в парадигме языкового
мышления, познаваем и по-мыслим лишь с учетом необходимости перехода в
королевство бессознательного, Ультра-Бытия. Для нас данное разграничение,
пусть даже имманентное, очень важно, потому что в наших исследованиях мы
рассматриваем происхождение концептов и
смыслопорождение
внутри
философского дискурса на различных уровнях и обнаруживаем, что любая
схема смыслопостроения по происхождению имеет природу Ультра-Бытия, и
замечаем, что истинное последовательное событие также имеет природу
Ультра-Бытия. Именно поэтому наиболее важным для нас было понять этот
наивысший уровень Бытия, потому что наши взгляды на язык философии
201
затрагивают вопрос о природе возникновения, а также природе схематизации, и
выяснилось, что Ультра-Бытие является общей доминантой для этих двух
понятий, этих двух феноменов, последовательных событий и явления
схематических уровней.
Стоит только начать рассматривать виды Бытия в философии как
метауровни, и сразу то, что до этого казалось путаницей, становится
кристально ясным. Истинное последовательное явление должно полностью
пройти все метауровни Бытия перед тем, как попасть в мир языка, но если
явление приходит в вербальный мир не этим путем, то оно является
искусственно созданным, имеющим отношение к нигилизму, и стремительно
распространяется в узусе, не имея возможности стать концептуализируемым
понятием, и тем самым теряет свою значимость. Истинное последовательное
явление расчищает площадку для нового упорядочения. С этого момента может
показаться, что существует всего четыре метауровня языкового Бытия,
предшествующих жизни в самом центре языкового Бытия на высших
метауровнях (пятый и более высокие уровни). Важно прежде всего осознать,
что языковое Бытие само по себе существует как реальное лишь на пятом
метауровне
Бытия.
Этот
вид
Бытия
и
был
тем
самым
истинным
последовательным явлением в самом его центре, что и делает его ключевым
видом Бытия, относящимся к схематизации и концептуализации.
Упомянем, что существует четыре метауровня языкового Бытия, включая
само Бытие, и еще один метауровень, который рассматривает Бытие как
внешнюю оболочку под названием Ультра-Бытие. Самые низшие уровни Бытия
– это: Чистое Бытие, Ультра-Бытие, Первобытное Бытие. Чистое Бытие – это
Бытие Парменида, а Бытие Процесса – это Бытие Геракла. М. Хайдеггер в
работе «Бытие и время» утверждает, что они одинаково первичны, и относит их
к видам, существующим в мире. М. Мерло-Понти в «Феноменологии
восприятия» связывает Чистое Бытие с присутствием в данный момент, а Бытие
Процесса – с готовым к действию, но где же тогда уровень мыследеятельности?
И когда открывается ящик Пандоры, мы понимаем, что существуют различные
202
виды бытия-в-мире, и возникает следующий вопрос: сколько всего видов
бытия-в-мире? Ответ: четыре. За пределами Чистого Бытия и Бытия Процесса
существуют два вида бытия-в-мире: Ультра-Бытие и Первобытное Бытие. М.
Хайдеггер обнаружил Гипер-Бытие и назвал его Вот-бытие (по переводу В.В.
Бибихина).
М. Мерло-Понти в конце своего труда «Феноменология восприятия»
говорит о возможности распространения бытия-в-мире, которое можно назвать
находящимся
в
стадии
рассмотрения,
и
если
бытие-в-мире
может
увеличиваться, тогда мы можем предполагать, что оно также может
сокращаться, чтобы создать новую модальность, которую по аналогии
обозначим как завершенное. Эти два дальнейших вида бытия-в-мире в мире
смыслов можно связать со значением и осуществлением. М. Мерло-Понти в
своей незаконченной работе «Видимое и Невидимое», в которой раскрывается
идея
Первобытного
Бытия,
находящегося
за
Гипер-Диалектикой
хайдеггеровского Бытия Процесса и небытия Ж.-П. Сартра, упоминает о этих
двух формах существования Бытия, но не даёт этому явлению ясного
определения. Это и есть наивысшее бытие-в-мире смыслов, и мы полагаем, что
Делез развивал именно эту идею в своих работах «Анти-Эдип» и «Тысяча
Плато».
Если мы сравним, например, комбинацию слов «чувствующая мысль» и
«мыслящее чувство», то увидим, что значение их различно. Эта минимальная
разница в смысле является минимальным значением, которое может выявляться
за пределами мыслимого в рамках языкового Бытия. Но эзотерические понятия,
с другой стороны, иногда сами определяют немыслимое. Они формируют
особый вид неясного языка, в котором мы определяем немыслимое как крайне
неестественное. Мы обнаружили и слова-гибриды, и эзотерические понятия в
поэме Кристофера Смарта «Возвеселитесь во Агнце» (1939). Мы также
обнаружили особенность, благодаря которой две последовательности (серии)
могут пересекаться: специфические языковые формы в каждой первой строчке
поэмы. Язык – это пункт, в котором парадоксально соприкасаются две
203
последовательности (серии). Но мы также должны учитывать барьер между
двумя сериями, который является рациональным; различия между двумя
листами бумаги, на которых написаны утверждения «за» и «против». Это и есть
та самая не-прерывность на поверхности между двумя листами бумаги, которая
представляет собой немыслимое. Мы наблюдаем это в древней английской
поэзии, например, в Беовульфе ближе к концу поэмы. Разрыв сам по себе
немыслим, но именно он разделяет начало двух серий, и это является тем
средством, которое пробивает брешь в парадоксе, как единство, которое
объединяет
две
серии.
Примечательно
то,
что
язык
исключительно
индивидуализирован с первых же строк в первой серии из цикла «Let». Но
прерывность между циклами «For» и «Let» никогда не изменялась, когда
парадоксальные или алломорфные элементы образовывались в пределах серии.
Иначе говоря, в контексте с минимальной разницей в значении, которая
исходит из минимальных синтаксических изменений неосмысленного, мы
можем указать на его схожесть с эзотерическим именем. Таким образом,
контаминация как эзотерическое понятие, не объясняется Ж. Делёзом, но она
встречается в контексте проницательных стихотворений. Контаминация дает
нам минимальное значение за пределами неосмысленного отличия, которое
определяется
в
неоднородности
между
«Let»
и
«For»,
позволяющей
сопоставлять элементы, – нечто вроде супра-рациональности и парадокса.
Понимание парадокса и супрарациональности соответствует осмыслению
эволюции от Первобытного Бытия к Супра-Бытию.
Супрарациональность – это абсолютная изолированность противоречий
без каких-либо взаимодействий друг с другом. Двигаясь от стандартной
линейной математики к возможности видеть корень явлений, мы переходим от
репрезентативной к нерепрезентативной интеллигибельности. Результатом
нерепрезентативности
является
одновременность
противоречий
столкновений и вмешательств в рождающийся самостоятельно смысл.
без
204
Языковое Бытие может интерпретироваться как пустота или вакуум.
Однако Гипер-Бытие является ненигилистическим отличием между двумя
интерпретациями недвойственности.
Смысл, как утверждает Ж. Делёз в «Логике смыслов», проявляется
относительно парадокса. Но мы бы уточнили, что значение, в отличие от
обозначения или восприятия, обнаруживает себя относительно супрарациональной недуальности. Итак, можно предположить, что значение – это то,
чем явление обладает в изоляции относительно других, если рассматривать его
на фоне супрарациональных отношений. Обозначение отличается и от смысла,
и от значения. Ж. Делёз занимался проблемой логики смыслов, но не
проблемой
логики
значений,
то
есть
семантикой
отношений
к
супрарациональному вместо парадокса.
Чтобы понять идеи Делёза и его теорию смыслов, нам следует обратиться
к другой дефиниции, то есть к значению, но в ином ракурсе, а именно нам
нужно создать новую последовательность, которая берёт в оборот всю
конструкцию разделённых рядов, и не рассматривает её однобоко. Пустота и
вакуум – это два главных понятия недуальности. Мы только можем
рассматривать их как интерпретации одного понятия при сопоставлении двух
противоположных понятий данных рядов, то есть парадокса и супрарационализма. Они появляются как нарушение, и только потом мы начинаем
понимать, что здесь больше глубинной недуальности, чем пустоты и вакуума,
которые также являются нарушением непрерывности в отдельных рядах среди
докса и рацио. Ж. Делёз назвал это выражением, нам представляется более
адекватным и логичным название «демонстрациея». Выражение – это явление
недуальности с вкраплениями разделенных рядов. Демонстрация – это явление
недуальности в рядус нарушениями непрерывности, то есть демонстрация
является супрарациональной, а выражение – парадоксально. Мы полагаем, что
демонстрация и выражение – это не одно и то же, но компоненты как одного,
так и другого относятся к доксе и рацио. Выражение образуется на более
низких метауровнях существования внутри докса и рацио и вместе с
205
интервалами. Однако смысл может употребляться в его значении, если он будет
отличаться от значения, порождённого недуальностью, то есть пустотой,
вакуумом или глубинной недуальностью манифестации. Но, с другой стороны,
значение может употребляться напрямую, ничем не опосредованно. Речь идет о
значении основанном на смысле. «Смысл исключает предположение» – таково
мнение Ж. Делёза. Смысл обозначает, с одной стороны, такие понятия, как
простой смысл и общий смысл, а с другой – восприятие и ясность. Значение
можно представить как процесс отделки, который создает нарушение
непрерывности, является немыслимым и неэкспериментальным, но без
парадокса и противоположных ему элементов. Значение создаёт нарушение
непрерывности и тем самым основу для существования смысла. Сейчас два
этих понятия отличаются от обозначения и семантики, которая является
отрицательной как в синтаксисе, так и в контексте [Делёз 1998].
Ж. Делёз нечетко определяет различия между смыслом и значением,
между парадоксом и супрарациональной недуальностью как основами. Это
происходит потому, что он работает в рамках, поставленных ещё Аристотелем,
и в соответствии с принципом исключения середины и непротиворечивости.
Делёз осознавал, что данное ограничение существует, и пытался схематически
изобразить это.
Первобытное Бытие – то, что стирается и снова наносится на
поверхность Ультра-Бытия.
Когда мир исчезнет, тогда отдельные виды фрагмента Бытия ненадолго
создадут образ мира, который совмещает вместе все виды Бытия. Когда
«мыслимое» разбивается, пере-о-смысливается и рассматриваются все его
объективно действующие элементы в структуре, все метауровни Бытия, мы в
итоге подходим к сути «немыслимого», к антиабстрактному ядру концепта,
обнаженной единичности. В алхимии это называется Sol Niger – черное солнце.
Когда мы смотрим на солнце, мы слепнем. Эта слепота есть темная сторона
слишком яркого Солнца Блага.
206
Это те границы мышления, которые Ж. Делёз исследует. Проблема в том,
что не всегда возможно чётко осознать, о каком понятии он говорит в каждом
конкретном пассаже. Языковое Бытие исчезает таким способом, который не
признал Ж. Делез. Отчасти Ж. Делез не видит этого исчезновения потому, что
он не разграничивает смысл и значение, то есть парадокс и сверхрациональное.
У Сартра мы встречаем смешанную группу, но не находим сверхрациональной
группы, имеющей противоречия, которые, видимо, изолированы и эффективны
в одно и то же время. У Сартра отсутствует понятий «сверхрациональной
группы».
Это
и
называется
пятым
метауровнем
Бытия,
где
пара-
последовательность и пара-законченность являются воплощением тетралеммы
(А, ~А, ничто не указывает на пустоту). Работа Делеза пронизана Сверхрациональным. Работа о логике смысла пронизана логикой значения. Он
постоянно говорит о двух понятиях, но не о прерывности между двумя этапами
(Let… For…),которые допускают значение в смысле.
Ж. Делёз переходит на следующую ступень и допускает, что Парадокс
должен иметь функцию, которая рассматривает бессмыслицу как нечто
полезное, служащее фоном для Смысла. Если за основу восприятия
метауровней Бытия мы возьмем Теорию Высших Логических Типов Б. Рассела
и Уайтхеда, то мы сможем четко определить, почему Ж. Делёз сомневался и,
таким образом, придать значение его пониманию смысла. Значение появляется
из неоднородностей в области Смысла.
Делез увидел, что эта группа, как рой инкапсулированных монад, не
просто существует в мире, но еще и в самой себе. Ж. Делез увидел слияние
сплавленной группы как парадокс, и этот парадокс ясно сформулировал
недвойственное значение в мире и дал смысл всему миру.
4.2. Языковая картина мира и ноэматика
Особый интерес на данном этапе исследования представляют отдельные
аспекты зависимости ноэматической структуры смысла от различных языковых
картин мира.
207
Анна Вежбицкая в работе «Японские культурные сценарии: психология и
«грамматика» культуры» пишет: «К задаче описания культуры можно
подходить по-разному, но мне кажется, что один из наиболее эффективных и
показательных
способов
ее
решения
состоит
в
том,
чтобы,
следуя
лингвистической модели, описать «ключевые слова» (воплощающие ключевые
для данного общества культурные концепты) и «грамматику культуры» – то
есть
интуитивные
законы,
формирующие
особенности
мышления,
чувствования, речи и взаимодействия людей» [Вежбицкая 2001: 123].
Н. Н. Ефремов указывает, что у носителей тюркских языков наблюдается
относительно ярко выраженное субстанционально-функциональное, а также
детализирующе-функциональное языковое мышление [Ефремов 1998:14–20].
В рассмотрении вопроса о языковой картине мира концентрированно
выражена главная задача по взаимообъединению разнородных семиотических
конструктов – языка и культуры. Сложность этого кроется в парадоксе попытки
включения мира культуры в естественный язык, ведь объектом коммуникации
выступает
реальный
мир
и
непредметная
рефлексивная
реальность,
репрезентированная в знаковых формах, и в то же время культура включает в
себя язык как важнейшую компоненту.
Джеймс Харрис в XII веке в работе «Hermes, or a philosophical inquiry
concerning Universal Grammar» (Harris J. 1971) говорит о том, что каждый язык
является особой картиной мира, состоящей из универсальных, общих идей и
идиоэтнических, особых идей, которые и представляют собой гений языка
[Harris 1971: 330]. К подобным выводам автор приходит в результате изучения
различных способов и средств вербализации конкретного универсального
грамматического понятия, данные средства являются различными в каждом
конкретном
языке
и
лингвокультуре,
а
потому
закономерна
идея
различающихся картин мира.
Понятие «языковая картина мира», как известно, восходит к идеям
Вильгельма фон Гумбольдта: «…Мышление не просто зависит от языка
вообще, оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным
208
языком»; «…условия и причины различия языков – в различии «духа народа»
[Гумбольдт 1984: 317].
В. фон Гумбольдт приписывает языку созидающую силу, которая создаёт
благодаря своей классифицирующей и структурирующей роли своеобразный
мир языковых содержаний. Для упорядочивания некоего хаотичного опыта при
структурировании и формировании целостной картины мира в процессе
мышления и по-знания в конкретном языке и лингвокультуре творческое
начало в языке является примарным.
А.А. Потебня подчеркивал, что язык есть средство не выражения уже
готовой мысли, а средство создания ее: «…язык мыслим только как средство
(или, точнее, как система средств), видоизменяющее создание мысли: его
невозможно было бы понять, как выражение готовой мысли» [Потебня 1989:
31]. Говоря о реализации значения слова в речи, А.А. Потебня пишет: «Слово в
речи каждый раз соответствует одному акту мысли, а не нескольким, т.е.
каждый раз, как произносится или понимается, имеет не более одного
значения» [Потебня 1989: 53]. Однако с этим можно поспорить в свете
многоуровневости смысла, например в философском тексте.
Между человеком и действительностью Л. Вайсгербер помещает
«посредствующий мир мышления» и язык. Восприятие мира, по Л.
Вайсгерберу, осуществляется мышлением, но с участием средств родного
языка. Способ же отражения действительности носит у Л. Вайсгербера
идиоэтнический характер и соответствует статичной стороне языка.
Понятие Вайсгербера «языковой промежуточный мир» (sprachliche
Zwischenwelt), которое имеет в своей основе внутреннюю форму языка,
репрезентируется как свойственная родному языку «картина мира» (Weltbild),
это есть некая структурирующая мир инстанция духовного порядка,
содержащая
«монады
смысла»,
которые
реализуются
в
различных
высказываниях (для нас это ноэмы), данные монады идеального связывают
объективную и рефлексивную реальность, структурируя и конституируя
209
процесс миро-по-знания посредством естественного языка, в процессе
«вербализации мира» (Worten der Welt) путём понятийного развёртывания.
Так, Хуго Шухардт подчеркивал зависимость развития значения понятия
от некоей имманентной мотивировки, которая мотивируется актуальностью
условий, порождения, переосмысления и фиксации смысла в различных
значениях, а развивались они, как мы можем предположить, на основе тех
смыслов, которые реализовывались в речи (благодаря различным видам
мутации смысла на основе уже имеющихся в потенции ноэм).
Целый сонм проблем логики символов, оснований математики и анализа
языка в пределах логики является сферой внимания Л. Витгенштейна в его
работах. Интереснейшие идеи Г. Фреге, Б. Рассела и др. побуждают к
рассмотрению Витгенштейном максимально универсальной и логически
верифицируемой модели языка, структурно целостной матрицы предложения
как базовой структуры любого высказывания. Разработанная Л. Витгенштейном
концепция базировалась на трех принципах: 1) толкование предметных
терминов языка как имен объектов; 2) элементарные высказывания как
логические
(логические
картины
простейших
комбинации
соответствующих
им
ситуаций;
элементарных
комплексных
3) сложные высказывания
высказываний)
ситуаций.
как
Важнейший
картины
тезис
Л.
Витгенштейна «значение слова есть его употребление» соответствует мысли о
том, что первичную роль в формировании, развитии и закреплении значения
играет смысл (а его иерархическая структура формируется ноэмами).
Э. Сепир и Б. Уорф, с одной стороны, разграничивают понятия «картина
мира» и «языковая картина мира», но с другой стороны, указывают на их
тесную взаимосвязь. «Наивно думать, что можно понять основные принципы
некоторой культуры на основе чистого наблюдения, без того ориентира,
каковым является языковой символизм, только и делающий эти принципы
значимыми для общества и понятными ему» [Сепир 1993: 261].
В последние десятилетия проблематика, связанная с понятиями «картина
мира», «языковая картина мира», начала рассматриваться в обособленных
210
лингвистических областях, например, в когнитологии. Так, А. Г. Баранов
говорит об индивидуальной когнитивной системе, которая состоит из двух
ступеней: 1) фиксирование когнитивными моделями стереотипных ситуаций,
отражающих субъективный опыт индивида; 2) введение новой информации,
переработка, образование новых познавательных структур (оперативный
уровень)
[Баранов
1993].
О.
Л.
Каменская
оперирует
понятиями
«концептуальная картина мира» и «концептуальная система», под которыми
понимается совокупность моделей, структурирующих знание о мире. Но
помимо знаний, мышление индивида включает и мнение его о действительном
и виртуальном мирах [Каменская 1990]. В.А. Пищальникова считает понятия
«концептуальная картина мира», «языковая картина мира» синонимичными и
предлагает
включать
в
понятие
языковой
картины
мира
не
только
«стереотипные способы языковой репрезентации мышления, а скорее,
принципиальную возможность вербализации любого содержания мышления»
[Пищальникова 2001: 484–489]. З. Х. Бижева относительно соотношения общей
и языковой картин мира заключает следующее: «Картина мира подвижна и
изменяется по мере освоения человеком действительности; языковая картина
мира изменяется вместе с общей картиной мира, так как изменения в
понимании мира человеком отражаются в языке. Одновременно возможно и
обратное: язык влияет на общую картину мира, предопределяя ее развитие»
[Бижева 2000: 4].
В. Г. Наумов предлагает разграничивать понятия «языковая картина
мира» и «речевая картина мира», подчеркивая, что такое различение способно
уточнить, например, «…статус лексического значения в словаре и в тексте,
понятие коннотации, лексического фона, значения мотивационного комплекса
и др.» [Наумов 1998]. Именно здесь мы можем усмотреть действие ноэм как
мельчайших квантов структуры смысла.
В данном ракурсе мы опишем возможности смыслопорождения в
наиболее
часто
встречающихся
философских
концептах
отличной
от
стандартной модели философствования иероглифической лингвокультуре
211
(например, в японской). Это позволит проанализировать ноэматическую
структуру в связи с понятием языковой картины мира.
Одним
из
ядерных
концептуализированных
понятий
японской
философии является понятие «души», её в этом ракурсе можно сравнивать с
понятием М. Хайдеггера Dasein (как некоего контекстуального синонима к
Mensch): 人は 身重 溶離 心 хито-ва миэ ёри кокоро – человек – это не внешний
вид, а сердце/душа. Дух и тело не противопоставляются, они едины, как едино
бытие и язык, данное единство интерпретируется сходным
– 心身 синсин,
буквально сердце/душа-тело [Гуревич 2001: 276].
Необходимо включение в интерпретируемое категоризируемое понятие
следующих элементов смысловой структуры, иначе вся многомерность смысла
данного смыслового конструкта не будет представлена: 心 кокоро - сердце,
душа. Данная ноэма в иероглифической лингвокультуре выступает в связи с
ассоциированным рядом многокомпонентных понятий с вербализацией в том
же иероглифе как компоненте сложной структуры:
心優しさ кокороясасиса – доброта
信心 синдзин – вера (первый иероглиф предельно связан со знаковостью,
вербализацией 信 син – сигнал (знак доверия и истинности, всегда только
индивидуальный))
良心 рёсин – совесть
無心 мусин – наивность, чистая душа
В
этом
аспекте
важно
приписывание
некоего
идеального
как
составляющей данного концептуализированного конструкта: 唯心の浄土 maдa
кокоро-но дзёдо – только в сердце самого человека.
Догмат Дзен – не опираться на знаки, сообщать учение вне догматов,
прямо обращаться к сердцу человека, к его природе, которая и есть Будда –
исключает, казалось бы, вербализованное представление о душе, но, углубляясь
в понимание его как герменевтического принципа, мы закономерно приходим к
выводу о знаковости не в привычном понимании, а в понимании
212
трансцендентном, сравнимом в данной ипостаси с герменевтическим подходом
к языку у М. Хайдеггера.
Герменевтическое понимание предполагает работу со смыслом, а значит,
работу с языком. Для немецкой философии, а точнее для М. Хайдеггера слово
(естественный язык) в виде «воплощенной речи» (Sprachlichkeit) является
выражением бытийности и самим бытием как таковым. Близость герменевтики
Хайдеггера к восточным практикам проявляется и в данном вопросе, Дзэн есть
высшая истина, т.е. бытие, традиции же 道 ти Дао-пути являются
принципиально невербализуемыми (несемиотичными), язык в данном случае
есть лишь средство по-знания его посредством парадоксальной репрезентации:
«Слова нужны, чтобы постичь смысл; когда смысл понят, о словах можно
забыть» [Торчинов 1995: 92-94], – этот подход перекликается с философией
обыденного языка М. Хайдеггера.
Так, в современном китайском языке существует понятие 文化 вэньхуа (в
современном языке означающее культуру как таковую), но если рассматривать
этот
композит
этимологически,
мы
получим
толкование
化
(хуа)
(преобразование, изменение, влияние) с помощью некоего письменного знака
文 (вэнь), лингвокультура основанная на иероглифике, совершенно по-другому,
нежели западное мышление, понимает репрезентативную функцию языка.
Онтологизация
и
концептуализация
данного
понятия
в
восточных
лингвокультурах происходит в рефлексивном мышлении – и общее его
содержание можно раскрыть как общий базовый конструкт вселенной и бытия,
его «узорность» (структурированность в виде иероглифического знака).
Иероглифика представляет собой особый способ в смыслопорождении,
неизмеримо больший, чем существует в языках понятийных (слияние квантов
смысла,
с
графической
репрезентацией
в
ключах
иероглифов
и
комбинировании знаков), конструирование новых неузуальных смыслов как
рефлексивных актов есть одновременная вербализация и фиксация их в
иероглифике.
Сам
суперконструкт
сложного
иероглифа
как
некоей
213
иерархической структуры базовых элементов, репрезентирует структуру
смысловости: каждая сема репрезентирована и каждая ноэма зрится в
конструкте, что предоставляет практически неогриниченные возможности для
интерпретации и открытия новых горизонтов смыслопорождения.
«этиосинологии»
Э.
наблюдаемых
эмпирическом
в
Фенеллозы
открываются
опыте
новые
граней
пространства
смысла.
В
не
Включенность
Хайдеггеровского смысло- и слово-творчества в вертикальный контекст
герменевтики абсолютно не противоречит и коррелирует с таковым в
иереглифических лингвокультурах, что есть попытка этимологического
переразложения
как
базы
порождения
новых
смысловых
структур,
«освобождения смысла от оков языка», раскрытия его непосредственного
бытийного, язык и бытие есть две стороны одного феномена, это и есть
Sprachlichkeit. Но для М. Хайдеггера примарностью по отношению к
письменному тексту обладает устная речь, тогда как в иероглифических
лингвокультурах мы наблюдаем обратное. Зрительное восприятие некоего
сакрального узора вселенной для иероглифической традиции более характерно,
чем для западноевропейского философствования, что, однако, не нивелирует
параллелей между герменевтикой вскрытия смысловых пластов у М.
Хайдеггера и отношением к языку в восточных культурах.
Исследуя возможности употребления понятия 心 кокоро, мы приходим к
выводу, что в данном конструкте репрезентируются лишь положительные
коннотации, он не используется для выражения негативных эмоций.
В тексте как составляющей дискурса для японской лингвокультуры
характерно наличие духа автора (души, сердца) う心 усин, или же его
отсутствие, в случае деструкции смысла (отсутствия констант интенциальности
и субъективности) 無心 мусин, интересно, что данное понятие означает и
чистую, незапятнанную душу (чистый лист, очищенное концептуальновалерное поле).
214
В ряд ноэм, характеризующих и структурирующих 心身 синсин,
необходимо внести и часто действующее в качестве эквивалента 心 кокоро 腹
хара
(как внутренней сущности человека 腸 харавата), которое, однако,
включается в практику словоупотребления с негативными коннотациями:
腹は朽さる хара-га кусару, и харавата-га кусару – человек с гнильцой,
испорченный человек. Понятие 腹 хара репрезентирует и феномен тайных
мыслей, а потому может сближаться по своим ноэматическим характеристикам
с по-знинием: 腹に一物 хара-ни итимоцу – замышлять что-либо, и другой
своей
периферийной
ноэмной
характеристикой,
опосредованной
контекстуальной связью с глагольным понятием структурации и иерархической
организации 据える
суэру – устанавливать, приводить в надлежащее
состояние, оно актуализирует ядерные ноэмы понятия 胆 кимо – печень,
является физиологической репрезентацией смелости и мужества в японской
лингвокультуре, хотя данное понятие как и кокоро не является термином
анатомии: 胆の太い кимо-га оокий – смелый, отважный.
Анализируя
правилосообразное
узуальное
использование
понятий,
вербализующих концепт духа/души в японской лингвокультуре можно сделать
вывод о традиционности наполнения неких предметов и явлений объективной
реальности неким духовным началом. Таким образом, объективизация познания и работа со знанием как таковым происходит и в объективной, и в
рефлексивной реальности одновременно, наполняя мир смыслом.
腹を読 Хара-о ёму понимается как по-знание и о-со-знание мыслей,
образа мышления кого-либо, но и восприятие в японской лингвокультуре
единства материального и идеального, синтеза тела и души, где каждое из
категоризованных понятий находит одну из своих ипостасей в другом и все
являются примерами единого сонма ноэм с актуализацией в ядерной узловой
струтуре тех или иных участков этой иерархии, выстраивая смысл каждый раз
по-новому.
215
Учитывая
все
вышеизложенное,
можно
заключить,
что
ноэма,
рассматриваемая с позиций лингвокультуры и языковой картины мира, есть
непосредственное выражение глубинных элементов и систем организации
смысла. Иначе говоря, ноэмы, составляющие глубинную структуру смысла, –
это
компоненты,
посредством
которых
осуществляется
культурнообусловленная концептуализация реальности.
4.3. Смыслопорождение и концептуализация мира (когнитивный аспект)
С развитием лингвистики в рамках изменения всей парадигмы
гуманитарных наук вскрывается невозможность подхода к языку как к некой
абстрактной сущности, безотносительно к таким феноменам культуры и
познания, формирующим вертикальный контекст дискурсообразования, как
социальная история, феноменология, когнитивистика и герменевтика.
В предыдущих разделах уже шла речь о процессах, которые являются
определяющими при анализе смыслопорождающих механизмов, а также
процессах и условиях самого существования смысла.
Наиболее востребованной в современном языкознании становится
когнитивная теория функционирования языка, имеющая в качестве своего
инструментария такие базовые понятия, как фонд знаний, когнитивная модель,
концептосфера, фрейм, обработка информации, скрипт и т.д., яркими
представителями данной концепции являются Т. Гивон, В. Раскин, Ч. Филлмор,
Ж. Пиаже, Р. Шенк, Дж. Лакофф, В. Демьянков, Е. Кубрякова, Р. Абельсон и
др. Безусловно, новый подход к изучению смыслопорождающих механизмов на
разных уровнях языка в процессе порождения текста, названный нами
филологической феноменологической герменевтикой, никак не опровергает тех
результатов, которые были достигнуты в рамках когнитивной лингвистики и
других направлений, это лишь попытка систематизировать и привести к
общему знаменателю методологический аппарат когнитивной лингвистики,
феноменологии и герменевтики и построить более стройную концепцию
смысла. Это еще один способ углубления в суть смыслопорождения и скрытых
потенций речепроизводства как проявления мышления на грани и за границами
216
языка, исследование текстопостроения и смыслопорождения с позиций
продуцента и реципиента с включением в сферу анализа актов интендирования,
маркеров субъективности, ситуативности, о которых говорилось ранее. «Как
мы сегодня хорошо понимаем, язык – лишь небольшая часть того целостного
явления, которое мы стремимся познать», – пишут В. И. Герасимов и В. В.
Петров во вступительной статье к одному из выпусков серии «Новое в
зарубежной лингвистике» [Герасимов 1988: 5–6]. Возможность языковой
единицы иметь какой-либо смысл, быть «осмысленной» в тексте происходит не
по факту приписывания ей значения в языковой системе, не по прямой или
опосредованной связи с внешним миром, а в силу того, что их можно и
необходимо
рассматривать
в
соотнесении
с опытом,
как
отдельного
индивидуума, так и лингвокультурной общности, со всеми актами присущими
персонализации смысла. Построение нового смысла происходит не на пустом
месте, а на базе того опыта ноэматической рефлексии, которой он уже
располагает, и с привлечением феноменологической рефлексии. Кроме уже
имеющихся источников узуальных деривационных смысловых моделей,
строящихся на базе ноэматической рефлексии, в философском тексте при
порождении нового терминологического аппарата или переосмыслении уже
имеющегося появляются окказиональные дериваты, и это настоящее, свободное
смыслопорождение на третьем уровне абстракции, которое и нужно изучать с
позиций когнитологии. По мысли К. С. Льюиса, нет никакого другого опыта,
кроме неких чувственных данных и «наших собственных вкладываемых»
значений, однако здесь мы вынуждены не согласиться и приписать значения
лингвокультурному опыту, а частное порождение и декодирование – именно
феноменологической
рефлексии
над
многогранными
ноэмами
внутри
структуры смысла, а никак не значения. Научное знание, получаемое через
эмпирический опыт, должно лежать на одном полюсе, а всё остальное,
полученное в результате априорных данностей, на идущем вовнутрь луче
рефлексии
должно
составлять
другой
полюс
личностных
смыслов
217
(иерархически структурированных конструктов из интенциально релевантных
граней некоего набора ноэм).
Участвуя в разнообразных актах коммуникации, индивид, выступающий
то как продуцент, то как реципиент, производит либо феноменологическую,
либо ноэматическую рефлексию (однако индивид – в данной ситуации, в
данный конкретный момент и в данном конкретном состоянии сознания). Если
в первом случае это чистый герменевтический акт, то во втором к
герменевтическому
пониманию
примешиваются
когнитивные
и
феноменологические процессы, поскольку здесь важно не только знание о
языка и о языке. В их число входят и акты интендирования, модальности,
смыслополагания, смыслопостроения и т.д. При этом ни одному из актов и
процессов нельзя отдать предпочтение. Изучение способов взаимодействия,
взаимопроникновения и мутации всех типов актов и процессов дает нам
понимание процессов смыслопорождения.
Одним из ведущих направлений в когнитивистике является изучение
знаний, используемых в ходе языкового общения; для нас использование
оперативных и фоновых знаний в процессе смыслопорождения также играет
решающую роль. Процессы, задействованные в переработке информационных
потоков (накопление её и использование), включаются в сферу вопросов
когнитивного знания примерно с середины 70-х годов прошлого века.
Главные вопросы в рамках когнитивного подхода к смыслопорождающим
механизмам, релевантные для нашей работы, – следующие: 1) структуры
репрезентации вариативных типов по-знания и со-знания; 2) способы и средства
организации по-знания и со-знания в герменевтических процессах понимания и
построения языковых сообщений, причём концептуализации может быть
подвергнута любая иерархически структурированная ноэмная структура
смысла в каждом конкретном тексте. По мнению представителей когнитивной
лингвистики, эксплицитно выраженные знания составляют незначительную
часть общей базы знаний индивида. Что самое важное, она не статичное
«хранилище», а динамичная самоорганизующаяся и саморегулируемая система.
218
Как подчеркивает Ч. Филлмор, исследователи, работающие в области
лингвистической семантики, считают, «что их задача состоит в установлении
чисто лингвистической информации относительно значений слов и что в
принципе вполне возможно провести разграничения между словарем и
энциклопедией» [Филлмор 1983: 117]. Для нас работа в системе семантики
предполагает прежде всего переход от значения к смыслу, а значит, область
ноэматики. Более справедливым Ч. Филлмору кажется следующее: «…в мире
существуют вещи, типичные виды наблюдаемых событий, институты и
культурные ценности, делающие возможной интерпретацию человеческих
поступков. Для большей части словаря наших языков единственная форма, в
которой может даваться определение, заключается в указании на эти вещи,
действия и институты и в установлении слов, обозначающих и описывающих
их части и виды» [Филлмор 1983: 117–118]. Ч. Филлмор не считает, что нельзя
разграничить роли лексикографа и составителя энциклопедий, однако он также
не уверен, что абсолютно все знания говорящего о слове могут быть собраны и
представлены в словаре. «Наиболее полезный практический словарь <…> будет
обращаться просто к знанию читателя о мире, предоставляя ему достаточно
информации в том случае, когда он не в состоянии понять предложения,
содержащего данное слово, а словарное определение не может помочь ему»
[там же: 118]. Далее Ч. Филлмор подчеркивает, что «любая попытка соотнести
знание человеком значений слова со способностью интерпретации текстов
неизбежно приведет к признанию важности внеязыковой информации в
процессе интерпретации» [там же], для описания процесса смыслопорождения
это означает лишь необходимость привлечения некоторых новых маркеров и
условий из области феноменологии и герменевтики к уже имеющемуся
методологическому аппарату когнитивной лингвистики.
В вопросе анализа системы представления по-знания и со-знания В. И.
Герасимов и В. В. Петров в своей статье «На пути к когнитивной модели
языка» подчеркивают достаточную базу исследования оснований знания в
целом,
однако
проблемы
возникают
с
описанием
структур
и
их
219
представлениями. Основным результатом когнитивистики в рамках этого
вопроса стала мысль о взаимосвязи и взаимозависимости процессов памяти, а
также
процессов,
определяющих
построение
и
понимание
языковых
сообщений. Обработка человеком новых данных возможна лишь в процессе
обращения к накопленным ранее. Поэтому структуры, применяемые для
обработки новых данных, считают ученые, аналогичны используемым для
организации памяти. Как видим, когнитивная лингвистика, которая, по словам
исследователей, не мыслится без привлечения таких понятий, как интенция,
память, действие, семантический вывод и т.д., обращена к психологическим
аспектам
мышления,
что
наглядно
представлено
и
в
структуре
терминологических понятий. Если методы представления знаний достаточно
интенсивно развивались в связи с работами в области искусственного
интеллекта, то вопросы организации знаний разрабатываются только в
последние десятилетия. Наибольшее распространение получила гипотеза об
интегральном характере обработки естественного языка: обработка языковых
данных должна производиться параллельно на синтаксическом, семантическом
и прагматическом уровнях (Р. Шенк, М. Барвиш, И. Минский). «Несмотря на
наличие значительного числа работ в области когнитивных аспектов языка,
парадигма исследований еще окончательно не сложилась» [Герасимов, Петров
1988: 5–11], – эти слова В. И. Герасимова и В. В. Петрова не утратили своей
актуальности и по сей день.
Однако направление развития когнитивного методологического аппарата
должно привлекать феноменологические и герменевтические методы для
представления реальной картины смыслопорождающих и декодирующих
механизмов, что будет способствовать решению практических задач, более
подробному рассмотрению вопроса о глубинных механизмах коммуникации,
выявлению релевантного для конкретной лингвокультуры пласта по-знания,
лингвокультурных и частных аспектов смыслопорождения, а привлечение оных
для прояснения окказиональных деривационных моделей смысла на третьем
уровне абстракции является неизбежным.
220
Для когнитолога язык по своей сути является способом/средством
образования концептов, перевода предметов и явлений объективной реальности
в сферу рефлексивной реальности, в объекты работы духа, языкового сознания,
то чем может оперировать «осмысленный» текст [Баранов, Добровольский
1990: 452].
В настоящее время методологический аппарат когнитивной лингвистики
включает широкий круг понятий, терминов и методов, которые зачастую были
заимствованы из других наук, для расширения возможностей репрезентации
схематизации и структурации по-знания с позиций когнитивистики, а потому
нужно,
прежде
всего,
рассмотреть
некоторые
общие
положения
и
терминологический аппарат данной сферы.
Как психология познания так и когнитивная лингвистика одной из
центральных проблем считает репрезентацию знания. Х. Гейвин подчеркивает
необходимость фокусации подобного подхода на внутреннем лексиконе,
некоем «ментальном словаре». При изучении семантической организации
процесса по-знания были предложены несколько моделей: кластеризации,
сетевая (Бауэра) и сравнения семантических свойств, с нашей точки зрения,
ссылки на данные термины и модели описания возможны и при изучении
иерархической ноэматической структуры смысла, а не только значения.
Согласно
многоаспектных
ноэматической
модели
кластеризации,
ноэмах,
воспринятых
рефлексии,
хранится
информация
на
в
основе
о
многогранных
априорного
кластерах
(неких
опыта
структурах,
организующих тип хранения), что базируется на представлении знания с
совместным одновременным присутствием в некоей заданной области понятий.
Базис данной модели составляет стремление вычленить отдельные кластеры
(супергруппы) хранения ноэматических структур смысла, так что, например,
воспоминания об одном феномене из пережитого или воспринятого из текстов
опыта хранятся в ментальных конструктах о других сходных феноменах, кроме
того, мельчайшие кванты смысла составляют единое поле с ядром и
периферийными
концентрическими
областями,
и
они
способны
221
экстраполироваться по принципу метафоризации на другие смысловые
конструкты.
Логическим
развитием
модели
кластеризации
выступает
теоретико-множественный подход, гипостазирующий совместное хранение ещё
и атрибутов категорий.
Модель
сравнения
семантических
свойств,
по
Х.
Гейвин,
–
«репрезентация знаний, при которой слова становятся множествами свойств и
происходит сравнение элементов этих множеств» [Гейвин 2003: 122], – это
очень похоже на ноэмы, однако такое описание даётся мельчайшим единицам
значения, а не смысла, в семе нет маркеров модальности, ситуативности и
субъективности. Так, каждая единица в тексте имеет определяющие и
характеристические свойства. Первые свойства характеризуют принадлежность
данной единицы, например, лексической – к множеству (по сути это ноэмы,
определяющие класс феноменов), а вторые свойства описывают, по словам Х.
Гейвин, «конкретный экземпляр» (для нас это ноэмы концептуализации,
ноэмы-доминанты и ноэмы периферии). Определяющие свойства не должны
абсолютизироваться и разнятся от лингвокультуры к лингвокультуре, а потому
для данной модели когнитивной лингвистики для нас релевантно введение
уровня
суперструктур,
определяющих
универсальные
общечеловеческие
принципы формирования смысла.
Наибольшее применение и развитие получила теория сетевых моделей –
модель семантической сети – «иерархическая модель репрезентации знаний,
содержащая
узлы
и
атрибуты» (Коллинз, Киллиан, Конрад). Теории
семантической памяти предполагали наличие системы хранения информации в
виде иерархически построенной сети, где понятия содержатся в виде узлов, а
также свойства или особенности, связанные с каждым узлом. Чем выше по
иерархии хранится информация, тем больше она обобщена. Эта концепция
может
быть
воспринята
и
филологической
феноменологической
герменевтикой, и позволит разложить по иерархическим поясам релевантные
ноэмы, как уже было показано выше. Таким образом, в структурной
иерархической модели сонма ноэм отсутствует ее избыточность и реализуются
222
лишь релевантные грани в конкретной смысловой структуре. Однако на
практике оказывается, что не каждый текстовый знак является «осмысленным»
и обладает четко определенным множеством ноэматических характеристик, а
также имеет место сходство ноэмных признаков. Некоторые ноэмы приходят и
остаются в периферийной сфере конструкта, другие изменяют свой статус на
ядерные. Так, для того, чтобы определить, относятся ли к одной сфере ноэмной
структуры различные понятия или феномены, согласно этой модели, требуется
акт феноменологической рефлексии, на самом же деле без соответствующих
мыслительных операций, поисков вверх-вниз по иерархии, понимание
появляется уже на луче ноэматической рефлексии.
Усовершенствование и переосмысление данных теорий привело к модели
Коллинза-Лофтуса о хранении и ассоциативной априорно воспринимаемой
взаимосвязи категоризованных понятий в едином пространстве. Однако
главной проблемой моделей подобного типа является ограниченность в
описании общих моделей, они связываются, прежде всего, с лексемами, их
взаимосвязями и значениями. Именно из данных соображений была
разработана
модель
пропозиций
Андерсона-Бауэра,
называемая
также
«ассоциативной памятью человека». В рамках данной модели репрезентация
знания происходит в форме пропозиций (утверждений или суждений о фактах
объективной реальности). «Пропозиции – это наименьшие компоненты знания,
которые могут быть представлены в виде одиночных, имеющих значение
элементов» [Гейвин 2003: 129]. Конкретные элементы получены с помощью
опять же феноменологической или ноэматической рефлексии. Сложные
пропозиции, кроме элементов субъекта и предиката, имеют элементы времени,
места, контекста события и пр., что согласуется с наличием модальности,
субъективности и ситуативности как основных признаков реализации смысла.
Как известно, представление знания происходит в мыслительных актах и
выражается в форме понятий и пропозиций, формирования неких ментальных
конструкций. Понятия и являются репрезентацией, которая содержит в себе
основные характерологические свойства целого класса объектов или идей.
223
Существуют три основные теории выработки понятий: теория прототипов,
теория атрибутов, теория образцов. Слова и отдельные мысли – не
единственные единицы информации, которые хранятся в памяти. Согласно Ф.
Бартлетту, в ней хранятся более объемные блоки информации, называемые
схемами. «Схемы – это общие основные элементы знания, сходные с
ментальными моделями, не требующие ожидания». Так, согласно опытам Ф.
Бартлетта, испытуемые рационализируют, нивелируют знания (в данном случае
– рассказ), приближая их к собственной культуре, представленной в схеме.
Имеет место выравнивание (опускание незначительных идей) и заострение
(усложнение).
Понятия «фрейм» и «сценарий» были использованы для дескрипции
структур хранения: сценарии являются «привычными последовательными
действиями. Они могут помочь при обработке обычных событий, но могут
задержать нас или привести к неверным решениям, если случится неожиданное
событие» [Гейвин 2003: 139]. Однако число актуализируемых элементов
речевого акта превалирует над числом таковых в описании значения лексемы,
что наталкивает когнитологов (Ч. Филлмор) на вычленение более широких
понятий с размытыми границами, таких как «сцена» и «прототип».
В когнитивистике наиболее перспективным подходом к проблеме
репрезентации
и
трактовки
значения
становится
контекстуальный/
ситуационный. Ф. Бартлетт постулирует небуквальность процессов памяти:
воспроизведение текстовой реальности в структурах памяти происходит
интерпретативно с учетом норм и стереотипов конкретной лингвокультуры, и
здесь на первый план выступает понятие «схемы» в описании репрезентации
информации.
Различные структуры знания и по-знания (схемы, сценарии, кластеры)
выступают в качестве «пакетов информации (хранимых в памяти или
создаваемых в ней по мере необходимости из содержащихся в памяти
компонентов)», которые обеспечивают адекватную когнитивную отработку
стандартных
ситуаций.
Эти
структуры
играют
значительную
роль
в
224
функционировании естественного языка. Следует отметить существование
противоположного подхода к решению проблемы представления знаний. Его
сторонники (Ф. Дрейфус и др.) считают ключевым звеном отнюдь не знания, а
те характеристики, которые не подлежат стереотипизации и концептуальному
моделированию (например, целеполагание, формирование и удовлетворение
потребностей, эмоциональные состояния, скрытые мотивы, мировоззренческие
ценности и т.д.), т.е., по-видимому, то, что мы относим к прагматическим
знаниям.
В когнитивной лингвистике представлены различные термины для
описания структур репрезентации знания: «фрейм», «сценарий», «глобальная
модель» (global pattern), «псевдотекст», «когнитивная модель», «основание»
(base),
«профиль»,
«сцена».
«Эти
термины
используются
самыми
разнообразными способами; некоторые ученые пользуются несколькими из
них, различая их по статичности и динамичности, по типам выводов, которые
они позволяют сделать и т.д.» [Филлмор 1988: 54].
Ранее Ч. Филлмор писал: «Мы можем использовать термин сцена, когда
имеются в виду почерпнутые из реального мира опытные данные, действия,
объекты, восприятия, а также индивидуальные воспоминания об этом… схема,
когда имеется в виду одна из концептуальных систем или структур, которые
соединяются в нечто иное при категоризации действий, институтов и объектов,
а также для обозначения различных репертуаров категорий, обнаруживаемых в
наборах противопоставлений, прототипных объектах и т.д.; <…> фрейм, когда
имеется в виду специфическое лексико-грамматическое обеспечение <…> для
наименования и описания категорий и отношений, обнаруженных в схемах;
<…> модель, когда разумеем точку зрения конкретного человека на мир или то
представление о мире, которое строит интерпретатор в процессе интерпретации
текста. «Под моделью текста можно разуметь ансамбль схем, созданный
интерпретатором и обусловленный его знанием фреймов в тексте, который в
конечном счете моделирует некоторый набор потенциальных сложных сцен»
[там же: 50].
225
Концептуальные схемы происходят из опыта объективной реальности,
при их о-со-знании и понимании происходит вычленение фреймовых единиц,
отдельные понятия структурируют весь фрейм в сознании, в то же время
выстраивается и схема, ассоциирующаяся с ним; схемы структурируют блоки и
модели текста, а значит, и модели мира, связанные с ним. Опыт
интерпретируется
продуцентами
и
реципиентами
текста
как
некая
концептуальная схема. «Люди смогут понять то, что мы говорим, если их
языковый репертуар активирует такие же или сходные схемы и если их опыт по
освоению этих схем сравним с нашим» [Филлмор 1988: 110].
Сцены объективной реальности могут быть восприняты согласно
соответствию прототипичным сценам, репрезентированным в формах простых
редуцированных миров, не отражающих всех возможностей объективного
реального действования, рассматривая лишь идеальные примеры. Набор
фреймов
репрезентации
и
употребления
языковой
единицы
вкупе
с
определением её позиции в структуре фрейма является основным в анализе
языковых единиц.
Р. Шенк предлагает сценарий в качестве одной из простейших форм
представления семантических данных высшего уровня. Определяя его как
набор взаимосвязанных понятий низшего уровня, он проясняет временную
последовательность
неких
традиции
термин
данный
стереотипных
заменен
событий.
понятием
В
лингвистической
«фрейма».
Но
при
лингвокультурологическом подходе все чаще используется понятие культурно
обусловленный сценарий, который мы встречаем и в работах А. Вежбицкой:
«культурно обусловленные сценарии» – это краткие предложения или
небольшие последовательности предложений, посредством которых делается
попытка уловить негласные нормы культуры какого-то сообщества «с точки
зрения их носителя» и одновременно представить эти нормы в терминах общих
для людей понятий. В частности, в «культурно обусловленных сценариях»
выражаются такие негласные правила, которые говорят нам, как быть
личностью среди других личностей, т.е. как думать, как чувствовать, как хотеть
226
(и как действовать согласно своему хотению), как добывать или передавать
знания и, что важнее всего, как говорить с другими людьми. Правила
подобного рода обычно являются для данной культуры специфическими (в
большей или меньшей степени).
Ю. Н. Караулов считает тезаурус основанием языковой образности, некой
системой знания, а отнюдь не семантикой. Приписывание связей в
ассоциативном ряду происходит на основе фоновых знаний. «Этот переход не
есть принадлежность вербально-ассоциативного уровня, – считает ученый, – он
есть порождение знаний. Всякий образ можно перевести на семантический
уровень, можно вербализовать, раскрыть его суть, его когнитивное и
эмоциональное
содержание,
построив
соответствующий
текст,
но
происхождением и возникновением своим образ обязан только знаниям,
появляющимся, когда мы покидаем поверхностно-ассоциативный уровень и
погружаемся в тезаурус» [Караулов 1987: 177].
Образ, по Ю. Н. Караулову, является доступным прямому наблюдению
посредством анализа некоторых речевых практик (поэзии, текстов «потока
сознания», реферативного представления текста), на основании чего ученый
закономерно приходит к идее существования на уровне целостной языковой
личности триады «семантика» – «знания о мире (тезаурус)» – «гносеология»,
вводит
понятие
«промежуточного
языка»
(термин
Н.
И.
Жинкина),
связывающего три уровня. Он же предлагает с помощью компрессии и
редукции реконструировать гносеологические единицы, редукция и компрессия
строятся на процессах сжатия или расширения информации как «естественных
лингво-когнитивных преобразований, постоянно осуществляемых человеком в
процессе коммуникативно-познавательной деятельности» [там же: 184].
Для обозначения структуры представления знаний можно пользоваться
термином Л. Вайсгербера «промежуточный язык», главными структурными
компонентами которого, по мысли Ю. Н. Караулова, выступают такие
феномены, как гештальты, образы, символы, схемы, представления, форма,
картины, лексемы.
227
В рамках когнитивной теории постепенно сложилась теория прототипов,
получившая
весьма
широкое
распространение,
ярким
представителем,
разделяющим её идеи можно считать Дж. Лакоффа, который использует четыре
типа моделей в процессе анализа процессов категоризации. Таковыми
являются: модели пропозиции, избирательно актуализирующие элементы
структуры и связи между ними, модели схем образов, репрезентирующие
специфическим
образом
представления,
метафорические
модели,
показывающие переходы от моделей пропозиции определенной сферы к
коррелирующей структуре другой сферы, и метонимические модели, по сути,
повторяющие в своих функциях три первых модели, но с учетом
функциональных особенностей элементов структуры по отношению друг к
другу. При подобном анализе Лакоффу удается выявить следующие
прототипические модели: 1. Типичные примеры. 2. Социальные стереотипы,
которые служат основой для быстрых суждений без фиксации рефлексивного
акта (интуитивное ноэматическое порождение). 3. Идеалы как общезначимые
лингвокультурные представления об идеальном объекте, при этом многие
категории воспринимаются через абстрактные идеальные образцы. 4. Образцы,
используя которые категорию можно представить на основе знания ее
отдельных
членов,
противоположностью.
которые
5.
являются
Порождение.
6.
или
Частные
идеалами,
модели.
или
7.
их
Самые
характерные примеры [Лакофф 1988: 31–36].
Процедурная семантика уже позволяет сочетать анализ представлений и
организации знания вкупе. Знание о динамическом контексте в рамках этого
подхода представляется процедурно без обращения к понятиям норм и правил.
Структуры, предназначенные для представления прагматических знаний,
называются стратегиями. Т. ван Дейк и В. Кинч выводят стратегии как
структуры
репрезентации
прагматических
знаний.
В
данном
вопросе
важнейшим является стратегический подход к пониманию (с эффектом
прогнозирования и
ноэматический,
схематизации действования). Но следует заметить
интуитивный
и
бес-сознательный
характер
стратегий
228
понимания,
а
точнее,
восприятия,
содержания
большинства
текстов
естественного языка со стороны носителя языка. «Действие стратегий носит
гипотетический и вероятностный характер; с их помощью производится
быстрое и эффективное прогнозирование наиболее вероятной структуры или
значения воспринимаемых языковых сообщений. Стратегии характеризуются
<…> одновременным действием на нескольких уровнях, способностью
использовать неполную информацию и комбинировать как индуктивные, так и
дедуктивные способы обработки» [Герасимов 1988: 9].
В некоторых исследованиях последнего десятилетия при анализе
процессов восприятия и интерпретации информации используется понятие
«скрипта». В работе А. Г. Гурочкиной «Понятия «скрипт» и «сценарий» и их
роль в процессе восприятия и интерпретации текста» подчеркивается
первоначальное
некоторому
отнесение
изображению
данного
понятия
данных
для
к
структурам
работы
со
со-знания,
стандартной
последовательностью действий в определенных стереотипных ситуациях
текстопорождения. Узловые объекты и связи данных объектов представляют в
этой модели сетевую двухмерную структуру скрипта. «Верхние уровни»
структуры, содержащие априорно истинные данные, в рассматриваемой
ситуации строго фиксированы и представляют жесткую решетку. «Нижние
уровни» обретают наполнение в зависимости от конкретной ситуации.
Скрипты
есть
некоторые
пред-данности,
фоновые
знания
долговременной памяти, способствующие прогнозируемому пониманию на
основе
сложившегося
со-знания.
Основное
количество
скриптов
как
структурированных фоновых знаний и схем действования в прототипических
ситуациях усваивается в детстве и в процессе онтогенеза, использование их
происходит неосознанно, они служат моделями для сравнения со все новыми и
новыми ситуациями как реального, так и рефлективного действования.
«Субъекты живут, следуя своим скриптам, и чем большим объемом знаний они
обладают, тем в большем числе ситуаций они чувствуют себя комфортно,
соотнося
конкретные
переживания
и
действия
с
их
ментальными
229
репрезентациями. Скрипты могут быть использованы поведенчески, когда
субъект
«проигрывает»
их,
либо
когнитивно,
например,
субъект
интерпретирует текст. Иными словами, при восприятии человеком объектов и
событий
действительности
происходит
наложение
его
концептуальных
структур на воспринимаемые им предметы и отношения» [Гурочкина 2000:
236].
Скрипты
складываются
в
некие
хронологические
конструкции,
представляющие собой «макроскрипты». Многие ученые считают, что
акцентуализированные языковые единицы способствуют в процессе понимания
или текстодеривации созданию некоторых тематических сценарных структур,
включающих события, актантов, топики и др. При активизации данных
тематических структур происходит и активизация релевантной информации
(которая в форме скриптов уже имеется в памяти), позволяющей о-сознавать и
понимать интуитивно не только реальную ситуацию действия, но и
схематизировать
дальнейшие
действия,
выстраивать
свои
действия
в
соответствии с заданным сценарием прототипической ситуации. В процессе
восприятия
и
интерпретации
текста
в
оперативной
памяти
адресата
вырабатывается целая цепочка сценариев, которые могут либо последовательно
дополнять друг друга, либо вступать в определенные противоречия, что
способствует
реализации
замысла
автора»
[Гурочкина
2000:
238].
имплицируемого в этой ситуации. Сценарий рассматривается как элемент
оперативной памяти, а скрипт – долговременной.
Однако сколько бы новых понятий не входило в круг интересов
когнитивной лингвистики, все же наиболее частотным употреблением
характеризуется
«фрейм»,
который
дефинируется
как
стереотипное
представление об элементах, связях и структуре прототипической ситуации.
Со-знание
в
интерпретативном
акте
представляет
объективно
воспринимаемые данные через призму ранее о-сознанных понятий, призванных
описывать структуры – фреймов как целостных структур организации и
структурации опыта, но одновременно и инструментов по-знания. М. Минский
утверждает
наличие
огромных
систем
фреймов
с
разнообразными
230
структурными узлами и элементами. Рассмотрение одного феномена в свете
другого, создание самоссылающейся системы является одним из самых
мощных инструментов мышления. По М. Минскому, элементы фреймовой
структуры можно назвать терминалами, на которых базируется имманентная
возможность к умозаключениям.
Особые универсальные конструкты знания позволяют мотивировать,
определять и структурировать некие ассоциативные группы языковых единиц,
которые
оказываются
связанными
опытом
схематизации,
возможно,
посредством обращения к единому фрейму интерпретации: 1) понимание
естественного цикла движения солнца; 2) знание стандартных способов
вычисления того, когда один дневной цикл кончается и начинается новый; 3)
знакомство с календарным циклом из семи дней; 4) принятая в культуре
практика связывать различные части недельного цикла с работой и досугом.
Фрейм в данном случае представляет базис образа, находящего
репрезентацию во множестве отдельных ассоциированых лексем.
«Неправильное понимание может возникнуть вследствие того, что
реципиент сообщения приписывает слову ту интерпретацию, которая ему
знакома, например, рассматривает слово first «первый» в нормальном фрейме
счета и не подозревает о наличии в данном контексте специально
обусловленной интерпретации. <…> обращение к фреймам необходимо как для
описания конкурирующих между собой употреблений этих слов, так и для
объяснения
неправильного
понимания.
Выбравшие
неправильную
интерпретацию не просто потерпели неудачу в «понимании» слов, они не
смогли определить, какая фреймовая структура имелась в виду в данном
контексте» [Филлмор 1988: 58].
Ч. Филлмор в своей работе подробно останавливается на некоторых
общих моментах семантики фреймов и теории семантических полей: 1)
положительные постулаты теории поля могут применяться и в теории фреймов
и выстраивать семантику фреймов; кроме того, 2) те же критические замечания
по поводу применимости теории поля могут касаться и семантики фреймов.
231
Проводя последовательный подробный анализ сравниваемых концепций,
можно постулировать аналогичность понятия «поля» в теории лексических
полей фрейму. Согласно воззрениям Й. Трира, понимание значения слова
сводится к пониманию структуры, в которой это слово функционирует, и эта
структура существует именно потому, что существуют другие слова. Как
полагал Й. Трир, слова не имеют смысла, если слушающему не известны
противопоставленные им другие слова из того же понятийного поля; и они
неопределенны, если нет их концептуальных соседей, претендующих на свою
часть понятийного поля и своим появлением определяющих границы
произнесенного слова. Таким образом, Й. Трир утверждал, что в сознании
интерпретатора должны быть сами слова, а не лежащие в их основе «понятия»
или «факты» [Trier 1932: 426].
Интересным является утверждение семантики фреймов о гипотетическом
владении и о-сознании значения некоторой языковой единицы безотносительно
знания других членов ассоциированного ряда соположенных языковых единиц
(элементов системы), по сути, не важным является наличие самой системы, что
невозможно в теории лексических полей. По Ч. Филлмору? семантика фреймов
призвана анализировать фреймы интерпретации как некую альтернативную
реальность о-сознания фактов объективной реальности. Главным в данном
допущении является то, что «семантика фреймов допускает существование
фреймов, каждый из которых имеет единственного представителя в сфере
лексики, возможность, в принципе отвергаемая теорией лексического поля»
[Филлмор 1988: 62]. Так, возможно адекватно представлять себе семантику
какой либо лексемы без знания лексем оппозиции (парадигматических
противопоставлений). Филлмор в своей работе «Фреймы и семантика
понимания»
приводит
высказывание
Фоконье,
доказывающее
факультативность знания парадигмы в целом для понимания отдельного
элемента: «Они не являются частью языка как такового <…>, однако язык не
может обойтись без них» [там же: 65].
232
Взаимозависимость
фреймов
интерпретации
и
языковых
средств
выражения определяется самой структурой языка. Фреймы могут как
создаваться языком, так и существовать независимо от него, находя в нем свое
отражение. Фреймы активизируются интерпретатором или же самим текстом и
вводятся в герменевтический процесс понимания, в случае приписывания
интерпретатором фрейму интерпретации, и помещения в модель, которая
существует независимо от текста. Фрейм «активируется» текстом, если
некоторая
языковая
форма
или
модель
регулярно
ассоциируется
с
рассматриваемым фреймом. Фреймы могут быть врожденными (узнавание черт
лица), могут возникать в ходе накопления когнитивного опыта (установления,
нормы), иногда полностью зависят от языковых выражений.
Филлмор в своих работах отказывает лингвистическому анализу без
привлечения метатеоретического и лингвокультурологического подходов в
праве полностью и без противоречий рассматривать структуры по-знания:
«Нельзя считать осмысленным требование к лингвистике о том, чтобы она
ввела в сферу своего исследования все знания такого рода; однако лингвистика
должна представлять себе, как возникает такое знание, как оно функционирует
в формировании категорий значения, как оно действует в процессе понимания
языка и т.д. <…> подход семантики фреймов к значению существенно более
энциклопедичен, чем подход традиционный. <…> она не стремится установить
априорное различие между собственно семантикой и (идеализированным)
концептом понимания текста» [Филлмор 1988: 66].
Подлинная концепция семантики естественного языка предполагает
интерпретативный анализ процессов введения знания и его отдельных
аспектов, их отражения в языке. При этом интерпретативные акты, касающиеся
текстов
естественного
языка,
являются
процедурами
максимального
извлечения смысловости и содержательности из текста.
Е. В. Рыжкова в рамках языкового анализа фрейма полагает, что
аналогичной фрейму организационной общностью в лингвистике должна
представляться тематическая группа (далее ТГ) (фрейм функционирует в со-
233
знании, а тематическая группа – в системе языка). Некоторое объединение
лексем различных частей речи в определенной теме, касающееся как явлений в
целом, так и их качеств и характеристик и связанное с эмпирическим опытом
человека рассматривается как тематическая группа. Каждая конкретная
тематическая группа «обслуживает», служит отлавливанию того или иного
фрейма. Поскольку фрейм представляет собой некую структуру данных, сети
отношений, ТГ также структурирована, ее члены являются именами терминов
фрейма – связанных с ним субфреймов. Таким образом, фреймы отдельных
предметов и ситуаций представляют собой вербально-образные комплексы.
Далее она развивает свою мысль в русле идей Ч. Филлмора: при появлении в
поле зрения индивида какого-либо терминала фрейма последний активируется
весь. Поэтому, считает Е. В. Рыжкова, предъявление того или иного слова,
входящего в ТГ, также способствует активации всего фрейма или его части,
достаточной для адекватной передачи соответствующего знания. Сознание
человека достраивает недостающие терминалы фрейма в соответствии с
опытом. При столкновении с новой ситуацией человек подбирает в сознании
наиболее подходящий фрейм для ее структурирования и осмысления, что
оказывается возможным благодаря гибкой структуре фрейма.
А. П. Бабушкин предлагает лингвистический анализ когнитивных
структур, который базируется на работе с понятиями «схемы», «фрейма»,
«сценария», которые, однако, «по-разному осмысливают содержание одних и
тех же терминов, служащих для обозначения данных репрезентаций»;
различными способами «интерпретируют схемы, фреймы и сценарии как
формы организации и структуры представления знаний <…>, но не связывают
их с семным составом языковых единиц» [Бабушкин 1999: 40].
Лингвистический подход вычленения концептов, по А. П. Бабушкину,
предполагает схватывание идеальной стороны концептуализируемого понятия
лексемой и хранения её в дефиниции в некоем обобщенном, свернутом
представлении, «представлено в совокупности сем, формирующих систему»
[там же]. Фиксация рефлексии и когнитивной работы разума происходит, по
234
Бабушкину, в единицах языка. Сама характеристика сем в дефиниции
предлагает возможности подразделения концептов на следующие типы:
«мыслительные картинки, схемы, фреймы, инсайты, сценарии» [там же]. Все
это наталкивает нас на мысль о том, что понятие «концепта» – это гипероним,
некоторое родовое понятие, а означенные выше типы представляют видовые
характеристики. Как утверждает ученый, семы образности репрезентируют
«мыслительную картину», семы меры – «схемы», архисемы – «фреймы», семы
структуры и устройства – «инсайт», динамические семы – «сценарии».
Подобные модели дифференциации применимы и в отношении пресуппозиций
«когда предметом внимания <…> будет выступать по-особому организованная
имплицитная информация, разделяемая участниками коммуникативного акта»
[Бабушкин 1999: 40].
Как утверждает А. П. Бабушкин в своей работе «Архитектоническая
типология пресуппозиций в диалогическом тексте», концептуализированное
понятие эксплицируется набором сем, вербализующих когнитивное знание, т.к.
«концепт – структура представления знаний, пресуппозиция – имплицитный
смысл высказывания» [там же: 41].
Но каждое концептуализированное понятие может быть изначально
предложено в качестве неузуального образования и быть затем введено в
практику философского употребления, данное введение производится путем
некоторых интерпретативных операций с конструктом, изучим их более
подробно.
4.4. Лингвокультура и смыслопорождение (концептуальный аспект)
На современном этапе развития лингвистической науки стало очевидным,
что
«…исследования
только
формальной
структуры
языка
и
его
коммуникативной функции ограничивают реальное место языка в процессе
культуросозидания. Иной подход к языку, необходимый для выяснения его
сущности, заключатся в изучении языка не только как средства общения, но,
прежде всего, как неотъемлемого компонента культуры этноса» [Бижева 1999:
3]. Как компонент духовной культуры язык занимает в ней особое место,
235
выступая непременным условием становления, развития и функционирования
других компонентов культуры.
Между миром и языком стоит мыслящий человек, носитель языка.
Общественная природа языка проявляется как во внешних условиях его
функционирования в данном обществе (би- или полилингвизм, условия
обучения языкам, степень развития общества, науки и литературы и т.п.), так и
в самой структуре языка, в его синтаксисе, грамматике, лексике, в
функциональной стилистике и т.п.
Слово отражает не сам предмет реальности, а то его видение, которое
навязано носителю языка имеющимся в его сознании представлением,
понятием об этом предмете. Понятие же составляется на уровне обобщения
неких основных признаков, образующих это понятие, и поэтому представляет
собой абстракцию, отвлечение от конкретных черт. Путь от реального мира к
понятию и далее к словесному выражению различен у разных народов, что
обусловлено различиями в истории, географии, особенностями жизни этих
народов и, соответственно, различиями развития их общественного сознания.
Поскольку наше сознание обусловлено как коллективно (образом жизни,
обычаями, традициями и т.п.), то есть всем тем, что выше определяется словом
«культура» в его широком – этнографическом смысле, так и индивидуально
(специфическим восприятием мира, свойственным данному конкретному
индивидууму), язык отражает действительность не прямо, а через два зигзага:
от реального мира к мышлению и от мышления к языку. С. Г. Тер-Минасова
отмечает, что «метафора с зеркалом уже не так точна, как казалось вначале,
потому что зеркало оказывается кривым: его перекос обусловлен культурой
говорящего
коллектива,
его
менталитетом,
видением
мира,
или
мировоззрением» [Тер-Минасова 2000: 40].
З. К. Тарланов рассматривает язык в неотрывной связи с этносом: «Язык
в этнических границах его носителей – это не только и не столько средство
общения,
сколько
познавательной
память и
история
народа, его
деятельности,
его
мировоззрение
культура
и
и
опыт
психология,
236
закреплявшийся из поколения в поколение багаж знаний о природе и космосе, о
болезнях и способах их лечения, о воспитании и подготовке к жизни новых
поколений людей в интересах сохранения и умножения этноса и его
самобытности. Тем самым язык представляет собой форму культуры,
воплощающую в себе исторически складывавшийся национальный тип жизни
во всем ее разнообразии и диалектической противоречивости» [Тарланов 1993:
6].
В. Н. Телия также подчеркивает, что язык играет особую роль в
трансляции культурно-национального самосознания народа и идентификации
его как такового. В языке, по её мнению, в системе характерных для него
образов, эталонов, стереотипов, мифологии, символов и т.п. опредмечено
мировоззрение народа и его миропонимание, осознаваемые в контексте
культурных традиций. Именно эта соотносительность и обусловливает то, что
язык не только отображает действительность в форме ее наивной картины и
выражает отношение к ее фрагментам с позиций ценностной картины мира, но
и воспроизводит из поколения в поколение культурно-национальные установки
и традиции народа – носителя языка [Телия 1996: 231]. В. Н. Телия убеждена,
что
«навязывание»
языком
культурно-национального
самосознания
впитывается «вместе с молоком матери», когда осваивается и потом
воспроизводится – сознательно и бессознательно – вся содержащаяся в
единицах языка информация, в том числе – и культурно значимая, которая
может быть представлена в ходе анализа языковых фактов в виде культурнонациональной коннотации, осознаваемой носителями языка в той или иной
глубине ее содержания. В этой связи автор предполагает, что в языке
закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, которые
ассоциируются
с
культурно-национальными
эталонами,
стереотипами,
мифологемами и т.п. и которые при употреблении в речи воспроизводят
характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет [там
же: 233].
237
Рефлексия относительно языка как выразителя культуры некоторого
этноса характеризует все лингвистические направления, развивающиеся в
рамках антропологической парадигмы в современном языкознании.
Общеизвестным является тот факт, что культурная и языковая картины
мира тесно взаимосвязаны, они непрерывного взаимодействуют и, очевидно,
берут свои корни в реальной картине мира. Взаимодействие концептуальной
картины мира и языковой картины мира проявляет себя по-разному в
различающихся лингвокультурах, ведь любой язык не только предоставляет
нам свой способ познания и мышления, но и свой неповторимый вариант
мирочленения, акцентуализации, а значит, и концептуализации некоторых
фактов объективной реальности и понятий. Изучение языковой картины мира
позволяет выявлять закономерности, характерные для строя определенного
языка и национально-культурного сознания носителей, а также способы
смыслообразования, характерные для той или иной лингвокультуры.
Понимание
способов
концептуализации
понятий
как
различных
«способов» смыслообразования создает базу для описания языковой картины
мира в ее деятельностном аспекте. Лингвокультурологический подход к
проблеме языковой картины мира заключается в описании «множественности»
способов смыслообразования в различающихся лингвокультурах.
Как
известно,
системомыследеятельностной
схемы,
выработанные
методологии
в
(СМД-методологии),
рамках
имеют
универсальное применение и могут быть приложимы к самым разным
объектам. В работах Г. И. Богина, как нами было указано выше, впервые
применяется понятие ноэмы для анализа смыслообразующей рефлексии [Богин
1982].
В отношении понятия ноэмы А. Белый пишет: «Ноэмы – это указание,
осуществляемое рефлексивным актом сознания, обращенного на минимальный
компонент онтологической конструкции. С этой точки зрения, ноэма
соответствует семе, играющей ту же самую роль при определении уже не
238
смыслов, а выводимых из их совокупности значений, что необходимо для
построения словарей и грамматик…» [Белый 1994: 10–11].
По сути своей, понятие ноэмы является первичным по отношению к
понятию семы так же, как смысл первичен по отношению к значению. Г. И.
Богин пользуется понятием «ноэма» при анализе рефлексивных усилий
читателя, направленных на понимание художественного текста, поскольку
понимание состоит из ноэм [Богин 1986].
При рассмотрении возможностей смыслопорождения главенствующим
является тот факт, что значение состоит из означенного набора сем, смысл же –
из интенционально релевантных ноэм. Значение внеконтекстно, тогда как
смысл существует только в ситуации. Ноэма по сути есть самая малая единица
с
функцией
установления
связи
и
отношений
между
элементами
коммуникативной и деятельностной ситуации, которая является главным
квантом смыслообразования, но не только смыслодекодирование и реализация
смысла как такового невозможны без учёта ноэматической иерархической
структуры.
В настоящем исследовании при тех же исходных посылках обратимся к
анализу смыслов слов как продуктов опредмеченного в них рефлексивного
мышления
(фиксации
рефлексии) о
«Бытие/Вот-бытие» и «
данные
понятия
наиболее
/
понятиях
«Dasein/In-der-Welt-sein»,
» (сейдзон/сондзай), так как мы считаем
репрезентативными
для
рассматриваемых
лингвокультур. Основным для понимания процесса смыслопорождения
является выявление ноэматики, стоящей за вербализованными в текстах
культуры мыследеятельностными актами. Иначе говоря, предпринимается
попытка выявить онтологические картины соответствующих понятий в разных
языковых картинах мира, а также зафиксировать рефлексивные акты, которые
приводят к ноэматическим изменениям.
Как известно, отношение человека к миру определяется смыслом.
Именно смыслы образуют культуру. «Культура есть универсальный способ, как
человек делает мир «своим», превращая его в Дом человеческого (смыслового)
239
бытия» [Бенвенист 1995: 61]. Согласно Г. Фреге, «имя» выражает (drückt aus)
свой «смысл» (Sinn) и означает (bedeutet) свое «значение» (Bedeutung) [Frege
1986: 35]. Заметим, что не во многих языках имеются отдельные слова для
обозначения самостоятельных понятий «значение» и «смысл». В европейских
языках наиболее четко эти понятия разведены в русском и немецком языках, ср.
смысл – Sinn и значение – Bedeutung. Тогда как, например, в английском и
французском языках такого четкого различения нет, ср.: смысл – meaning,
reference, denotation (англ.); sens (фр.); значение – meaning, sense (англ.); sens
(фр.). Г. Фреге отмечал, что смыслы – совсем не то, что значения. Значения
являются общими для всех, смыслы же принадлежат (или передаются)
конкретному индивидууму, причем это происходит в определенное время.
Стоит также добавить, что эта принадлежность и передача смысла имеет место
в определенной ситуации.
По мнению В. П. Белянина, весь мир представляет собой некое
«хранилище значений», которые непрерывно открываются людям другими
людьми. Вместе с тем, накопленные значения преломляются в индивидуальном
со-знании человека, образуя некую структуру понятий об окружающем мире в
единстве с «личностным смыслом и чувственной тканью» [Белянин 2003: 61].
Однако исследователь полагает, что «значение» – термин, относящийся к
области лексикологии, так как представляет собой «нечто, конкретно
определяющее структуру слова как явление, постоянное в синхронном срезе»
[там же: 59]. «Смысл» же – «…ситуативен и привязан больше к тексту, чем к
слову. Он субъективен и в большей или меньшей степени зависит от характера
текста» [там же: 60], а также от точки зрения и степени фоновых знаний
(эмпирики) интерпретатора.
В рамках такого подхода (в известной дихотомии язык/речь и,
соответственно, значение/смысл) сформировалось представление о том, что
значение (как языковая категория) характеризует сугубо номинативные
единицы в противоположность коммуникативным единицам, где категорию
значения
заменяет
категория
смысла.
В
противоположность
таким
240
представлениям, некоторые исследователи высказывают мысль о том, что ни
категория значения, ни категория смысла не могут существовать раздельно и
быть представлены в языковых единицах различной коммуникативной
потенции. «Значение и смысл формируются и функционируют только в
единстве, будучи взаимосвязаны не только генетически, но и функционально»
[Бубер 1993: 144].
Со всей очевидностью возможно предположить, что смыслу присущи
следующие основные категории:
недоступность в прямом наблюдении;
инвариантность, выражающаяся в возможности перефразирования,
иносказания, в любых других преобразованиях, осуществляемых в
любом языке;
актуальность, ситуативность и субъективность;
неполная эксплицируемость;
недоступность полному восприятию;
концептуальность
смысла,
включенность
в
единую
(общечеловеческую) систему знаний (картину мира) и возможность
существования над языками.
Г. И. Богин в своем фундаментальном труде «Обретение способности
понимать» (2001) четко обозначил различия между рассматриваемыми
понятиями: «Смыслы «есть» только в рефлексии, только в движении, в потоке
коммуникации с человеком и текстом, они являют себя через самих себя,
переживаются не через «отражение внетекстовой действительности», а через
переживание, пробуждаемое рефлексией в душе реципиента. Смыслы – не
«форма существования материи»: они характеризуются как «данности
сознанию». «Смысл тяготеет к динамизму, значение – к стабильности, и оба эти
признака создают необходимый баланс в понимании как субстанции. Значение
близко к содержанию, смысл – к ситуации с ее личностным компонентом.
Смысл выводится из ситуации; если эта ситуация вербальная, смысл выводится
из вербального контекста. Отвечая на вопрос о смысле, обычно придумывают
241
вербальную ситуацию (контекст)» [Богин 2001: 36]. «Если смысл –
представитель свободы реципиента, свободы его выбора, свободы его
интендирования, обращенного на элементы онтологической конструкции, то
значение – представитель и носитель культуры, а также социальности того же
реципиента. Именно значение – это тот конструкт, благодаря которому мои
смыслы оказываются привязанными к смыслам и всех других людей…» [Богин
1993: 33].
В настоящей работе, исходя из трактовки концептуального анализа,
разработанного Н. Д. Арутюновой, рассмотрим контекстуальные употребления
слова
с
целью
многократного
определения
понятия-концепта.
Концептуализацию понятий «Бытие» и «Вот-бытие» возможно исследовать
через описание ноэматических характеристик лексики как совокупности
культурных смыслов в разных культурных областях.
Таким образом, традиционный концептуальный анализ дополняется
анализом ноэматических свойств лексики в соответствии:
с
ее
статусом
–
принадлежностью
к
определенной
лингвокультурной области;
с уровнем рефлексии, приведшим к возникновению той или иной
ноэмы.
Отсюда следует вывод, что понятие «Бытие» в русской лингвокультуре
соединяет такие важнейшие для русского человека концепт-понятия, как «Бог»,
«человек», «мир», и является одним из основных концептов русской языковой
картины мира (во многом благодаря эмоциональной коннотации).
В немецкой философии максимально нагруженным смыслами является
концепт «Dasein», который, являясь «просветляюще-утаивающим явлением
самого Бытия», связывает воедино остальные концепты «In-der-Welt-sein,
Seiende» (в переводе, по В. В. Бибихину: Бытие-в-мире, Бытийность).
Рассматривая философское осмысление концепта «Dasein», М. Хайдеггер
осуществляет творческую переработку лексики, фиксируя своё внимание на
242
группах слов, связывая их ассоциативно, несмотря на их принадлежность к
различным семантическим полям.
Понятие «Dasein» было введено в XVII веке по аналогии с латинским
«Existentia» для обозначения определенного вида «Бытия», одновременно было
введено и понятие «Sosein» в значении «Essentia». Хайдеггер переосмысливает
это «Dasein» и не случайно переносит его в свои труды, понимая его в своей
основе как Da-sein.
Для немецкой
вербализация
лингвокультуры, как
эмоциональной
и
и
для
аксиологической
русской, характерна
рефлексии,
что,
предположительно, является типичным для лингвокультур европейского типа в
целом. Смыслы в русской и немецкой лингвокультурах вербализуются и
выявляются в процессе интерпретаций.
Для японской лингвокультуры в целом не характерно вербальное
обсуждение сущности понятий. Японская культура ориентирована на «намек»
на смыслы, принадлежащие «Небытию». Иероглифическая письменность
также реализует эту тенденцию: иероглифы существуют как рисунки смысла
или символические указания на смысл. Как следствие, в основе японского
языкового мышления лежит не Слово, а Образ, идеограмма, иероглиф. В
результате чего для иероглифического слова первичны смыслы, а не значения.
Примером подобному толкованию может служить переход иероглифа
(son/zon) с сохранением его остаточных коннотаций в другие концепты и
сложные понятия, часто не только философского, но и обыденного языка.
Следует упомянуть также, что каждый из иероглифических знаков имеет
подобную возможность.
Со всей очевидностью следует вывод о том, что любые языки,
основанные на непосредственном включении некоего маркера в порождаемую,
а не воспроизводимую речь, имеют гораздо больше возможностей для
сохранения аллюзий, при ранее использованном маркере в составе сложных
понятий, тем самым включая в канву философского дискурса саму жизнь.
243
С общесемиотической точки зрения перевод как перекодирование может
быть не только межъязыковым, но и внутриязыковым: «интерпретацией
вербальных знаков с помощью других знаков того же языка» [Якобсон 1978:
18], – перефразированием. И здесь любопытно проследить за поведением имен
«культурных концептов», которые в интервале абстракции межъязыкового
сопоставления отправляют к соответствующим синонимическим рядам (полям),
образующим
их
внутриязыковом
план
выражения.
сопоставлении,
Сужение
очевидно,
уровня
приведет
абстракции
к
при
дезинтеграции
синонимического ряда, к значимому расподоблению синонимов и, как
следствие, к внутреннему делению самого концепта.
Сопоставление данных философских концептов в различных текстах
свидетельствует о том, что «Dasein/In-der-Welt-sein», «Бытие/Вот-бытие» и
(сейдзон/сондзай) как различные ипостаси экзистенциалистского
/
концепта в философском дискурсе не являются полностью взаимозаменяемыми
хотя бы потому, что второй компонент отмечен принадлежностью к
специфическому философскому сознанию и включен в систему специфических
ассоциаций и представлений, ослабленных или не существующих вовсе в
общенародном языке.
Проведенное
исследование
позволило
продемонстрировать
функционирование культурных концептов в трех языковых картинах мира как
совершаемых мыслительных актов разной степени рефлексии. При анализе
текстов различных форм культуры мы рассматривали случаи высказываний, в
которых упоминались концепты «Бытие» и «Вот-бытие», как свернутую в
виде текстов мыследеятельность: МД (мыследействование), М-К (мыслькоммуникацию), М (мышление).
Для
анализа
осуществления
мы
данного
воспользовались
герменевтико-интерпретационным
частного
лингвокультурологического
базирующимся
методом,
на
СМД-методологии
позволяющим
работать
со
смыслами. В нашей диссертации мы опираемся, как указывали выше, на
понятие ноэмы в том смысле, в котором оно используется в трудах Тверской
244
школы филологической герменевтики [Богин 1982, 1986, 1993, 2001; Галеева
1991, 1999, 2002].
Таким образом, изученные в ходе работы особенности концептуализации
понятий
«Бытие»
и
«Вот-бытие»
в
русской,
немецкой
и
японской
лингвокультурах позволяют судить о культурном статусе данных понятий и о
тенденциях смыслообразования в различных лингвокультурах.
4.5. Лингвокультура и смыслопорождение (грамматический аспект)
Культурологическая маркированность лексических единиц наиболее
ощутима. Рассуждения о языковой картине мира обычно подкрепляются
многочисленными примерами именно лексического уровня. Этому есть вполне
объяснимые причины. «Лексика сильнее грамматики», – утверждает Ю.Д.
Апресян [Апресян 1995]. Она заполняет все видимое, осязаемое пространство
языка. Она проще для понимания в силу того, что прямо, в отличие от
грамматики, отражает внешний мир, давая наименования его элементам.
Грамматика не столь прямолинейна, однако лингвисты признают, что «каждый
язык уже самой системой своих словоизменительных категорий подталкивает
говорящего к выражению тех, а не иных определенных смыслов» [Leisegang
1924: 247–248]. Грамматика скрывает в себе механизм членения, познания
действительности, являя собой алгоритм представления действительности.
Более того, она занимает, в понимании лингвистов, центральное положение в
общей конструкции языка, будучи, наравне с фонетической системой, наименее
подверженной влияниям извне. Соответственно, в ней наиболее ярко и в
наиболее чистом виде должен предстать «дух народа», ибо грамматика, и в
особенности морфологическая основа языка, остается чуждой внешним
влияниям.
Все вышеперечисленные аргументы подводят лингвистов к тому, чтобы
попытаться установить четкое соотношение грамматики и этнофилософии.
Исследования грамматики с целью выявления национальной специфики
базируются на гипотезе о том, что «не все языки грамматикализованы на одной
основе» [Дурст-Андерсен 1995: 31]. Каждый язык по-своему устанавливает
245
«различие между структурами действительности, структурами сознания и
структурами языка» [там же: 32], поскольку механизмы сознания не единичны
и возможна реализация различных опций. Связь языка и мышления,
грамматических репрезентаций и логических построений может привести
исследователя к поверхностным выводам, однако сопоставительный анализ
языковой картины мира и национально-языковой специфики однозначно
говорят о том, что культурологическая маркированность грамматики гораздо
более тонкого свойства. «Грамматика выделяет и классифицирует различные
аспекты опыта и изучает их выражение в языке. Более того, она выполняет ещё
одну важную функцию: она определяет, какие аспекты того или иного опыта
должны быть выражены в языке» [Мурясов 2002: 172].
Как известно, отношение человека к миру определяется смыслом. Именно
смыслы образуют культуру. По М. Буберу, «культура есть универсальный
способ, каким человек делает мир «своим», превращая его в Дом человеческого
(смыслового) бытия» [Бубер 1993: 61]. Таким образом, весь мир становится
носителем человеческих смыслов в мир культуры. Э. Д. Сулейменова выделяет
следующие основные характеристики смысла: недоступность смысла в прямом
наблюдении;
инвариантность
перефразирования,
смысла,
иносказания,
выражающаяся
любых
в
других
возможности
преобразований,
осуществляемых в любом языке; актуальность смысла, его ситуативность и
субъективность;
недоступность
неполная
полному
эксплицируемость
восприятию;
смысла,
так
концептуальность
же
как
смысла,
и
его
включенность в единую (общечеловеческую) систему знаний (картину мира) и
возможность существования над языками. Как мы видим, столь обширное
количество параметров смысла и непререкаемая его зависимость от структуры
сознания, а значит, и от мировосприятия, ставит нас в жёсткие рамки
обязательного привлечения лингвокультурологического аспекта к изучению
той или иной области языка, и, бесспорно, грамматики, в том числе глубинной
структуры языка, исконной для каждого языкового супертипа (в наименьшей
степени подверженной влиянию извне).
246
Согласно идеям П. В. Дурст-Андерсена, изложенным им в работе
«Ментальная
грамматика
и
лингвистические
супертипы»
(1995),
«...
грамматические системы разных языков грамматикализованы, но на основе
структур сознания, которые, каждая по-своему, отражают определенные
структуры действительности» [Дурст-Андерсен 1995: 31]. Все это позволяет
некоторым лингвистам даже утверждать, что «грамматика манипулирует
интеллектом» [См.: Т. Гивон, цит. по: Кибрик 1994: 136)]. Появление столь
однозначных заявлений обусловлено несомненной трудностью, которую
представляет грамматика с точки зрения анализа ее национальной специфики.
Закрепляя
в
грамматическом
значении
обязательное
для
выражения,
грамматика членит внеязыковую действительность и представляет ее в
определенной, уже языковой форме. Р. Якобсон отмечает, что «основное
различие между языками состоит не в том, что может или не может быть
выражено, а в том, что должно или не должно сообщаться говорящим»
[Якобсон 1985: 233], соответственно, «любое различие в грамматических
категориях несет семантическую информацию» [там же]. И эта семантическая
информация культуроносна в том смысле, что она отражает способ
концептуализации
действительности,
принятой
и
закрепленной
для
употребления в той или иной национально-языковой общности. При этом
намечаются различные подходы к выявлению и дальнейшему изучению
национальной специфики грамматики. Грамматическая форма, как и всякая
языковая форма, будучи знаком, характеризуется планом выражения и планом
содержания. Соответственно, культуроносность грамматической формы может
проявляется как в плане выражения, так и в плане содержания. Кроме того,
национальная
специфика
грамматики
может
проявляться
в
предпочтительности, большей употребительности той или иной формы.
Согласно теории П. В. Дурст-Андерсена, «грамматические категории и
синтаксические структуры отдельного языка построены на одном из
следующих элементов: либо на коммуникативном намерении говорящего,
являющемся симптомом, т.е. отражением его эмоций и мыслей, либо на
247
сообщении, предназначенном для слушающего и представляющем собой
сигнал в его адрес, либо на ситуации, символом которой служит структура
предложения такого языка» [Дурст-Андерсен 1995: 32]. При этом структура
каждого
конкретного
языка
указывает
на
одного
из
актантов
в
коммуникативном акте: на говорящего, слушающего или на реальность. Таким
образом,
каждая
из
перечисленных
функций
является
супертипом,
характеризующимся в системе категорий вида, времени и наклонения.
Супертип представляет возможности различных реализаций в виде той или
иной системы в силу разных подходов к одному и тому же явлению и разного
рода обобщений. Соответственно, национальная специфика языка в отношении
к грамматике манифестируется прежде всего на уровне супертипа и системы.
Норма и речь также могут обнаруживать специфичность, которая тем не
менее не носит столь полномасштабного характера. Такой подход к грамматике
позволяет сделать вывод о ментальной специфике грамматики, о соотношении
грамматики и ментальных особенностей осознания действительности.
Достоинство описанного подхода – в его попытке цельного взгляда на
явления грамматического порядка, когда «центральные категории языка
должны выводиться не из членов и структур предложения, а из трех главных
категорий глагола (наклонение, вид, время), которые детерминируют другие
категории и синтаксические структуры языка в том смысле, что они должны
находиться в гармонии с детерминирующей категорией» [там же: 41]. Так,
исходя из положений изложенной здесь теории, английский язык может быть
отнесен к языкам, ориентированным на слушающего с точки зрения участников
коммуникации, где выбор представлен между говорящим, слушающим и
предметом/ситуацией реальности. С точки зрения ситуации действительности,
которая может иметь три разные манифестации в человеческом сознании – по
форме восприятия, ментальной модели и архивному месту, – английский язык
ориентирован на разные ментальные архивы. Таким образом, совершенно
естественно английский перфект становится приоритетным для определения
супертипа английского языка. Временная система английского языка с
248
противопоставленными формами перфекта-имперфекта получает логичное
объяснение с точки зрения концептуализации мира, с одной стороны. С другой
–
она
находит
соответствующие
манифестации
в
иных
элементах
грамматической системы, таких, как артикль, противопоставленность ing-овой
и простой форм и ряде других синтаксических конструкций. Грамматическая
система английского языка основывается на уровне ментального архива, в
котором хранится информация о настоящих и прошлых ситуациях, и требует
выбора
в
системе
временных
категорий
между
актуальностью
/
неактуальностью ситуативных данных. Информация предложения должна быть
соотнесена со старой или новой, известной или неизвестной для слушающего.
В отличие от экспрессивной (соотносимой с говорящим) и репрезентативной
(соотносящей язык с предметами и ситуациями реальности) функций,
английский язык реализует апеллятивную функцию языка, то есть функцию,
соотносимую со слушающим.
Данная теория супертипов позволяет определить ментальную специфику
языка и установить соотношение между о-сознанием действительности и
конкретными языковыми формами, представленными в том или ином языке.
Английский язык как супертип ориентирован на слушающего в его отличии от
говорящего или реальности. Референция осуществляется с внутренним миром
слушающего.
Данные
выводы,
особенно
применительно
к
категории
определенности/неопределенности, подтверждаются и выкладками У. Чейфа.
Так, функциональной мотивацией категории определенности он считает
отождествимость: «Отождествимыми считаются референты, которые, по
мнению говорящего, могут быть отождествлены слушающим» [Кибрик 1994:
131].
Абсолютно другую направленность имеет японский язык как язык
бесконечного, в котором не существует не только различений (грамматически
эксплицируемых) результатива и процессуальности, но и различий в формах
настоящего и будущего. Таким образом, грамматическая система японского
языка строится на реализации репрезентативной функции, что подтверждается
249
тем, что объектом внимания оказывается единичное и конкретное, а не
абстракция. Отсутствие грамматических средств для образования слов
абстрактной семантики подтверждает указанную особенность. В восточной
культуре самые важные смыслы находятся за пределами слова, и на них можно
только намекать. Именно эта особенность японской языковой системы дает
возможность использования иероглифа в качестве морфемы составного слова,
придавая ему «сакральный» смысл, а смыслы в японском языке рождаются, в
отличие от европейских языков, отнюдь не в канве речетворчества: они
заложены в каждом используемом в качестве морфемы иероглифе.
Японская
специфика
в
этом
случае
проявляется
в
том,
что
детализированные понятия часто выражаются не словосочетаниями, а
отдельными словами. Так, иероглиф 語 го входит в качестве компонента в
состав большого количества слов, выполняя роль морфемы. Список слов, в
которых 語 го входит в качестве элемента, остаётся открытым. Нас этот случай
интересует с той точки зрения, что смыслы в японском языке «рождаются» не
столько в контекстах, сколько в самих иероглифах и в их сочетаниях,
образующих слова.
Приведем в качестве примера несколько случаев использования
иероглифа
語
го
в
качестве
морфемы
в
составе
других
слов.
В
действительности, количество таких примеров исчисляется десятками, при этом
возможны окказиональные образования по типу сложения морфем китайского
происхождения. Ср:
語句 гоку – слово, слова и предложение; выражение;
語気 гоки – тон, ударение, манера говорения;
語学 гогаку – лингвистика, языкознание;
語りべ катарибэ – профессиональный рассказчик (в древней Японии);
語り物 катаримоно – мелодрама; рассказ;
語脈 гомяку – взаимоотношение между словами, взаимосвязь слов;
語釈 госяку – объяснение слов;
250
語感 гокан – основа, корень слова;
語弊 гохэй – неподходящее выражение, недопонимание;
語頭 гото – первая часть слова
и т.д. [Милованова 2005: 157]
Подчеркнем еще раз, что в восточной культуре самые важные смыслы
находятся за пределами слова, и они могут быть только имплицированы. Со
всей очевидностью можно утверждать, что «намекание» происходит не только
на лексическом уровне, но и на уровне грамматики (как морфологии, так и
синтаксиса). Объектом внимания оказываются единичное и конкретное, а не
абстракция. Отсутствие грамматических средств для образования слов
абстрактной семантики подтверждает указанную особенность.
Определение принадлежности языка к тому или иному супертипу и,
соответственно,
установление
различной
степени
и
грамматикализации, изучение гиперпарадигм (термин Р.
способа
З. Мурясова)
представляет собой один из возможных подходов к описанию национальной
специфики грамматики. Так, в результате проведенного в этом русле анализа Р.
З. Мурясову удаётся выделить культурологическую компоненту в одной из
грамматических форм прошедшего времени в башкирском языке. Она связана с
передачей ностальгического оттенка меморативно-эпического прошедшего
времени [Мурясов 2002: 72–73].
Сущность другого подхода к определению лингвокультурологической
специфики
грамматики
идентифицирована
в
сводится
результате
к
тому,
что
функционального
она
может
анализа
быть
единиц
грамматической системы, анализа, учитывающего ситуацию коммуникации.
Учет коммуникативной ситуации дает возможность дополнить и расширить
классические толкования и интерпретации единиц грамматической системы
новыми понятиями и выводами. Учет ситуации коммуникации посредством
построения «личной сферы говорящего», введения позиции наблюдателя дает
основание
сделать
вывод
о
национально-культурной
специфике
251
грамматической системы того или иного языка. Личная сфера говорящего
представляет собой «относительно самостоятельный фрагмент наивной модели
мира. В эту сферу входит сам говорящий и все, что ему близко физически,
морально, эмоционально или интеллектуально: некоторые люди; плоды труда
человека, его неотъемлемые атрибуты и постоянно окружающие его предметы;
природа, поскольку он образует с ней одно целое; дети и животные, поскольку
они требуют его покровительства и защиты; боги, поскольку он пользуется их
покровительством, а также все, что находится в момент высказывания в его
сознании. Личная сфера говорящего подвижна – она может включать большее
или меньшее число объектов в зависимости от ситуации» [Апресян 1995: 645–
646].
В языке словарный состав определяет содержание, а грамматика – форму
мышления. Как и некоторые слова, так и грамматика содержат некое
количество необходимых общих связей, которые даёт возможность выразить
мысль. Для человека «знающего» представляются более тонкие и спорные
возможности, позволяющие выходить за рамки обыденного познания, изменять
форму мышления, но в соответствии с изменением мировосприятия (картины
мира), которая является основополагающим элементом лингвокультуры каждой
нации, будет меняться перечень грамматических категорий, их общий состав и
парадигма взаимоотношений внутри системы.
Конечно, трудно соблюсти все условия для придания на первый взгляд
чуждому (основанному на другой картине мира) мышлению статуса
признанной формы мысли При этом ни различение множества форм жизни и
воззрений, ни базовая интерпретация мира в иностранном или же родном (по В.
Гумбольдту, Л. Вайсгерберу) языке, в искусстве и науке (по Э. Кассиреру) не
являются критериями координации «парадоксального» образа мысли. Подругому представлено это у Г. Лайзеганга, который исходит из того, что
отдельно взятый человек понимает форму жизни как присущую только ему.
При этом понимание всех областей сводится лишь к индивидуальной форме. Г.
Лайзеганг находит у представителей различных культур повторяющиеся формы
252
мышления, основывающиеся на философии, религии, литературном и
естественнонаучном наследии. Один из этих образов мышления, который Г.
Лайзеганг извлёк из текстов Гераклита, апостола Павла и Гёте, объединяет в
себе признаки «универсального» мышления [Leisegang 1924]. Для нас однако
важным представляется историческое описание этой формы мысли и её
проявлений у различных мыслителей. Она известна у Будды, Лао-Цзы,
Гераклита, Павла, Экхарта, Гёте, Кьеркегора, Ницше, но имеются и трактаты,
которые связаны исследовательскими моментами с этими течениями.
Мы можем констатировать, что «выходящее за пределы разумного»
мыслительное содержание обусловлено особой формой мышления. К. Гроос
основывается на следующей черте, которая должна приниматься во внимание
при анализе феномена речи, это момент новизны мыслительного содержания.
Содержательно новые мысли контрастируют с общепринятыми суждениями, и
это противоречие выражается автором в парадоксальной, на первый взгляд,
форме, афористическом подчёркивании в оксюмороне, привлечении внимания
реципиента речи, где это только возможно. В этом феномене греческое
значение слова ς ещё отчётливее, вопреки ожиданиям или
общепринятому мнению. Например, Мартин Хайдеггер, который особенно в
«Бытии и Времени» рассуждает о «новых содержаниях» и представляет новую
форму
мышления,
часто
противопоставляет
«пара-доксальный»
взгляд
ортодоксальному.
Свободное
установление
и
нарушение
собственных
правил
и
предписаний является характерным приёмом постоянно изменяющейся
лингвокультуры. Морфологические характеристики новообразованных слов
обусловлены
синтаксисом
–
контекстными
употреблениями,
сопровождающимися развертыванием новых смыслов. «Языковая игра» на
уровне грамматики обнаруживает себя посредством разнообразных приёмов,
обеспечивающих
деятельности.
формы
лингвокультурно
обоснованной
мыслительной
253
Отношение к языку, которое задается «иным» мышлением, ведет к
расширению границ уже самого языка. Нетривиальное грамматическое
смыслопорождение
активизирует
размышлять
противоречивых,
о
скрытые
потенции
парадоксальных
языка,
заставляет
явлениях
его
функционирования внутри одной и той же лингвокультуры. В подобном
смыслопорождении активно проявляется стремление языковой личности к
переосмыслению старых форм и созданию новых. В последующих работах
представляется интересным проследить тенденции изменения различных
языков в плане того, будут ли они осуществляться в русле «вскрытых»
тенденций «нарушения» языковой нормы.
Таким образом, национально-культурная специфика грамматической
системы языка выявляется в результате коммуникативно-функционального
описания языкового знака с учетом его прагматики. При этом внимание к
прагматике дает возможность исследовать единицы грамматической системы в
корреляции с говорящим, адресатом и самой ситуацией общения. Иными
словами, классические толкования традиционных грамматик приобретают
национально-культурную окраску в результате описания специфики «действия»
грамматических единиц в акте коммуникации конкретного языка.
4.6. Особенности порождения и декодирования концептуализируемых
понятий в иероглифических лингвокультурах
Для понимания особенностей смыслопорождения и декодирования
концептуализируемых понятий важно привлечение реалий иной культуры,
позволяющее создать отчетливое представление о сути объекта исследования.
В этом аспекте мы анализируем понятия японской философии и определяем
характерные особенности их порождения и концептуализации в узуальном и
неузуальном употреблении. Вербализация и репрезентация в японской
лингвокультуре
с
помощью
различных
иероглифических
знаков
рассматриваемых нами концептов характеризует их важность для данного
сообщества. В энциклопедических словарях список знаков репрезентантов
254
исчисляется десятками. Точное число их невозможно назвать, поскольку,
кроме непосредственно иероглифов, существуют и сложные понятия с
данными ключами.
В качестве примера разберем вербализацию концептуализируемого
понятия «смерь» (экзистенциальное Не-бытие у М. Хайдеггера das Nicht-mehrin-der-Welt-sein). В качестве исходного возьмем иероглиф 死 си и другие
контаминированные лексемы, созданные соположением данного иероглифа с
другими, объясняющими характер происшедшего события. По-другому
дающими обертоны смысловой структуры и классифицирующими понятие «по
причине» становления данного феномена: 変死 хэнси – насильственная
смерть, 戦死 сэнси – смерть на войне /в бою (а кроме того, и воин как таковой,
что раскрывает дополнительное понятие Sein-zum-Tode – Бытие-к-смерти как
форму существования Dasein), 病死 бё:си – смерть от болезни, 凍死 то:си –
смерть от холода, 焼死 се:си – смерть от ожога. Подобный список с
обертонами конкретизирующих факторов можно продолжать практически до
бесконечности.
Помимо отдельных понятий, которые вербализуют конкретные формы
небытия как экзистенциальной смерти 虚 無 кёму – ничто, хотя для понимания
простого Небытия, необходимо еще и учитывать особый вариант 寂滅 –
дзякумэцу (как буддийского Небытия или нирваны, которое обычно
связывается со сменой состояния Бытия в огне 寂 滅 の煙と立ち上る – сгореть
дотла (букв. взвиться дымом небытия)). В данном случае мы имеем дело не с
трансформациями суперструктуры самого смысла, а с метафорическим
переразложением, как например:
мада яритай кото-ва иппай ару нони дзинсэй-но накаба-дэ кэмури-ни натта –
была еще куча дел, которые хотел сделать, но рано умер (букв, «в середине
255
жизни стал дымом») (Перевод «сгорел» не адекватен, так как подчеркивает
активную
деятельность
ушедшего
из
жизни,
чего
нет
в
японском
фразеологизме).
софу-мо кусаба-но кагэ кара кадзоку-но мина-о мимамоттэиру кото даро: – и
дедушка из могилы (букв, «из тени от листьев травы»), наверное, смотрит за
всеми членами семьи.
фуки-но кяку то нару – стать посетителем, который не возвращается.
В последнем примере обращает на себя внимание слово
кяку – гость,
посетитель, данное понятие раскрывает понятие Zeitlichket des Daseins –
времености
Бытия-в-мире,
придает
обертон
временных
характеристик
бытийности и коррелирует с воззрениями М. Хайдеггера. Именно на подобных
герменевтических
мотивах
построена
философия
Дзен,
объясняющая
феномены японской культуры (камикадзе). Хотя, по мысли исследователя М.
Нумано, «страна уже сняла рекламный щит оригинальности и непонятности».
Однако и в настоящее время существует феномен
– синдзю (самоубийства
по сговору), нечто похожее мы можем найти и у Шекспира (влюбленные Ромео
и Джульета).
В этом смысле (сложном для понимания) для представителя японской
лингвокультуры
сэй-ва катаси си-ва ясуси – жизнь трудна,
(а) смерть легка, и порождения герменевтического круга в рассмотрении
вопроса о Бытии
сэй ару моно-ва сиару – (все,что)
имеет жизнь – имеет смерть.
В иероглифе 死 си, трактуемом при переводе на любые западные языки
как понятие «смерть», имманентно присутствует ноэма «прекращение
функционирования», которое в полной мере проявляется, например, в таких
256
словах, как
сикадзан – недействующий вулкан,
сихо: – закон,
утративший действие.
Это никогда не отрицание, не деструкция, а лишь переход в другое
состояние, и вербализация этого феномена находит отражение даже не в
формировании понятия искуственными средствами, не порождением новых
деривационных моделей, как это свойственно М. Хайдеггеру, а внутри
суперконструкции, зачастую без перераспределения ноэм, ведь актуализация
произошла ещё при становлении понятия, и эти ноэмы уже составляют ядерную
структуру, достаточно лишь использовать иероглиф в составе сложного
конкретизирующего понятия. Лексемы с компонентом 死 си, всегда рождают
ноэматическую рефлексию не только над самим понятием, но и над
аллюзивным рядом, над человеком. Поэтому предотвращение перехода к
данному состоянию есть всегда действие, вербализуемое без использования
данного иероглифа – это всегда спасение жизни
иноти-о сукуу – букв.
спасать жизнь.
Однако и с европейским типом мышления на пределе в японской
лингвокультуре можно найти параллели, например, знакомая каждому
пословица
нидо
сыну
кото-ва
ариэнай итидо-но си-ва сакэрарэнай, которая на русский язык переводится
прямым устоявшимся эквивалентом «Двум смертям не бывать, а одной не
миновать!» (Когда русские употребляют эту поговорку, решаясь сделать что-то
рискованное,
следует переводить ее более подходящей в таком контексте
доку-о куваба сара-мадэ, букв, «если есть отраву, то уж до
(дна) тарелки»).
Рассматривая
другое
концептуализированное
понятие
японской
философии и культуры (мы уже говорили о нем выше – это концепт
ЧЕЛОВЕК), важно прояснить, какие лексемы служат для вербализации данного
понятия, ведь каждая интерпретация здесь зависит от вертикального контекста
257
философского направления, а также от ближайшего горизонтального контекста
употребления.
Самое общее и наиболее употребительное в речи
1
– хито, имеет
вполне тривиальное и конкретное словарное значение, им обозначают
реального человека или человека как представителя homo sapiens.
Точно так же, как и в русском языке, лексема «человек»,
обозначает
либо
взрослого
человека,
либо
человеческое
хито
существо
безотносительно к гендерной характеристике:
кими-мо
хито-то
натта
идзе:
дзибун-но
гэндо:-ни
сэкинин-о
оттэикитэиттэ хосии – хотелось бы, чтобы ты, став взрослым, нес
ответственность за свои слова и действия.
Данная лексема часто используется с дополнительными обертонами,
допустим, «чужого» человека:
хитогото – чужие дела
хитодзума – чужая жена, замужняя женщина
хитонами хадзурэру – отличаться от (других) людей,
быть не как все.
Даже в простом пространственном указании на предмет, явление,
человека (на место где происходит действие), представитель японской
лингвокультуры обязательно детерминирует главный критерий оппозиции
ути (свой),
сото (чужой), а также имманентное противопоставление
«внутренний-внешний».
Подобная оппозиция, как было неоднократно показано, достаточно
универсальна и присутствует в концептуально-валерной системе любой
лингвокультуры, она является ключевой в ядерной зоне данного поля и
ассоциируется с противостоянием «добра» и «зла» соответственно, но «зло» не
полностью покрывается восприятием «чужого», да и понятие «чуждого» не
Примечательно, что в толковых словарях при объяснении значений слов, включащих
обозначения человека посредством других слов,
используется как ключевое.
1
258
всегда есть враждебное или плохое. Говоря о любом явлении в самом широком
смысле вплоть до абстрактного понятия, представитель японской, да и любой
иероглифической лингвокультуры, прежде всего, детерминирует, в чьей сфере
– в его собственной, поблизости от собеседника или вдали от них обоих это
явление имеет место быть, и в зависимости от его относительного
месторасположения употребляет то или иное указательное, определительное
или вопросительное местоимение. В этом смысле оппозиции европейских
языков
в
«определенности/неопределенности»
соответствует
оппозиция
«свой/чужой», хотя они и не тождественны. В японской языковой картине мира
определяющим
моментом
является
расширение
поля
восприятия
действительности: то, что рядом со мной, то, что находится подальше, то, что
находится совсем далеко. Причем, и именно это важно, такое расширение
подразумевает не только пространственные параметры.
Подобное разделение не носит абсолютного характера и отнюдь не являет
собой вербализацию враждебности по отношению к чужому (даже, скорее,
иному). В этом случае лишь констатируется принадлежность кого-либо или
чего-либо к чуждому сообществу. Некто может быть своим с одной точки
зрения и чужим – с другой.
Фактически лингвокультурным сообществом иероглифики (в частности
японским) детерминировано признание существования отличных друг от друга
норм и правил, как внутри группы, так и вне её, а значит, и нормированного,
правилосообразного действия по отношению к своим и к чужим, для примера
возьмем выражение
усо-мо хо:бэн – и ложь тоже приемлема,
букв. и ложь – способ. По мнению Сакаия Т. «справедливость носит
относительный характер» [Сакаия 1991: 151].
При анализе процесса порождения и декодирования текста в японской
лингвокультуре нами учитена имманентно присутствующая в концептуальновалерной системе иерархическая структура (вертикальная) социальных
отношений, в дополнение к которой имеется и горизонтальная структура,
которая всегда определяется пространственной и социально-культурной
259
близостью или
дистантностью. По сути, анализируя
текст японской
философской традиции, получаем в дополнение к имеющимся типам
хронотопа: 1) продуцент – реципиент, 2) действующие лица порожденного
текста между собой, 3) действующие лица порожденного текста – реципиент,
4) продуцент – действующие лица порожденного текста, – еще один.
Лексема
хито используется, как правило, при наличии некоторых
конкретизаторов, если дается некая качественная характеристика субъекта,
выделяющая его среди других субъектов.
Это могут быть определительно-указательные местоимения
соно и
местоимение
коно, образующие с иероглифом
«он»,
включающее
соотнесенности:
значение
хито личное
пространственно-временной
а н о х и то – он, тот человек,
тот (этот) человек,
ано,
сонохито – он,
конохито – он, этот человек. Очень часто
уточняющими характеристиками являются разнообразные определения.
О
конкретности,
конструкта
смысла
имманентно
присутствующей
хито, свидетельствует
в
самом
достаточно
составе
частое
его
употребление по необходимости в форме множественного2 числа, данное
понятие имеет несколько вариантов вербализации:
редупликация
хитобито;
присоединением суффикса тати –
хитотати.
Причем данный иероглиф может означать не только субъекта как
такового, но и его внутренний мир, духовные качества в таких корнесложных
словах, как
нингэн и
дзимбуцу.
В этом ракурсе интересно рассмотерть в качестве примера высказывание
о индивидуальном языке, или, по крайней мере, индивидуальном тезаурусе
конкретного человека:
В японском языке существительное без показателя множественности в зависимости от
контекста может обозначать и единственное, и множественное число.
2
260
хитори-но
(1)
нингэн-ва, соно (2) хито-нари-но гои-о но:тю:-ни сонаэтэиру – отдельно
взятый /букв, «один»/ человек (1)3 имеет в мозгу лексику, характерную для
(именно) этого человека (2).
Лексема
нингэн, образованная присоединением к
хито иероглифа
интервал, промежуток, может употребляться в смысле «человек» как
homo sapiens, когда необходимо выразить отличие человека от механизмов,
неких нечеловеческих, неземных существ, или же животных:
яся-mo-ea нингэн ни
гай-о насу бо:акуна маруй то иу – яся – это разновидность злых демонов,
которые вредят людям;
варэварэ-но суму нингэн сэкай-о букке:-дэ-ва «сяба» то ебу – мир людей,
в котором мы живем, в буддизме называют «сяба»;
Употребляя в смысле «человек» понятие
нингэн, носитель японской
лингвокультуры, прежде всего, будет иметь в
виду (о-сознавая эту
имманентную данность) некое математическое «множество» людей, так можно
сказать о субъекте, который относится к некой общности, объединенной по
конкретному признаку, и члены которой имеют имманентно присущее каждому
их них общее качество:
нингэн-но дэкиру дзэнреку-о цукусу –
сделать все, что в человеческих силах;
икитэиру нингэн-э-но аи – любовь к живым
людям.
Сочетание
нингэн правилосообразно употребляется в отвлеченном
контексте, имея при этом некий собирательный оттенок в своем ноэмном
составе, в отличие от
у данного понятия отсутствует множественное число,
оно никак не вербализуется и осознается на уровне ноэматической рефлексии в
составе ноэм-культурных-основ:
3
То есть «один человек из множества (нингэн)».
261
нингэн-ни-ва аямари-ва цукимоно да –
человеку/людям свойственно ошибаться;
н и н г э н - н о гэнго то иу моно-ва... – то,
что определяется как язык людей...
В некоторых устойчивых словосочетаниях
хито и
нингэн могут
быть взаимозаменяемыми. Рассмотрим два классических примера:
карэ-ва хито-га ий – у него хороший характер / тот
человек – хороший человек.
Подобная ситуация может найти и другой вариант вербализации:
анохито-ва нингэн-га ий.
В первом варианте иероглиф
подлежащим, а местоимение
хито является рематическим
карэ – он – темой высказывания. Во втором
контексте некий конкретный человек, который и есть тема высказывания,
обозначается иероглифом
при этом корнесложное
хито с указательным местоимением
ано,
нингэн – является рематическим подлежащим. В
данном конкретном случае большинство носителей японской лингвокультуры
не видят разницы между двумя высказываниями, но при этом на уровне
ноэматической
рефлексии
пытаются
объяснить
(в
случае
постановки
проблемы), что в последнем варианте можно предполагать, что говорящий
имеет в виду, что бывают и плохие, и хорошие люди, и тот, о котором
говорится, является хорошим человеком, другими словами, относится к разряду
/множеству/ хороших людей. Первый же вариант весьма конкретен, и в нем нет
указания на то, что помимо того, о ком идет речь, существуют еще подобные
ему люди.
Еще одним способом обозначения абстрактного человеческого существа
в японской лингвокультуре является лексема моно – некто, тот, кто...,
записываемая иероглифом
, понимаемая как синоним лексемы
хито. При
этом существует и ещё одна лексема моно – предмет, представленная
иероглифом
. В данном случае, для понимания этого феномена необходим
этимологический анализ лексемы моно, которая существовала в японском
262
языке с дописьменных времен и означала, очевидно, только «предмет», правда
первобытное со-знание не видит разницы между феноменами живой и неживой
природы (это как Хайдеггеровское Zeug с объяснением его Umzu), но с
введением иероглифики запись того или иного понятия разнится в зависимости
от того, о человеке или нет идет речь.
В речи, в пословицах и поговорках4, при противопоставлении себя
другим народам, японцы, говоря о себе, используют иероглифы
вага,
к
онорэ,
ми, и в данном случае они являются контекстуальными синонимами
хито, имеющему, как говорилось выше, в составе ноэмной суперструктуры
ноэму-культурную-основу «другой/чужой человек».
хито-ва хито вага-ва вага – люди – это люди, ты сам –
это ты сам.
В различных контекстах используется лексема
ми, ядерной сферой
ноэмной структуры является ряд «тело, внутренняя сущность», означая
человека как такового и интерпретируемого как «сам/себя»:
ми-га кэппаку дэсу – (моя) совесть чиста, букв. ми – чисто.
Часто выбор того или иного иероглифа из целого сонма вербализующих
то или иное понятие, релевантное для представителей лингвокультурного
сообщества, зависит от множества фактов объективной реальности, ситуации
семиозиса, наличности фоновых знаний, интенции продуцента, в японской
лингвокультуре к уже имеющимся условиям смыслоформирования добавляется
еще один пласт хронотопических характеристик, в добавление к этому
герменевтическое понимание текста предполагает наличие имманентно
присущего каждому понятию критерия исчиленности/принадлежности к тому
или иному сообществу в широком смысле этого слова. Специфика
иероглифического письма позволяет вербализовать самые различные ньюансы
того или иного концептуализируемого понятия, как с самым широким
Можно отметить, что в отличие от вага и ми, которые до сих пор весьма активно
используются в языке, онорэ является архаизмом, сохранившемся, в основном, в пословицах
и поговорках.
4
263
спектром граней смыслового конструкта, так и сильно ограниченного в своем
понимании и уптреблении.
4.7. Интерпретативное смыслопорождение
В данном параграфе нами рассмотрены возможности интерпретативного
смыслопорождения при создании неузуальных конструктов в философском
дискурсе. Для нашего исследования релевантным является рассмотрение
символа и языковой игры как модели порождения нового смысла и его
вербального оформления, при этом основной характеристикой языковой игры
как процесса смыслопорождения является обращение к феноменологической
рефлексии над созданным конструктом, что обеспечивает порождение и
дальнейшее функционирование в виде декодирования и интерпретации
некоторых суперструктур интенциально релевантных ноэм в абсолютно новом
или переосмысленном виде.
«Специфика философии проявляется в особенностях ее языка, который
отличается как от «доязыковой» практики «образного» мышления Мифа, так и
от «понятийного» (знаково-денотативного) языка науки (теории). Собственно, в
этом нет ничего удивительного, если предположить отличие философии как от
Мифа, так и от Науки. В историческом плане феномен философии занимает
«пограничное»
положение
между
феноменами
исчезающего
Мифа
и
возникающей Науки» [Катречко 1995: 44].
Философия «работает» с символами, т.е. такими видами знаков, которые
характеризуются минимумом денотативности и максимумом смысловости. Так
называемый метод «языковой игры» предназначен для прояснения смысла
философских символов за счет построения некоторой системы самоссылающихся друг на друга философских терминов. Смысл конкретного
элемента существует лишь при наличии других элементов системы (общего
структурированного ряда). Ноэматическая структурация смысла продолжает
традицию прояснения глубинных структур смысла и распредмечивания
узловых элементов системы.
Философский язык чрезвычайно сложен и может включать в себя разные
264
проявления языковой игры и использования символики, порой неузуальной,
базирующейся на актуализации периферийных ноэм в суперструктуре смысла,
вербализации
личностного,
интуитивного.
На
примере
немецкой
экзистенциальной философии можно проследить разнообразные средства,
используемые в вышеозначенных целях. Эти средства относятся как к уровню
самого
языка
(то
есть
философ,
используя
продуктивные
способы
словообразования, создает новые слова со сдвигами в структуре значения,
порождая тем самым окказиональные смыслы), так и к вариативным
изменениям рефлексивной реальности, изменяющей свои характеристики от
индивида к индивиду. Появляющиеся таким образом окказионализмы
представляют собой особую сложность для о-сознания и интерпретации, так
как они еще не имеют зафиксированных значений в словарях, и их значение
выводится лишь из контекста, однако и использование горизонтального
контекста не всегда приводит к верным решениям, необходимо учитывать и
вертикальный
интендирования
многомерного
контекст,
а
также
при
интерпретации
смысла.
Приведем
использовать
и
правильные
воспроизведении
пример:
Wenn
die
акты
имманентного
Erfahrung
der
Inkommunikabilität das jenige Moment ist, was für uns den Einsichtsgewinn des 18.
Jahrhunderts zusammenfassen kann, ist sie jedenfalls nicht als Errungenschaft
gefeiert und nicht in den Code passionierter Liebe aufgenommen worden [Luhmann
1982: 163] – Если неспособность к коммуникации является именно тем
маркером, который позволяет нам суммировать суть взглядов 18 столетия,
это никоим образом не может считаться достижением и быть включенным в
средства кодировки бескорыстной любви.
В данном высказывании намечены несколько авторских приемов анализа.
Так, например, словосочетание passionierter Liebe по аналогии с английским и
французским языками могло быть переведено как «страстная любовь», так как
в обоих языках слово passion означает «страсть». Но добавленный автором
суффикс -ieren отсылает нас к понятию «терпение», и, соответственно, данное
словосочетание должно переводиться именно как «бескорыстная любовь». Еще
265
одним показателем правильности подобного переводческого решения являются
правильно избранные акты интендирования при интерпретации понятия,
вовлекающие работу с прецедентными текстами, и лингвокультурный фон
европейской мыслительной традиции, поскольку известно, что в 18 веке как в
литературе, так и в общественной жизни преобладал романтизм, стремящийся к
искренности, мистицизму, народности. В декодировании и интерпретации
высказывания
посредством
филологической
метатеоретического
феноменологической
подхода
и
герменевтики
применении
кроется
успех
распредмечивания многогранности смысла в данном высказывании.
Следующим примером языковой игры в данном предложении может
служить авторский окказионализм Inkommunikabilität, интерпретированный как
«неспособность к коммуникации». Эта лексема представляет особый интерес
по причине возможности проведения этимологического переразложения на
основе разноструктурных языков. Само слово Kommunikabilität уже является
ярким
примером
смешения
немецкой
основы
и
заимствованного
в
средневерхненемецкий период при посредничестве французского языка
латинского суффикса -able, обозначающего способность к чему-либо. Значит,
Kommunikabilität
в данном случае
означает
«способность
к
ведению
коммуникации». Однако приставка in-, заимствованная уже из английского
языка, на наш взгляд, указывает на отрицание, соответственно, перевод слова
меняется на антонимический, и, соответственно, конструкция целиком будет
переводиться
как
«неспособность
к
коммуникации»
или
«отсутствие
коммуникации».
Если же рассматривать предложение в целом, можно говорить о большом
количестве трансформаций, в частности, функциональных замен, примененных
для того, чтобы и в русской лингвокультурной и философской традиции это
предложение было понятным и несло, если не идентичный, то аналогичный
смысл, обладая социо-прагмалингвистическими характеристиками, присущими
оригинальному высказыванию.
Нарочитое
отсутствие
логичности
связывания
компонентов
266
философского смысла и его имманентность является одной из важнейших
характеристик философского дискурса. В этом отношении показательным
является порождение философских метафор с новым внутренним глубинным
содержанием
и
абсолютной
невозможностью
интерпретации
как
в
устоявшемся, так и в контекстуальном эквиваленте, без утраты скрытого в
узловых элементах
структуры
смысла. Следующий пример ярко
это
иллюстрирует: Eine andere Hürde liegt in der Auffassung der individuellen
Personalität selbst [Luhmann 1982: 166]. – Другая трудность заключена в точке
зрения самого индивидуума.
Eine andere Hürde в высказывании невозможно интерпретировать как
«другой барьер» по причине метафорического переноса в семантике последнего
компонента; актуализированные периферийные ноэмы, определяющие общие
характеристики в понятиях «барьер», «преграда» и «сложность», переходят в
ядро смысловой структуры и при вербализации в другой лингвокультуре
проявляются в ноэмах-доминантах, определяющих понятие «трудность», это
может строиться на основе семантической несочетаемости – ведь точка зрения
не может создавать барьеров, однако является причиной сбоев в процессе
коммуникации. В данном случае трансформация в виде функциональной
замены лексемы необходима в силу радикальных различий в возможностях
семантической сочетаемости элементов в немецкой и русской лингвокультурах.
В следующем высказывании наблюдается нейтрализация стилистической
окраски немецкого словосочетания по сравнению с русским: Erst allmählich
wachsen Einsichten in die prägenden Einflüsse von Umwelt, Milieu, Erziehung,
Reisen, Freundschaftennach, und erst am Ende des Jahrhunderts (und eigentlich nur
in der deutschen Philosophie) wer den jene Radikalformeln gefunden, die
die
Welthaftigkeit des Ich und die Subjektivität der Weltentwürfe behaupten [Luhmann
1982: 167]. – Лишь с течением времени происходит ознакомление с
распространяющимися
воздействиями
окружения,
условий
жизни,
воспитания, путешествий, дружбы, и только в конце столетия (и,
собственно, только в немецкой философии) находятся радикальные формулы,
267
устанавливающие всеобъемлемость собственного «я» и субъективность
картин мира.
Данное
высказывание
изобилует
приемами,
репрезентирующими
движение мысли автора. Одним из таких приемов является олицетворение,
которое, однако, в русской лингвокультуре не находит своего аналога
вследствие различия в наборе ноэм-культурных-основ. Словосочетание
Einsichten wachsen, в дословном переводе – «взгляды растут», в переводе было
заменено более сложным словосочетанием – «происходит ознакомление». В
данном
случае
при
интерпретации
возможно
довольствоваться
лишь
горизонтальным контекстом и ноэматической рефлексией, так как дальнейшие
факторы указывают на появление и развитие определенных взглядов в
историческом процессе. Кроме того, лексема Welthaftigkeit, являющаяся
окказионализмом, не может быть переведена лишь суммируя значения
компонентов, хотя именно они и наводят нас на верное значение; указание,
намек являются характерной чертой множества философских текстов –
вербализация онто-онтологических картин не всегда возможна, лишь при
появлении третьего уровня абстракции мы можем разрешить данное
противоречие. Первая часть лексемы не составляет труда – «мир», но вторая –
Haftigkeit – является ярким примером новообразования – существительное,
образованное от глагола haften, что означает «быть ответственным за чтолибо», «оставаться (например, в памяти)», «охватывать». Исходя из того, что
мы имеем дело с философским дискурсом, можно предположить, что данный
конструкт может быть окказиональным обозначением философского понятия
«всеобъемлющего».
Еще одним примером феномена языковой игры можно считать часть
следующего высказывания: Im Bereich der Liebessemantik fällt vor allem auf, dass
die alte Differenz in der Formentypik der Semantik, der Unterschied von
Idealisierung und Paradoxierung, in einer neuen Einheit aufgeht [Luhmann 1982:
50]. – В области любовной семантики, прежде всего, бросается в глаза то,
что старая разница в возможности реализации семантики восходит к
268
различию между идеальным и парадоксальным в новом единстве.
В первую очередь, следует сказать, что лексемы Idealisierung и
Paradoxierung были созданы по одной словообразовательной модели. Разница
заключается лишь в том, что слово «идеализация» в русском языке и его
немецкий аналог Idealisierung закреплены в словарях и не представляют
трудности
для
перевода.
Слово
же
Paradoxierung
–
яркий
пример
окказионального новообразования. На наш взгляд, его следует переводить по
аналогии со словом «идеализация», хотя ни в русском, ни в немецком языках не
существует слова, описывающего процесс парадокса, ведь этимологически
сочетание суффиксов -ier и -ung, вербализирует процессуальность отыменного
производного существительного. Поэтому, чтобы передать имманентный
смысл данных конструктов, можно применять конверсию в трансляции
многомерной структуры в русской лингвокультуре, в частности, в языке
перевода два данных термина лучше было передать прилагательными в
функции
существительных,
применив
вторичную
номинацию,
что
соответствует норме переводящего языка.
Для философских текстов частотны функциональные замены при
интерпретации некоторых понятий. В следующем высказывании лексема
Selbstbildung могла бы означать «самообразование» или «самоформирование»,
но на самом деле должна переводиться как «формирование собственного «я»».
Понять это нам помогает именно вертикальный контекст, наличие в
философском
дискурсе
большого
количества
сложных,
наполненных
неузуальным смыслом понятий.
Die Sozialität des Liebens wird somit als Steigerung der Chance zur
selbstbewussten Selbstbildung begriffen – was zu einer definitiven Absage an das
Konzept der Selbstliebe führt [Luhmann 1982: 172]. – Социальность любви
понимается,
таким
образом,
как
увеличение
шансов
на
уверенное
формирование собственного «я»– что ведет к окончательному отказу от
концепта самолюбования.
А вот ещё один пример: Reflexivität des Liebens ist also mehr als ein
269
einfaches Mitfungieren des Ichbewußtseins in der Liebe, mehr auch als das bloße
Bewußtsein der Tatsache, dass man liebt und geliebt wird [Luhmann 1982: 175]. –
Самоанализ в любви является чем-то большим, чем простым содействием
осознанию собственного «я» в любви, а также большим, чем просто осознание
того факта, что можно любить и быть любимым.
В
данном
высказывании
представлено
множество
авторских
окказионализмов, произведенных по устойчивым деривационным моделям, в
соответствии с которыми образованы, например, Reflexivität или Mitfungieren,
однако, если эти конструкты можно интерпретировать исходя из их основ, зная,
например, что Reflexion – это «отражение» или «самоанализ», а глагол fungieren
переводится как «выступать в качестве чего-либо», то перевод слова
Ichbewußtsein представляет трудность и нуждается в применении определенных
трансформаций. Здесь целесообразно применение смыслового развития на
основе
актуализации
ноэм-доминант
и
базисного
применения
этимологического переразложения как трансформации суперструктуры смысла,
Ichbewußtsein в данном случае должно быть переведено как «осознание бытия
собственного «я»».
Для философских текстов характерными являются и заимствования из
других языков. Причем заимствуются не только целые слова, но и
определенные части слов, в частности, приставки и суффиксы, что затрудняет
работу по вербализации смыслов при трансляции в другую лингвокультуру:
Alles, was man zu sein, zu bleiben, was man durch zu halten sucht, erstarrt zur
hölzernen Hand, mit der man nicht lieben kann; oder dann zur Eitelkeit, die den
amourpassion durch den amourdevanite ersetzt [Luhmann 1982: 177]. – Все, чем
человек пытается быть, остаться, что пытается сохранить, разбивается о
быт, когда уже невозможно любить; или превращается в тщеславие, которое
заменяет amourpassion на amourdevanite.
Французские «разновидности» любви приведены в данном высказывании
не случайно. Нам кажется, что при межъязыковой интерпретации эти
французские понятия можно оставить без перевода, так как реципиент,
270
знакомый
с
французским
языком
и
философией,
лучше
воспримет
интенциальную амфиболию автора, имманентно предпосланную данному
высказыванию, а для усредненного реципиента релевантным окажется
переводческий комментарий, что также даст возможность в полной мере понять
замысел автора.
В следующем примере приводится аллюзия к произведению Стендаля.
Это, во-первых, отсылает нас к французской философии 18–19 веков, четко
указывая
книгу
и
главу,
где
описываются
определенные
события.
Следовательно, философские тексты возможно переводить не только с
достаточной долей «креативности», но и использовать знания различных
языков и фоновые знания по многим предметам, в частности, здесь – по
истории философских учений: Wir können uns hier an Stendhal halten, und zwar
an das Kapitel XXXII Del' intimitein Del' amour (1822) [Luhmann 1982: 176]. –
Здесь мы можем придерживаться позиции Стендаля, а именно главы XXXII
книги Del' intimitein Del' amour (1822).
Два следующих примера содержат заимствования уже из английского
языка, хотя очень схожи с предыдущим тем, что теперь автор указывает нам на
английскую философию того времени и дает определения философским
понятиям, распространенным в тот период в английской аналитической
философии. Автор приводит здесь имя философа Бейтсона, изучавшего процесс
коммуникации, что еще раз определяет основную идею всей книги – изучение
процесса коммуникации в его историческом развитии и его особенности в
зависимости от определенных факторов: Anders als je zuvor wird damit die
Differenz persönlich/unpersönlich zur konstitutiven Differenz, das heißt zu derjenigen
Differenz, die im Sinne der Definition von Bateson (difference that makes a
difference) den Informationen ihren Informations wert gibt [Luhmann 1982: 205]. –
Совершенно иначе, чем когда либо ранее, конституируется разница между
личностным и безличным, то есть превращается в сущностное различие,
которое, согласно, определению Бейтсона (difference that makes a difference),
придает информации ее ценность.
271
Следующий
пример
представляет
понятие
любви
как
некоей
разновидности счастья. В нем предлагается с некоей интенциальной аллюзией к
уже использовавшимся ранее концептам, которые даны в заимствовании в
неизмененном виде из латинского языка, они, безусловно, предполагают
владение данной информацийе реципиента, что взывает к фоновым знаниям
реципиента/интерпретатора.
Возможно,
автор
использовал
данное
заимствование, чтобы четче показать противостояние данных понятий.
Das wird zunächst, in allgemeingehaltenen, individuell ausfüllungsbedürftigen
Begriffen wie Glück, voluptas/taedium festgehalten [Luhmann 1982: 174]. – Сначала
это фиксируется в общих, но индивидуально воспринимаемых понятиях как
счастье, voluptas/taedium.
В данном случае использование антонимов автором преследовало
следующую прагматическую цель: подчеркнуть неизменчивость и актуальность
данных проблем – voluptas/taedium неразрывно связаны друг с другом.
Из всего вышесказанного следует, что наиболее подходящим для
интерпретации и прояснения смысла философских символов за счет построения
некоторой системы само-ссылающихся друг на друга философских терминов
является метод «языковой игры». Здесь смысл некоего понятия выводим лишь
при наличии о-сознания и понимания как общей иерархии аллюзивного ряда,
так и при априорном допущении существования других соположенных
элементов системы (общего структурированного ряда).
Выводы по четвертой главе
Анализ процессов лингвокультурного и концептуального в структуре
смысла, взаимоотношения ноэм различного уровня, репрезентирующих
общецивилизационные, лингвокультурные и личностные аспекты смысловой
суперструктуры и порождение и репрезентацию смысла на Ультра-, Супра- и
Гиперуровнях позволяет нам сделать следующие выводы:
1.
Метауровни бытования смысла носят сложный характер. Нами в
работе различается несколько таких уровней: самые низшие уровни Бытия –
это: Чистое Бытие, Первобытное Бытие; все это бытие процесса реального
272
действования, они равно первичны, и относятся к видам, существующим в
мире. Неоднородность, которая позволяет сопоставлять элементы, представляет
собой нечто вроде супра-рациональности и парадокса. Супра-рациональность
как абсолютная изолированность противоречий без каких-либо взаимодействий
друг с другом, при движении от стандартной линейной логики к возможности
видеть
корень
явлений,
позволяет
перейти
от
репрезентативной
к
нерепрезентативной интеллигибельности, к пониманию парадокса и супрарациональности, что соответствует осмыслению эволюции от Первобытного
Бытия к Супра-Бытию, где подключаются лучи ноэматической рефлексии.
Результатом нерепрезентативности является одновременность противоречий
без столкновений и вмешательств в рождающийся самостоятельно смысл,
смысл, возникающий на пике о-сознания и по-мысливания в Гиперуровне.
2.
На
каждом
из
вычлененных
уровней
бытия
смысловости
распределяются некоторые ноэмы. Безусловно, подобное распределение не
является четким и категоричным, однако оно позволяет ввести элементы
смысла в модус строго научного рассмотрения. Ноэма, рассматриваемая с
позиций лингвокультуры и языковой картины мира, есть непосредственное
выражение глубинных элементов и систем организации смысла. Иначе говоря,
ноэмы, составляющие глубинную структуру смысла, – это компоненты,
посредством
которых
осуществляется
культурнообусловленная
концептуализация реальности. При этом благодаря своей классифицирующей и
структурирующей роли своеобразный мир структурированных ноэм служит для
упорядочивания
некоего
хаотичного
опыта
при
структурировании
и
формировании целостной картины мира в процессе мышления и по-знания в
конкретном языке и лингвокультуре; творческое начало в языке является
примарным при создании языковой картины мира.
3.
Свободное установление и нарушение собственных правил и
предписаний является характерным приёмом постоянно изменяющейся
лингвокультуры.
многомерных
Морфологические
единиц
обусловлены
характеристики
контекстными
новообразованных
употреблениями,
273
сопровождающимися развертыванием новых смыслов. «Языковая игра» на
уровне грамматики обнаруживает себя посредством разнообразных приёмов,
обеспечивающих
деятельности.
активизирует
формы
лингвокультурно
Нетривиальное
скрытые
потенции
обоснованной
грамматическое
языка,
мыслительной
смыслопорождение
заставляет
размышлять
о
противоречивых, парадоксальных явлениях его функционирования внутри
одной и той же лингвокультуры. В подобном смыслопорождении активно
проявляется стремление языковой личности к переосмыслению старых форм и
созданию новых.
4.
Любые языки, основанные на непосредственном включении
некоего маркера в порождаемую, а не воспроизводимую речь, имеют гораздо
больше возможностей для сохранения аллюзий (при ранее использованном
маркере в составе сложных понятий), тем самым включая в канву
философского дискурса саму жизнь; порождение неузуального многомерного
смысла происходит при сужении уровня абстракции при внутриязыковом
внутрилингвокультурном
сопоставлении
и
приводит
к
дезинтеграции
ассоциативного ряда, к значимому расподоблению ноэм в структуре понятия и,
как следствие, к внутреннему делению самого концепта, имманентной
инфляции смысла.
5.
При различных операциях трансформации суперструктуры смысла
происходит его расширение с образованием нового понятия и дальнейшей его
концептуализацией, таким образом, каждое концептуализированное понятие
может быть изначально предложено в качестве неузуального образования и
впоследствии введено в практику философского употребления, данное
введение производится путем некоторых интерпретативных операций с
конструктом.
6.
Философские конструкты чрезвычайно сложны и могут включать в
себя разные проявления языковой игры и использования символики, порой
неузуальной,
базирующейся
на
актуализации
периферийных
ноэм
в
суперструктуре смысла, вербализации личностного, интуитивного. На примере
274
текстов экзистенциальной философии разноструктурных языков можно
проследить разнообразные средства, используемые в вышеозначенных целях.
Они разнообразны как в системе самого языка (продуктивные деривационные
модели при создании нового окказионального смысла), так и в системе
отношений внутри рефлексивной реальности каждого конкретного индивида.
Контекстуально обусловленные и порожденные таким образом окказиональные
конструкты чрезвычайно сложны для анализа, на именно они представляют
собой живой многомерный, не зафиксированный в значении смысл, требующий
при интерпретации и интерпретации использования правильных тактик
интендирования. Смысл конкретного элемента существует лишь при наличии
других элементов системы (общего структурированного ряда). Ноэматическая
структурация смысла продолжает традицию прояснения глубинных структур
смысла и распредмечивания узловых элементов системы.
7.
Процесс
смыслопорождения
является
обращением
к
феноменологической рефлексии над созданным конструктом, что обеспечивает
порождение и дальнейшее функционирование в виде декодирования и
интерпретации некоторых суперструктур интенциально релевантных ноэм в
абсолютно новом или переосмысленном виде.
275
Глава V. Ноэматика и семантика. Иерархическая структура смысла
Ноэматическая структура смысла философских концептов
5.1. Смыслопорождающие механизмы
Данный параграф посвящен иерархической ноэматической структуре
смысла, реализованного в тексте. Важно не наличие неузуальных образований в
речи, а раскрытие условий ноэматического смыслопорождения и трактовка
смысла текста как некоей иерархической структуры, имеющей в своём
основании ноэмы концептуализации, служащие для функционирования и
развития всех возможных надстроек многоуровневого смысла; наиважнейшим
является анализ глубинных иерархических структур смысла и разнообразных
возможностей смыслопорождения путём внутрисистемного перераспределения
некоторого интенциально релевантного набора ноэм и деривационных моделей,
по которым многоуровневый смысл может быть построен. Целью самого
исследования является объединение глубинных структур и ноэматики как
основного принципа порождения и декодирования смысловых структур и их
иерархии.
Чем можно объяснить появление смысла как особого феномена? Его
порождение, декодирование
и
просто
наличие появляется
лишь при
определенных условиях. В работе Г. И. Богина «Обретение способности
понимать» (2001) основные условия смыслопостроения в тексте описываются
так: существует некоторое содержание, взятое в определенной модальности.
Есть некоторая ситуация либо в деятельности, либо в коммуникации, либо в
том и другом, но при этом ситуация состоит из элементов, которые
перевыражаются в рефлективных актах, а часть этих элементов способна еще
до образования смысла бытовать в виде минимальных смысловых единиц –
ноэм. Данные ноэмы участвуют в интенциональном акте, то есть а акте
направления рефлексии. Эти ноэмы образуют определенную конфигурацию
отношений и связей, которая служит основанием для интендирования, что и
приводит к перевыражению ноэматических отношений свойств компонентов
онтологической конструкции субъекта [Богин 2001: 516].
276
На настоящий момент в науке существует несколько точек зрения на
вопрос наличия/появления смысла, так, например, Р. Г. Альжанов ратует за
проявление смысла как некоего идеального конструкта «в мозговых
нейродинамических системах» [Альжанов 1985: 144], да и мнение о том, что
смыслы являются предметом изучения именно психологии, весьма широко
распространено. С данным утверждением спорить трудно, и нет препятствий к
подобной трактовке и изучению таких идеальных структур психологической
наукой. Однако сама психика и психические процессы в ракурсе рассмотрения
смыслопорождающих механизмов являются второстепенным аспектом, неким
инструментарием по отношению к смыслопорождению. Как отмечает А. П.
Стеценко, «изначальная наделенность мира значениями и смыслами организует
чувственные впечатления, обеспечивает постижение ребенком физических
закономерностей окружающей реальности, например, за счет прогрессирующей
дифференциации сенсорных модальностей» [Стеценко 1987: 28].
Не работающей в лингвистике оказывается и эпистемологическая
концепция позитивизма, ведь она, по сути, отрицает само существование таких
иерархических идеальных конструкций, как смысл. Релевантно в этом
отношении высказывание Ч. Пирса, вскрывающее саму суть позитивистских
воззрений: «Сначала человек объявляет, что удививший его предмет есть
удивительное, но по размышлении убеждается, что это есть удивительное
только в том отношении, что он удивлен» [Feibleman 1970: 232].
Отсюда можно сделать вывод о непосредственном существовании только
самого психологического «состояния удивленности» – это и есть объективная
реальность, которую и можно изучать. Считается, что существуют не смыслы, а
следы памяти об увиденных вещах [Hannay 1973: 161–182]. Боязнь встретиться
с идеальными сущностями, невнимание к субъективному в когнитивном, что,
собственно, и представляет из себя один из краеугольных камней понимания
механизмов смыслопорождения и смыслодекодирования, влечёт за собой
невозможность построения стройной теории смысла.
277
При многоуровневости смысла неизбежна многозначность языковых
единиц, и каждый реципиент выбирает то или иное значение при встрече с той
или иной многозначной языковой единицей. Этот выбор и есть то, что
приводит к отказу от объективности декодируемого, универсальности
порождённого,
это
даёт
нам
личностность,
индивидуальность
актов
смыслопорождения и смыслодекодирования.
И в нашей ситуации по второму правилу, предложенному Г. И. Богиным,
«прибавить» к значению (имеется в виду любое из некоторого набора значений,
закреплённых в словаре и речи) некий субъективный аспект, некую
модальность, дать денотату, точнее, денотату как объекту исследования, маркер
субъективности, тут же проявляются условия и признаки ситуации порождения,
проявления и в дальнейшем – возможности декодирования смысла как
упорядоченной ноэмной иерархической структуры, которая при всём это
достаточно подвижна и жива. Введение данного субъективного компонента
(модальности) необходимо сопровождается и появлением неких характеристик
данного субъективного, имплицитного определения модальности, что даёт
основания следовать в анализе смыслопорождения утверждению Г. Фреге,
который говорит о том, что смыслы выражаются, а значения обозначаются.
Эта субъективная модальность дает понятие о мире, без неё нет мира для
человека, и «генезис смысла определяется тем уникальным отношением
человека к окружающему миру, в котором рождается система сложнейших
функциональных взаимосвязей (субъект
– объект), динамика которых
формирует и составляет смысл» [Вейн, Голубев 1973: 129]. Основной
субъективной составляющей смыслопорождения и условием наличия самого
смысла является модальность продуцента текста, его интенции, иногда даже не
осознанные, интуитивные, а для возможности смыслодекодирования кроме
этого условия должна действовать ещё и модальность реципиента текста, что
ещё более усложняет иерархическую структуру смысла.
Модальность это то, что даёт возможность содержанию текста прирасти
ситуацией, главным в порождении смысла, иначе содержание не работает в
278
мире. «Самые разные эффекты и впечатления представлены в тексте в качестве
причин превращения тех или иных текстовых явлений в ноэмы» [Богин 2001:
134], которые являются неделимыми сущностями, квантами смысла, в тексте
же оные действуют как минимальные маркеры – идентификаторы текстовой
информации. При восприятии ноэмы как кванта смысла она имеет возможность
перевыражаться (как в мыслительной рефлективной деятельности реципиента
текста) и служить уже в качестве продуктивной модели, занять своё место в
другой иерархической структуре как модификатор, катализатор, изменяющий
иерархическую структуру целиком, даже если была порождена окказионально и
интуитивно окказионально декодирована.
Ситуативность есть лишь наличие некой сущности, внутри которой
неким образом структурированы связи, и именно восстановление этих связей и
есть
рождение
смысла,
вне
зависимости
от
направления
движения.
Ситуативность в тексте даётся в виде образа, реконструкция смысла же есть
рефлективно переживаемый образ, субъективно переживаемая форма.
Основные
многозначность
факторы
возникновения
(многозначность
смысла
употребления
в
том,
что
языковой
речевая
единицы)
существенно отличается от многозначности языковой, на это явление указывает
Ф.А. Литвин. В этой связи и возникает текстовая ситуативность. Речевая
многозначность – «естественное следствие знакового характера слова –
единицы с неоднородным содержанием, во взаимодействии с функциями
высказывания, в котором слово используется в речи» [Литвин 1984: 108].
Многогранность и многоуровневость языковой единицы в речи, в дискурсе и
есть
необходимое
условие
смыслопорождения;
эта
многозначность
обусловлена контекстом, в разных контекстах реализуются разнообразные
семантические аспекты, единицы (ядерные или периферийные; узуальные и
окказиональные), и не в меньшей степени – аморфностью контекстуального
окружения, по причине чего продуцент или реципиент не может с
уверенностью создать алгоритм единственно верной, непротиворечивой,
однозначной семантической модели. На фоне всего этого и возникает
279
возможность выбора и актуализации интенциально релевантных ноэм, что есть
важнейший принцип и условие смыслопорождения и смыслодекодирования.
Декартом было предсказано, что главным условием смыслопорождения и
смыслодекодирование является акт рефлексивного познания, переживание
своей бытийности как бытийности имеющей своей частью усмотрение этого
бытия также релевантно в данной ситуации (Cogito = «думаю о»). По Г. И.
Богину подобный акт называется ноэматической рефлексией, рефлексия такого
рода опосредует видение и восприятие не просто текста или объективной
реальности, а позволяет видеть данные феномены как структурированные
«осмысленные» конструкты. Это есть рефлективная реальность (собственный
мир, с субъективными фоновыми знаниями и индивидуальными особенностями
познания) без всякого рефлективного анализа, без проникновения в суть,
чистое «разумное» герменевтическое понимание. Никто не рефлектирует по
поводу бытия на данном уровне, этот гипотетический продуцент или реципиент
просто существует в рефлексивной реальности.
При возможности собственного смыслопорождения на основе либо уже
существующих
моделей
(постоянно
встречающегося
и
закреплённого
структурного набора ноэм), либо на основе окказионального построения (не
свойственного узусу конгломерата и новой иерархической структуры,
стандартно не связанных в рамках одной модели ноэм) при построении
смыслового конструкта на основе субъективных модальностей, сам процесс
смыслопорождения выталкивает продуцента за пределы вышеописанной
рефлексивной реальности к осознанной или интуитивной рефлексии. «Это
начинается тогда, когда без воли ноэмы складываются в конфигурацию и
начинается интендирование как важнейшая работа вовнутрь-направленного
луча рефлексии» [Богин 1992: 95]. Продуцент обязан рефлектировать не только
над собственным продуктом, но и над пониманием понимания, намеренность
усмотрения и полагания смысла в ткань текста – основа смыслопорождения.
Это интендирование является и составляющей герменевтического понимания
смысла текста.
280
Мельчайшие кванты смысла (именно смысла) – ноэмы, их усмотрение в
структуре смысла дает ключ к процессу интендирования, к указанию на топос в
онтологической конструкции. Ноэма – это сама суть, изначальный смысл
отдельно взятого феномена, она играет роль фактора, направляющего луч
рефлексии на топос некоей реально воспринимаемой конструкции.
«Ноэмы не воспринимаются посредством наших органов чувств»
[Фоллесдаль 1988: 65]. Сам акт порождения и акт восприятия и декодирования
несёт в себе смысл, но этот смысл остаётся не понятым, понимание этого
смысла не является необходимостью, он сам основа рефлексии вовне. Главное
«осмысление» такого акта рефлексии не в восприятии чего-либо, не в
восприятии как таковом, а формировании иерархически структурированного
конструкта из интенциально релевантных ноэм. Этот процесс является, по Э.
Гуссерлю, «феноменологической рефлексией», и только такой вид рефлексии
предопределяет смыслопорождение и смыслодекодирование (герменевтическое
понимание как таковое), осмысление неких объектов (как объектов для
изучения) в луче внешней рефлексии [Husserl 1995: 222]. Феноменологическая
рефлексия имеет своей целью именно ноэмы, чистые ментальные конструкты
смысла,
опосредованные
способы
построения
дискурса,
конкретный
инструментарий представлений, лежащий в основе воображения, восприятия,
порождения и т.д.
Некий идеальный состав интенциально релевантных иерархически
структурированных ноэм, данный либо интуитивно по ноэматической
рефлексии, либо с опорой на феноменологическую рефлексию вовне, и
опредмеченный мир значений, денотатов, реально представленный как в
объективной реальности, так и в ментальных конструктах в виде мысленных
образов и представлений, – абсолютно реальны, хотя и не тождественны.
Конкретное понятие и представление экзистенциального Dasein не сливается с
реальным
человеческим
существованием
в
мире.
Рассмотрение
всех
феноменов-ноэм протекает не опосредованно, не через реалии объективного
мира, а имманентно, без опоры на рефлексию вовне – это первичная для нас
281
трансцендентальная редукция, для перехода на следующий уровень мы
доверяемся феноменологической филологической герменевтике – возможности
порождать с осмыслением порождённого, а на третьем уровне абстракции и с
осмыслением механизмов порождения. «Если я способен непосредственно
переживать движение ноэм, не отдавая себе отчета в том, что такое ноэмы, чем
создающее их осмысление отличается от последующего смыслообразования – я
и есть нормальный реципиент в рамках внутренней, практической позиции в
деятельности. Все различения можно выполнять, только перейдя во внешнюю,
исследовательскую позицию» [Богин 1992: 101].
Денотативный конструкт даёт нам обычный семантический анализ,
десигнативность
преимущественно
раскрывается
в
ноэматической
иерархической структуре. Ноэма как минимальная единица смысла соотносима
с минимальным квантом значения – семой, но с учётом приписанного
субъективизма, модальности, ситуативности.
Лишь
текст,
дискурс
даёт
нам
необходимые
характеристики
идентификации ноэматической структуры, система языка остаётся лишь
потенцией (семы – чёрная дыра, ноэмы – квазар). Некий набор сем составляет
значение слова в системе языка, как определённый конструкт, набор данных
конструктивных единиц можно соотнести с содержанием в тексте, однако
говорить о смысле в данном случае не приходится. Семный и ноэматический
анализ приводит к получению разных данных и должен предприниматься на
разных этапах исследования (семный анализ ничего не даёт и не работает на
текстовом уровне).
Высказывания
представляют
любого
собой
текста,
особенно
суперконструкции
из
философского
конструктов
дискурса,
иерархически
структурированных интенциально релевантных ноэм. Главное – это описание
ситуации порождения, переживания, мышления, именно с той точки зрении и в
том ракурсе, каковым оные предстали в практике мыследействования
продуцента этого текста.
282
По мысли Э. Гуссерля, как говорит об этом Г. И. Богин [Богин 2001: 130–
131], само по себе феноменологическое описание, для нас – на новом уровне
феноменологическая филологическая герменевтика, – раскрывает сущностный
состав текста и ноэматическую структуру. Характеристики воспринимаемого
на первичном уровне абстракции и на последующих уровнях нельзя путать, так,
понятия «равнобедренный треугольник» и «равноугольный треугольник» для
восприятия без феноменологической рефлексии – равнозначные понятия, ведь в
объективной
реальности
филологической
иерархической
это
и
есть
феноменологической
ноэматической
тождественные
герменевтики
структуры
между
денотаты.
при
Для
«осмыслении»
ноэмами
наблюдается
различие, именно поэтому характеристики восприятия тех или иных элементов
можно получить лишь с характеристикой сопутствующей объективной
реальности.
Очевидно,
сами
ноэмы
в
структуре
смысла
определяют
грани
герменевтически понимаемого, а целенаправленный выбор аспектов бытования
ноэм в иерархической структуре смысла, интенциональность, субъективность и
модальность зависят от реципиента или продуцента текста. Поэтому ноэмы как
инструменты
смыслового
конструкта
являются
трансцендентными
образованиями, являются многогранными, но не многоуровневыми, и ни одна
из этих потенциальных граней не даёт всей картины смысла, который
порождается или декодируется в самом интенциальном акте текстопорождения
или понимания текста при феноменологической рефлексии с самими связями и
отношениями в иерархической структуре между ноэмами возникающими.
Наиболее трансцендентным статусом могут обладать конструкты из пояса
мыследеятельности (предметных, денотативных представлений) (по базовой
схеме Г. П. Щедровицкого). При модальном интендировании и изучении
конфигурации ноэмной структуры, при восприятии в разрезе топоса
бытийности
в
конструкте,
интенциональность
работы
с
подобными
трансцендентными объектами приводит к многогранности и неопределённости
смысловой структуры. Очевидно, что сами по себе, взятые в отдельности
283
объекты
представлений
обладают
всей
полнотой
для
описания,
неопределёнными и субъективными их природу делает именно акт интенции.
Внутренняя рефлексия в отличие от внешней никогда не даёт полной картины
охвата, хотя и вычленяет непосредственные составляющие в деталях.
Совокупность граней, не видимых при рассмотрении на луче вовнутрь идущей
рефлексии, составляют некий «горизонт событий» интенциального акта
понимания или порождения, имеется в виду та грань непонимания, которая
вполне
допустима
сообщества.
«Опыт
при
понимании
внутреннего
всеми
членами
переживания...
лингвокультурного
всегда
так
личностно
ограничен, так неопределенен, так многосложен и при всем этом так
неразложим» [Дильтей 1987: 136–137]. При подобной многогранности
смысловых конструкций практически не достижима ситуация адекватного
понимания (именно понимания, а не восприятия) любого текста и всех уровней
его многогранного смысла, всего того, что возможно понять.
Таким образом, можно прийти к выводу, что нужное, корректное
образование смыслов, как и сама возможность их наличия, связаны с
использованию правильных техник интендирования, пониманием самого
продуцента смысла и рефлексией его не только на первом уровне абстракции, в
отношении денотатов, но и на последующих уровнях при феноменологической
филологической рефлексии над выраженным в знаках и символах/языковых
единицах – текстах – ментальных конструктах, всё это обусловливает рождение
прото- и метасмыслов, нового в смысловой структуре, построение текстов на и
за гранью понимания.
Именно это и есть смысл смыслов, его нельзя вывести из реально
существующих и видимых граней, но его можно постичь, поднявшись над
метауровнем,
соблюдая
определённую
технику
интендирования.
Герменевтические витки вовне- и вовнутрь-идущих лучей феноменологической
рефлексии должны завершаться именно актами интендирования (приращением
субъективности,
модальности,
значимости),
непомерным
расширением
284
герменевтической ситуации («игрового» смыслопорождения, переразложением
этимологических основ, герменевтическим кругом и т.д.).
Ситуативность,
субъективность,
ноэматичность,
модальность
и
интенциональность являются главными условиями смыслопорождения и
смыслодекодирования как акта повторения смыслопорождающего пути.
5.2. Металогические формы мышления и порождение парадоксальных
высказываний
Важными
для
понимания
возможных
синтаксических
средств
многомерного смысла, мышления и порождения парадоксальных высказываний
являются грамматические металогические особенности философского языка,
обслуживающие формы особого типа мышления, на грани и за границами
привычного языка, рождающие прото- и метасмыслы.
Язык как растущий город, слова в котором похожи на старые и новые
дома, улицы же – это грамматические правила, они делают возможными связи,
которые завязывают жители этих домов, или же упорядочивают дорожное
движение. Хайдеггер же в этой картине становится строителем, он хочет
возвести широкие улицы, парки, спокойные кварталы, соответствующие
требованиям современного градостроительства. Но этого не позволяет «старый
фонд». Таким образом, архитекторы должны подстраиваться, если повезёт, то
удастся сделать некоторые прорывы и построить обходные пути. Вот способ
создания нового смысла в уже имеющихся рамках языковой реальности.
В языке словарный состав определяет содержание, а грамматика – форму
мышления. Как и некоторые слова в содержательном моменте, так и
грамматика содержит некое количество необходимых общих связей, которые
позволяют выразить мысль, грамматические конструкции в самом широком
смысле (и морфология, и синтаксис) рождают многомерный смысл, так же как
и трансформации суперструктуры на уровне лексем. Для человека знающего
представляются более тонкие и спорные возможности, где мы выходим за
рамки обыденного познания, там изменяется и форма мышления, изменяя и
выстраивая структуру нашего языка. Для нас наиболее релевантным в данном
285
отношении является язык экзистенциальной философии Мартина Хайдеггера,
особый метаязык, структурирующий и вербализующий метамышление.
Язык М. Хайдеггера уже на ранних стадиях отличается тем, что пытается
покинуть или изменить структуры привычного немецкого языка. «Внешний
поток мыслей или опыт кажется проистекающим из парадокса» говорил, –
Альбрехт Фабри в своих эссе [Fabri 1958: 80]. История философского
мышления показывает, что человеческий разум куда более полезен, если он
переходит
определённые
границы
понимаемого
и
противоречит
высказываниям, которые формулируются на основе «нормальных» законов
говорения. , несмотря на всеобщую убеждённость может быть
выражена в понятиях, которые своей содержательной новизной вызывают
впечатление противоречивости с нормой и пониманием, хотя при ближайшем
рассмотрении они понятны и облекаются в форму общеупотребительных
высказываний.
Сущностная
закономерность
парадоксального
способа
выражения заключается не в том, что новое противопоставляется старому, а в
том, что что-то, противоречащее нормальному пониманию, представляется как
нечто с ним совпадающее и связанное.
Такое отрицание парадокса как способа выражения определённых
отношений, его негативная оценка как мышления, которая бытует сейчас,
возможны лишь в области знания, определяемой в формах силлогизма и
зависящего
от
субъектно-предикативной
структуры
индоевропейского
предложения. В других формах мышления различные виды парадоксального
способа выражения более распространены и не так дискредитированы. И всё же
в западной культуре имеется важное явление, подчинённое металогическому
образу мышления, – основные его направления – это мистика, романтика,
религия, вера и диалектика. Все они сходны в том, что стараются выразить
содержания, выходящие за пределы обыденного понимания в схемах, не
встречающихся
в
повсеместных
речевых
оборотах
и
кажущихся
неправильными и лишёнными смысла, однако наличие именно нетривиального,
не узуального, многомерного смысла в философском высказывании делает его
286
особым типом дискурса и придает ему отличные от других типов текстов
характеристики.
Из вышесказанного следует, что следует различать два вида парадокса:
парадокс антиномических мыслительных содержаний и парадокс неожиданных
формулируемых мыслительных содержаний, которые, однако, не обязательно
имеют дело с вербализацией в новых деривационных моделях, а могут быть
выражены узуально. В своих описаниях парадоксального в «Заратустре»
Ницше Карл Гроос обращает внимание на то, что не все парадоксальные
предложения связаны с его «переоценкой всех ценностей», а общепринятые
содержания формулируются парадоксальным способом. Гроос, который
исходил из того, что парадоксальный стиль связан, в сущности, с выражением
новых мысленных содержаний, а тем самым с нарушением привычных норм,
увидел, что впечатление парадокса создаётся не только противопоставлением
нового старому господствующему мнению, но и посредством оппозиции
обычного и распространённого образа мысли [Groos URL: http://echo.mpiwgberlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/WQ0A40CY/pageimg&pn=1
&mode=imagepаth]. Если эта одна сторона, в которой формулируются
парадоксальные мыслительные содержания, то ей противостоит другая, внешне
более новая и потому необычная.
В истории общественного создания должны укорениться критика догмы
Гегеля, появиться теории Ясперса, Кассирера, Лайзеганга, прежде чем рядом с
Аристотелевской логикой будут возможны другие формы мышления. Эту
мысль позже подтвердило и языковедение признанием различных языковых
картин мира.
Конечно, трудно соблюсти все условия для придания парадоксальному
мышлению статуса признанной формы мысли, ни согласно различению
множества форм жизни и воззрений, ни согласно базовой интерпретации мира в
языке, в искусстве и науке Кассирера, ни ей же в родном языке, по Гумбольдту
и Вайсгерберу, нет возможности координировать парадоксальный образ мысли.
По-другому представлено это у Лайзеганга, он исходит из того, что отдельно
287
взятый человек понимает форму жизни как присущую только ему. При этом
понимание всех областей сводится лишь к индивидуальной форме. Лайзеганг
находит
у представителей
различных
культур
повторяющиеся
формы
мышления, основывающиеся на философии, религии, литературном и
естественнонаучном наследии. Один из этих образов мышления, который
Лайзеганг извлёк из текстов Гераклита, апостола Павла и Гёте, объединяет в
себе признаки парадоксального мышления. Но Лайзеганг понимает термин
«парадокс» довольно противоречиво. Мы, однако, не пытаемся дать
историческое описание этой формы мысли и её проявлений у различных
мыслителей. Эта форма мышления известна у Будды, Лао-Цзы, Гераклита,
Павла, Экхарта, Гёте, Кьеркегора, Ницше, но имеются и трактаты, которые
связаны исследовательскими моментами с этими течениями.
Интересным в данном отношении будет проанализировать возможности
смыслопостроения при хайдеггеровском описании и пояснении сущности
действительности («правды»), её двойственного характера, в которых
Хайдеггер как бы пытается избежать парадоксального способа выражения, но
при этом в результате «игрового» смыслопорождения возникают многомерные
метасмыслы:
Aber so von Unwesen und Unwahrheit zu sagen, geht allzu hart gegen das
noch gewöhnliche Meinen und nimmt sich aus wie ein Herbeizerren gewaltsam
ausgedachter ‘Paradoxa’. Weil dieser Anschein schwer zu beseitigen ist, soll auf
diese nur für die gewöhnliche Doxa (Meinung) paradoxe Rede verzichtet sein. Für
den Wissenden allerdings deutet das ‘Un-‘ des anfänglichen Un-wesens der Wahrheit
als der Un-wahrheit in den noch nicht erfahrenen Bereich der Wahrheit des Seins
(nicht erst des Seienden) [Heidegger 1959: 20].
Из этого утверждения следует, что Хайдеггер вроде бы говорит о
парадоксе как о форме речи, которой он мог бы избежать для облегчения
понимания, но далее мы видим, что он не имеет в виду парадокс как нечто
необходимо привязывающее его к обычному способу выражения. Плюс к этому
он даёт понять, что явления, которые мы описываем, кажутся необычными
288
«лишь для скованного привычкой разума», для «знающего» они вполне
правдоподобны.
Хайдеггер утверждает, что существенное сокрыто от людей в целом. Тем,
что он делает в своей работе, он пытается приоткрыть суть действительности
для человеческого бытия. Правда является двойственной по природе,
приближает
основополагающие
принципы
сущностного
в
целом
к
человеческому бытию и в то же время остаётся нераскрытой в отношении
действительной природы сущего. Она обладает потенцией укрываться от
взгляда, одновременно выставляя себя напоказ.
Автор пытается разграничить мысли и их последствия. Очевидно, что
мысль внутренне антиномична, парадоксальна, и формулировкой можно
подчеркнуть или попытаться сгладить это её свойство. Хайдеггер пишет: Unwesen ist hier das in solchem Sinne vor-wesende Wesen [Heidegger 1959: 20].
Сокращённо это высказывание можно сформулировать так Un-wesen – это
Wesen, типичный пример взаимопротиворечивого, но не взаимоисключающего
высказывания. Мысль и её выражение в языке есть парадокс, попытка выразить
невыразимое, вспомним о феномене фугэндзикко: они противоречат не только
логичному, но и рациональному. Для некоторых лингвокультур не характерно
вербальное обсуждение сущности понятий. Например, японская культура
ориентирована на «намек» на смыслы, принадлежащие «Небытию», при этом
данные
смыслы
должны
быть
выражены
вербально.
Этого
строгого
противоречия Хайдеггер, по его же словам, и стремится избежать. Однако он
достигает этого не последовательно, что, прежде всего, объясняется тем, что
сам
предмет
исследования
требует
подобных
выражений.
С
общесемиотической точки зрения мы в данном случае имеем дело с процессом
«перевода»
как
перекодирования
не
только
межъязыкового,
но
и
внутриязыкового: с «интерпретацией вербальных знаков с помощью других
знаков того же языка» [Якобсон 1978: 18] – перефразированием.
Вышеупомянутое предложение можно выразить по-другому: das Unwesen (der Wahrheit) ist ihre Verbergung, подобный анализ вскрывает
289
важнейший признак предложения – единство его содержания, скрытый в
гиперструктуре многомерный смысл, не являющийся простой суммой всех
ноэм, но и вовлекающий в себя константы модальности, субъективности,
контекстуальности и действующий в условиях четырехмерного смыслового
хронотопа. Хайдеггер вновь пытается вернуться к выражению своих мыслей
узуальным способом, но это имеет тот же успех, что и попытки пересказать
поэтический текст своими словами в прозе.
Эти высказывания парадоксальны и нелогичны, но не «бессмысленны».
Подобные формулировки, как показывает практика, можно сделать более
прозрачными, представить их смысл проще, но показанные в них формы
мышления строго могут быть описаны только в металогической форме
выражения, при помощи новых неузуальных деривационных моделей,
репрезентирующих данные формы на всех уровнях языка. То же, что было
сказано выше о парадоксальной сущности правды, может быть отнесено и ко
времени.
Для
всех
примеров
парадоксального
высказывания
справедливо
утверждение Карла Грооса, сделанное при изучении парадоксального стиля
Ницше: «Ясно лишь то, что парадокс как учение никогда не утверждал ничего
бессмысленного. Напротив, если какой-либо мыслитель слишком убеждён в
правдивости, глубине и значении своих воззрений – это и есть парадоксальное
«Переосмысление
всех
ценностей»
[Groos
URL:
http://echo.mpiwg-
berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/WQ0A40CY/pageimg&pn=1
&mode=imagepаth]. Парадокс может лишь тогда порождать бессмысленные
высказывания, когда какой-либо один образ мысли принят за точку отсчёта,
задающую меру всему, в ситуации метаабстракции, когда возможно подняться
над реальностью дискурса и освободиться от оков языка, можно и нужно
формировать металогичные суперструктуры интенциально релевантных ноэм
по новым деривационным моделям. Лайзеганг, как мы видим, возложил груз
ответственности на тот факт, что кажущиеся нелогичными высказывания могут
передать особую форму мышления.
290
Мы можем установить, что «выходящие за пределы разумного»
мыслительные
содержания
невозможностью
обусловлены
стандартного
языка
особой
формой
вербализовать
мышления
подобные
и
формы
мышления. Гроос основывается на следующей черте, которая должна браться
во внимание при анализе феномена парадоксальной речи – это момент новизны
мыслительного содержания, характеристики новума и творимости присущи
всякому смыслу, если рассматривать его как суперструктуру. Содержательно
новые
мысли
контрастируют
с
общепринятыми
суждениями,
и
это
противоречие выражается автором в парадоксальной форме, афористическом
подчёркивании в оксюмороне. Таким образом происходит привлечение
внимания читателя к сильным позициям текста, где это только возможно. В
этом феномене греческое значение слова ς ещё заметнее вопреки
ожиданиям или общепринятому мнению. Хайдеггер, который особенно в
«Бытии и Времени» рассуждает о новых содержаниях и представляет новую
форму
мышления,
часто
противопоставляет
«пара-доксальный»
взгляд
ортодоксальному.
Но когда автор говорит о schweigenden Rede des Gewissens, Mut zur Angst
vor dem Tode [Heidegger 1967: 254], hellen Nacht des Nichts [Heidegger 1971: 34]
и других подобных феноменах, к двойственному мыслительному феномену
присоединяется языковое «выпячивание» в парадоксальных высказываниях,
раскрывающее новые горизонты для смыслопостроения как авторского, так и
декодирования личностного смысла интерпретатором. При этом нужно
различать парадоксальные мыслительные содержания, которые ни в коем
случае не поддаются логическому выражению, и формальный парадокс,
который при желании сводится к однозначному, лежащему на поверхности
смыслу.
Как и в случае с омонимами, здесь связаны языковые элементы
различных содержательных уровней таким образом, что создаётся впечатление,
что они якобы соотносятся на одном уровне. В schweigenden Reden, schweigend
употребляется в прямом смысле как lautlos, akkustisch nicht vernehmbar, в то
291
время как Reden – в метафорическом смысле в качестве kundgeben, sich
bemerkbar machen, можно представить это как lautlose Kundgabe.
Так же понимается Nacht des Nichts – как полная тьма, hell же она в
метафорическом смысле, ибо именно в ней человека чаще всего посещает
«озарение».
Каждый понимает, что эти предложения нельзя воспринимать как некие
бессмысленные фразы, на которых построены некоторые тексты, например:
Dunkel war’s, der Mond schien helle, schnee bedeck der grüne Flur, als ein Wagen
blitzschnelle, langsam um die Ecke fuhr, drinnen saßen stehend Leute, schweigend in
ein Gespräch vertieft… Подобный пример, внешне формально сопоставимый с
предыдущими оппозициями, может быть воспринят не как парадокс, а как
пример чистой бессмыслицы, на фоне которой настоящее парадоксальное
предложение
ещё
каустичность
интерпретатором
более
подобного
как
осмысленно.
Парадоксальное
оксюморона,
стимул,
которая
побуждающий
к
напряжение
–
воспринимается
мышлению,
–
в
действительности понятно и решаемо.
Мы установили четыре момента, которые оправдывают использование
парадоксального высказывания в философском дискурсе. С одной стороны –
это либо парадоксальный предмет мышления, либо новизна мысли. С другой,
формальной стороны, – это образ мышления или стилистическое средство. При
этом ясно, где находится совпадение формы и содержания, но если попытаться
объяснить эти четыре момента, связать их с работами Хайдеггера, то это лучше
получится, если ставить синтез новообразований перед причиной его отказа от
общепринятой логики как мерила. Хайдеггеровские мысли в этом явлении, как
и везде, служат для показа несостоятельности или относительности принципов
общепринятой логики.
Тавтология есть другая форма, с точки зрения традиционной логики,
патологического мышления и образа вербализации. В круговом мышлении
тавтологии дополнительно к парадоксу встречаются довольно часто. А
292
конкретнее, там где два члена как хиазм идентифицируются друг с другом.
Например, в цитатах Гераклита и Бруно: А=B/B=A, как мы указывали ранее.
Тавтология всё же не воспринимается как парадокс. Итак, возникает
впечатление, что при тавтологическом высказывании ничего нового не
говорится: всё остаётся на своих местах. Если всё же тавтологические
высказывания претендуют на то, чтобы быть полновесными, то menns
communis даёт этому ещё большее подтверждение, чем парадоксальной речи.
Поэтому мы попытаемся осветить эти элементы языка Хайдеггера в связи с
тавтологическим мышлением.
Хайдеггер вначале говорит о ничего не говорящей тавтологии, но позже
дефинирует её нейтрально. Если один постоянно говорит одно и то же,
например, die Pflanze ist die Pflanze, он высказывается тавтологично. Это второе
высказывание содержится в его объяснении идентичности, в течение которого
он говорит, что формула предложения А=А показывает не совсем то, что
имеется в виду. Выражение идентичности А самого с собой есть тавтология от
греческого , высказывание об идентичности должно было бы звучать: А
есть А. Mit ihm selbst ist jedes A selber dasselbe. In der Selbigkeit liegt die
Beziehung des ‘mit’, also eine Vermittelung, eine Verbindung, ein Synthesis: die
Einung in die Einheit [Heidegger 1976: 15]. А не А=А. Из этого можно вывести
лишь
общие
заключения
о
возможном
метасмысле
тавтологического
высказывания, а конкретно в них показывается идентичность как таковая и её
структура. Насколько это важно для мышления – требует доказательства.
Для образований подобного рода в связи с этимологическим родством
зависимых друг от друга слов прежде существовал термин figura etymologica.
Он обозначал стилистическую фигуру античной риторики. В немецком языке
избегается сочетание существительного и глагола сходной этимологии.
Существуют некоторые скороговорки, в которых встречаются подобные
образования. Допустим, Fischer Fritz fischt frische Fische. Weckt der Wecke.
Angelt der Angler, и так далее. Но в обычной речи подобные образования не
используются. Допустим, нельзя сказать der Regen regent. Лишь в детской речи
293
или из стилистических причин. Там, где слов-описаний нельзя избежать, в
немецком появляется figura etymologica.
Аккузатив внутреннего объекта появляется в таких образованиях ещё в
ранних произведениях немецкой поэзии, а также в разговорной речи. В этом
случае действие приписывается объекту транзитивным или интранзитивным
глаголом, но не только им, а и самим содержанием существительного.
Например, Ich lebe mein Leben, er kämpft einen Kampf, но и в следующих,
близких по смыслу, этимологических образованиях: ich weine Tränen.
Тавтологический момент в подобных образованиях лежит на поверхности,
именно по этой причине в индоевропейских языках возможности выражения
грамматических значений таким образом опускаются. При этом древним
филологам было известно, что figura etymologica в аккузативе внутреннего
объекта встречается не только в большом количестве застывших оборотов в
классическом греческом, но и в свободных выражениях речи.
По
А.
Д.
Швейцеру,
этот
аккузатив
содержания
служит
как
факультативное, т.е. необязательное усиление потенциального смысла глагола
или как формальный заменитель предложного или генетивного определения.
Это подтверждают приведённые выше примеры. Аккузатив содержания
соотносится с аккузативом результата, в той мере, в какой субстанция обоих
вербализуется в глагольном действии. Лишь в случае «результативного»
аккузатива возникает заметное и устойчивое впечатление результата действия,
в случае «внутреннего объекта» – практически не заметное (или определяемое
лишь по его влиянию), которое исчезает с окончанием глагольного действия.
На первый взгляд, кажется, что в греческих предложениях, которые мы привели
выше, ведущим является глагол, он как бы несёт на себе предложение.
Интерпретация А. Д. Швейцера лишь подтверждает это предположение, ведь в
ней
аккузатив
объекта
является
факультативным
или
формальным
заменителем. Конечно, данное правило истинно для многих случаев в
греческих
текстах,
металогической
хотя
вопрос
характеристике
и
о
смысловости
ценности
как
подобной
некоей
особой
синтаксической
294
конструкции ещё ни разу не ставился. Если же посмотреть на современное
состояние языка, то в большинстве таких конструкций существительное
является
этимологически
более
древним
составляющим,
из
которого
деноминализирован глагол. Таким образом, можно предположить, что при
построении
подобного
высказывания
существительное
стоит
в
ядре
предложения, является превалирующим в смысловой иерархии и с ним лишь
координируется глагольное действие. Предположение, что figura etymologica
является лишь формальным, чисто стилистически обоснованным явлением, не
подтверждается.
Содержательная продуктивность подобной грамматической структуры не
проявляется ни ранее, ни сейчас. Мы можем только предположить, что для
образования подобных высказываний послужила некая общность деятеля и
действия, всегда появлявшаяся неразрывно. Это подтверждается тем, что
этимологически в древних языках действие, слово и мысль отождествлялись.
В нашем случае мы можем лишь сказать, что подобная связь
существительного и глагола одинакового этимона в греческом встречалась
довольно часто. Мы почти уверены в том, что Хайдеггер, часто работавший с
греческими текстами, перенял такую их особенность, как figura etymologica, и,
интерпретировав его для своего мышления в немецком языке, стал
использовать подобную синтаксическую форму для порождения многомерных
смысловых
структур,
вербализующих
особые
металогические
формы
мышления.
5.3. Трансформации суперструктуры смысла как базовые элементы
смыслопорождения
Общая теория смысла в настоящее время переживает смену парадигмы,
что связано прежде всего с тем, что попытка описания смыслопорождения при
подходе к языку как знаковой системе особого рода не позволяет объяснить
наличие и функционирование универсальных деривационных моделей смысла,
отдельные черты которых фиксируются массой разнонаправленных
и
разноплановых исследований, но общие масштабы пока не осознаны. Новые
295
методы,
сочетающие
различные
лингвокультурологические
подходы,
герменевтический анализ, методологию когнитивной лингвистики и практику
обращения с языком не как со знаковой системой, а как с системой для
производства знаков (Г. Н. Манаенко), среднестатистически радикально
отличаются от предшествующих теорий. Различия фундаментальны: они
произрастают
из
систем
анализа
текстов,
санкционирующих
цели
мыследеятельности, связывающих их с актами интендирования [Богин 1993], и
других
констант
производства
многомерного
смысла:
модальности,
ситуативности, и трёх видов ноэм как структурных единиц порождения
речевого знака. Новый подход формируется не только на общественной
практике
употребления
языковой
единицы
(лингвокультурологический
подход), но и на восприятии смысла не как константного образования, а как
субъектно-ориентированного
суперконструкта
релевантных
кванторов,
актуализируемых в четырёх моделях хронотопа (полихронотопность текста по
А. И. Милостивой): 1) продуцент – реципиент, 2) персонажи порожденного
текста между собой, 3) персонажи порожденного текста – реципиент, 4)
продуцент – персонажи порожденного текста [Milostivaja 2010: 199],
располагающихся в вертикальной оси координат Прототекст – Текст –
Метатекст [Кузьмина URL: http:// www. irlras-cfrl.rema.ru:8101/publications/
reports/perevod-2.htm], в которых репрезентируются ноэмы. Решающим
фактором трансформаций смысловых структур выступают возможности
перераспределения
ноэм
периферийного
поля
внутри
многомерной
суперструктуры, разрушающие процесс преемственности значения языковой
единицы внутри лингвокультурной общности и культивирующие весьма
самобытную систему, отходящую от магистральных путей узуального
функционирования конкретной единицы.
Применительно к данному подходу целесообразно принять наиболее
широкое, пока черновое определение языка как системы для производства
знаков особого рода, имеющих возможность структурировать отношения
внутри себя и в объективной реальности. Для анализа суперструктур
296
используются
механизмы
опредмечивания
и
распредмечивания
в
феноменологических и ноэматических рефлексивных актах: в процессе
мыследействования создаются феномены некоей ментальной реальности,
которые могут принимать материальную форму, «опредмечиваться» в
языковых феноменах (смыслопостроение), прецедентных текстах (дискурсе).
При восприятии же эти материальные объекты «распредмечиваются» в
рефлексивных актах разных уровней (декодирование смысла), переводя их в
сферу сознания, человеческого духа. С учетом этого положения бытие языка
как системы производства знаков может быть представлено как всеобщий
полилог трех уровней ноэм, всего сонма фоновых знаний представителей как
конкретной лингвокультуры, так и лингвокультур друг с другом, а также
индивидуальных актов смыслопроизводства и рассмотрено в условиях
априорного существования смысла в тексте как всемирный и непрерывный
когнитивный процесс.
Следует учитывать, что ноэмы сами не могут вести полилог между
собой. Как справедливо отметил А. А. Гусейнов, полилог ведут продуценты и
реципиенты, являющиеся носителями различных лингвокультур [Гусейнов
2007: 57–58]. И когда, например, Д. С. Лихачев говорит о саморегуляции, о
том, что один прецедентный текст может заботиться о другом [Лихачев 2006:
171], – это образное изложение сути процессов смыслопорождения, в которых
многомерный смысл сохраняет ранее репрезентированные актуализированные
ноэмы в периферийном поле. Правда, Дмитрий Сергеевич говорит это о
литературных произведениях как о знаках культуры, но это высказывание в
полной мере относится и к рассматриваемому вопросу.
Проблемой, однако, не непреодолимой преградой является то, что в
перманентно расширяющемся и неограниченном наборе граней многомерного
смысла невозможен учет всеми реципиентами и продуцентами всех условий,
но
в
этом
нет
необходимости,
поскольку
набор
релевантных
актуализированных ноэм всегда ограничен и константы всегда определены.
Безусловно, наибольшим потенциалом для анализа смыслопорождающих
297
механизмов обладают тексты, содержащие концептуализируемые понятия,
релевантные для лингвокультуры в целом и для пары продуцент/реципиент в
частности.
В
данной
ситуации
при
развертывании
глобальных,
лингвокультурных, ситуативно обусловленных и индивидуальных ноэм в
суперструктурах, наряду с процессом создания новых смыслов, все большее
значение приобретает процесс создания, конструирования и регулирования
деривационных смысловых моделей, способов актуализации в сознании не
только ноэматического (интуитивного) порождения и декодирования, но и
феноменологической «осмысленной» рефлексии.
Производство новых смыслов, как и трансформация структуры в
переосмысленных конструктах, формирующихся в новом речепроизводстве,
превращается в процесс постоянного перетекания и мутации, пронизывающий
всю когнитивную сферу. Возможности трансформации поистине безграничны,
но
вполне
можно
создать
их
таксономию,
интерференцию
смыслопорождающих моментов с точки зрения реципиента и продуцента
дискурса, а также попытаться учесть в данном анализе и внутренние
особенности именно языка (конкретного, на котором строится дискурс), а не
социокультурных особенностей.
Вот те пути трансформации, которые претерпевает некий суперконструкт
в результате актуализации тех или иных потенций в узловых точках своей
структуры:
1). Приписывание актуализированных квантов смысла тем или иным
элементам системы, в нашем случае – квантам суперструктуры. Нормы актов
интендирования (причем правильных) играют в данном процессе важную роль,
которые обусловлены константой ситуативности и темпоральности. Anzeige, к
примеру, относится к двум таким полям: Meldung, Beschwerde, Protokol и
Mitteilung, Gesuch. Для обоих этих полей слов не характерно общее абстрактное
глагольное содержание. Хайдеггер же использует Anzeige в следующих
примерах: der Nachweis… gründet in der vorläufigen Anzeige des…Vorrangs des
298
Daseins [Heidegger 1967: 14]. Die Entwirrung dieser Vieldeutigkeit kann zu einer
Anzeige… ihres Zusammenhangs werden [Ibidem: 64].
В этих примерах мы видим абстрактное проявление смысла. Ausstand
используется в немецком языке как синоним к Streik, в выражении Ausstand
geben. В «Бытии и Времени» это слово употребляется терминологически, как
нечто абстрактное от глагола es steht noch aus в примере: Zum Dasein
gehört…ein Noch-nicht,…der ständige Ausstand. Der Ausdruck meint das, was zu
einem Seienden zwar gehört, aber noch fehltb [Heidegger 1967: 242].
2).
Распредмечивание
граней
смыслов,
приписанных
объектам
мыследеятельности и постигаемых нами. Парадокс Шлейермахера гласит, что
интерпретатор/реципиент понимает текст более детально, чем продуцент.
Данная трансформация, как правило, базируется на константе фоновых знаний.
Приведем
некоторые
новообразования,
трансформации
смысловой
структуры:
возникающие
Хайдеггер
порождает
в
ходе
новые
содержательные единства параллельно к уже имеющимся. Но часты случаи,
когда автор обращает внимание лишь на новое слово, оставляя первое его
значение, имеющееся в узуальном употреблении, без внимания. Когда
Хайдеггер говорит: Beide Stimmungen, Furcht und Angst, be-stimmen je ein
Verstehen [Ibidem: 344], то новообразованное слово be-stimmen, in eine Stimmung
versetzen не должно означать каждое be-stimmen, детерминанту, которая в
основе своей является das Versetzung in eine Stimmung. Это так называемое
вынужденное новообразование. Если речь идёт о Selb-ständigkeit в связи с
Standgewohnenhaben или же о Unselb-ständigkeit как противоположности к
Standfestigkeit, то становится ясным, что связь с обычным содержанием в
смысле Unabhängigkeit и во втором случае Entschlusslosigkeit теряется. Вместо
этого на первый план выходит содержание, которое понимается из отдельных
составных частей этого слова (в смысле die Eigenschaft des Stehens, либо как
противоположность der Mangel an dieser Eigenschaft). Подобный опыт
языкового разложения, похожий на химический анализ элементов, также
свойственен языку М. Хайдеггера, как и синтез слова из нескольких основ,
299
которые частью ведут к образованию формально новых слов, частью – к уже
объяснённым и рассмотренным содержательным новообразованиям.
Кажется, что он использует следующие возможности языкового
выражения и все чаще обращается к подобному способу словообразования в
угоду профилю своего языка или стиля. В «Бытии и Времени» мы находим
такие известные образования, как Ent-fernung в смысле Näherung, Ge-stell как
некоторое коллективное образование к глаголу stellen, Un-fug как Nicht-gefügtes.
Как мы видим уже на этих 3 примерах, Хайдеггер не только разделяет слово на
составные части посредством написания через дефис и не только сводит его к
уже существующим, например, Ent(-)fernung (и слитно, и через дефис), но и
синтетически образует совершенно новые слова с помощью аффиксов, типа Gestell, Un-fug. Можно сказать, что слова, совпадающие с этими по звуковой
форме, но имеющими другое содержательное наполнение, замечаются нами
лишь при новообразованиях таких слов, как Ge-stell, Un-fug. У исследователя,
который хорошо разбирается в словарном запасе языка, возникает впечатление,
что исходным пунктом для новообразования служат уже имеющиеся в языке
слова, однако при более детальном изучении, совершенно точно можно сказать,
в каком направлении идёт это словообразование. Если речь идёт об анализе,
тогда содержание исходного слова более или менее ясно, при синтезе же,
напротив, содержание формального параллельного слова отделяется от
такового в новообразовании и не несёт никакого сопутствующего значения.
3). Повторное распредмечивание смысловых структур в соответствии с
концептуально-валерной
системой
продуцента/реципиента;
данный
вид
трансформации имеет в своей основе константу модальности. В качестве
примера можно указать на его использование понятия Ekstase, переразложенное
и возрожденное в соответствии с интенцией автора, в его системе координат.
Ekstase понимается в норме как слово из области чувств как, допустим,
Erregen,
Freude,
Erschütterung,
но
оно
не
имеет
ничего
общего
с
хайдеггеровским Ek-stase, ek-statisch, которое строится из греческих слов как
hinausstehen рядом с Hinausstand – термином для трансцендентальной
300
структуры человеческого суждения. Напротив, Ek-stase в «Бытии и Времени»
указывает на другой феномен – Zeitlichkeit временности, Хайдеггер сам
указывает, что в основе его феномена времени лежит интерпретация
Аристотеля того же явления. Таким образом, его термин Ek-stase идёт от
греческого слова.
4). Порождение или актуализация квантов смысла собственных актов
мышления.
Посредством
распредмечивание
данной
трансформации
продуцентом/реципиентом
осуществляется
существующих
элементов
смысловой структуры и тем самым – опредмечивание субъективных актов
феноменологической
рефлексии,
в частности
возможность порождения
кванторов личностной периферийной зоны, их интерпретация и актуализация
их нового In-sein (Бытие-в), перераспределение периферийных ноэм и их
актуализация в ядерной структуре. Например, переосмысливание термина
«Dasein» в качестве некоего синонима, или чего-то большего, чем понятие
«Mensch» в работах М. Хайдеггера. Dasein было образовано в 17 веке по
примеру латинского Existentia, параллельно было образовано Sosein как
Essentia и до сих пор используется в философском языке. В нормативном
разговорном языке Dasein является неким общим синонимом к Leben.
Хайдеггер же вводит Dasein уже в начале «Бытия и Времени» как термин для
Seiende das Wesen (Heidegger M. Sein und Zeit 7). Под ним имеется ввиду
Menschen (люди). Слово же Mensch у Хайдеггера встречается всё реже и реже.
Он считает, что Mensch – это случайное имя для Seiendes, что в слове Dasein
лучше выражены онтологическая структура и возможности.
Подобные новообразования должны рассматриваться как содержательное
переосмысливание слов Sein, Seiendes и даже Dasein, но Хайдеггер
переосмысливает это Dasein и не просто переносит его в свои труды, а
понимает в основе своей как Da-sein.
5). Определение валерности узловых квантов – определение места
элемента структуры в акте порождения личностного смысла, что связывается с
константой субъективности.
301
Для демонстрации узлового элемента в качестве примера можно
обратиться к особенностям использования и опредмечивания процессуальных
глагольных квантов в структурах смысла в работах М. Хайдеггера, и показать
прежде всего что в основе мышления автора лежат глагольные характеристики.
Предположим, что описываемые отношения являются причиной большого
количества отглагольных существительных всех типов, которые встречаются
как в обыденном языке, так и в авторском нарративе. Можно утверждать, что
глагольные содержания стоят в центре любого анализа, предпринимаемого М.
Хайдеггером ввиду специфичности проблематики.
Объект в узуальных структурах может быть выражен и репрезентирован
статически. Если он представлен субстантивированным причастием 1, то он
актуализирует потенциального носителя глагольного действия, если же
субстантивированным причастием 2 или существительным на -heit – то
результат глагольного действия. Глагольное содержание активности и
динамики представлено
в субстантивированных инфинитивах; внутреннее
понятие глагольного действия и состояния – в абстрактных существительных
на –ung; влияние посредством действия – в прилагательных на -lich, -bar, и
можем отметить целый ряд других значений из этой же области.
Все эти формы посредством их общего количества в текстах Хайдеггера и
в анализе взаимозависимых феноменов указывают на то, что автор в своей
интерпретации мира больше внимания оказывал отношениям человека и вещей
друг к другу. Эти отношения как «сущность бытия» глагольно-динамические.
Они, однако, могут выступать как некие константы, как более статические
структуры, если им не приписывать изменчивости или не обращать на неё
внимания.
6). Дифракция/переразложение существующих узлов структуры и
наоборот; чередование возможностей интерпретации элементов структуры –
базируется на операциях с ядерными структурами в корневых морфемах и
аффиксах.
302
Entwurf или же Projekt относится в немецком к той же группе слов, что и
Skizze, Zeichnung, Modell, также сюда входит глагол entwerfen. Хайдеггер же,
наоборот, использовал глагол werfen в различных комбинациях как, например,
Überwurf. Здесь он чувствует возможность образования новых сложных слов:
während der Entwurf im Werfen die Möglichkeit als Möglichkeit sich vorwirft und als
solche sein läßt. Der Entwurfcharakter des Verstehens besagt ferner, daß dieses das,
woraushin es entwirft, die Möglichkeiten, selbst nicht thematisch erfasst [Heidegger
1967: 145].
7). Создание или мутация отношений объекта мыследеятельности с
актуализируемыми элементами структуры на основании первоначального,
иногда этимологического перераспределения акцентов в суперконструкте;
повторная, но не вторичная номинация нового феномена на основе изменения
системы
координат
или
точки
отсчета
определяется
парадигмальным
смещением в функциональности и прагматической адаптацией вербализации.
Lichtung в немецком языке относится к группе слов Wald, Gehölz и т.д. и,
конечно, в современном немецком языке его нельзя отнести к группе слов Licht,
Hellichkeit, хотя их этимологическое родство сразу же бросается в глаза.
Хайдеггер по-новому образует это слово от глагола lichten, как ans licht treten,
offenbar werden. И в большинстве своих работ это слово связывается с Sein,
даже таким образом, что Хайдеггер говорит о Lichtensgeschichte des Seins.
Противоположное ему понятие – Verdeckung, Verhüllung. Однако в «Бытии и
Времени» Lichtung относится к структуре человеческого. Позже в «Бытии и
Времени» Хайдеггер использует не Lichtung, а Gelichtetheit, где мы видим
употребление абстрактных существительных на -heit.
8). Модификация/уточнение отношения актуализируемых квантов к
ситуации при неудачах в коммуникативном акте, исправление в результате
феноменологической рефлексии.
Очень интересным и важным является слово Zeug: оно употребляется
сейчас пейоративно рядом с такими словами, как Kram, krims-krams, либо как
спец термин в языке модельеров, к примеру для Tuche. Ещё более оживляется
303
его содержание в таких композиционных словах, как Sreibzeug, Spielzeug и т.д.
В средневерхненемецкий период это слово употреблялось и изолированно ziug,
geziug. Хайдеггер изолировал компонент zeug и, более того, возродил его
смысловое содержание, которое до этого сводилось лишь к словообразующему
суффиксу. Он использует его для обобщения в названии и характеристике
вещей, которые противостоят человеку в некоторой форме как аппараты,
инструменты,
суть
которых
–
служба
для
чего-либо,
полезность,
используемость.
Как
только
Хайдеггер
объясняет
характер
Umzu
(предметной
используемости) этого Zeug, он может использовать его для называния или
указания на предметы, которые имплицированно, имеют этот смысл, а также
образовывать множественное число Zeuge. Этим же образом консеквентно очки
есть Zeug для видения, телефонная трубка – это Zeug для слушания и так далее.
Так же он образовывает и новые сложные слова с элементом zeug – это
очень удачный способ образования или переосмысления уже имеющегося
слова. Подобные случаи переосмысления наблюдаются у Хайдеггера в
отношении глаголов и прилагательных, но мы не будем их здесь описывать,
назовём лишь некоторые переосмысленные слова, например, festnehmen,
zeitigen, sein in, horizontal и другие.
9). Актуализация или деактуализация позиций и контрапозиций внутри
самой структуры ноэм-доминант, ноэм-культурных основ и периферийных
ноэм.
Например, уже в заголовке первого параграфа «Бытия и времени»
говорится о необходимости
Wiederholung der
Frage nach dem Sinn.
Неискушённый читатель понимает это как требование проработать ещё раз
вопрос о бытии, построение высказывания не даёт ему других возможностей
для понимания. Если же обратиться к книге «Кант и проблема метафизики», то
можно найти следующее предложение: Unter der Wiederholung eines
Grundproblems verstehen wir die Erschließung seiner ursprünglichen, bislang
verborgenen Möglichkeiten, durch deren Ausarbeitung, es verwandelt und so erst in
304
seinem Problemgehalt bewahrt wird. И именно из этого высказывания становится
ясным, что не только Sinn, но и Frage nach dem Sinn является у М. Хайдеггера
одной из основных проблем метафизики и, таким образом, становится
понятным, что фразу эту должно читать с другим ударением. А именно, в
Wíederholung следует ставить ударение на первый, а не на третий слог.
Хайдеггер пишет, что он понимает слово Wiederholung как Zurückholung; итак,
он имел в в иду Wiederzurückholen der ursprünglichen Frage. Мы видим, что это
слово стоит в некоем двойном смысле. Естественно, как и любой носитель
языка, Хайдеггер понимал Wiederholung не только во втором смысле. Конечно,
в его намерения входит показать и нормативный смысл этого слова, и в этом
смысле он имеет в виду Repetition der Frage nach dem Sinn, имеется в виду So oft
sie gestellt worden ist sie muß dennoch wiederholt werden, и более того sie muß als
diese Repetition aus den geschichtlichen Anfängen der Frage in einer besonderen Art
wiederholt werden. Если мы так сформулируем это высказывание, то
неожиданно возникает исходный пункт подобного двойного понимания, а
именно, два формально почти одинаковых слова: одно – с отделяемой, другое –
с неотделяемой приставкой. Второе образует уже известное слово, из первого
же только можно образовать субстантивированный инфинитив, что и делает
Хайдеггер, то актуализируя, то нивелируя первичный смысл собственного
новообразования, и, наоборот, возвращаясь к лингвокультурному восприятию.
10). Амфиболия смысла (гр. amphibolia – двойственность) – в стилистике
представляет собой наложение, предполагающее неоднозначное многомерное
толкование (изначально заложенное). Это могут быть родственные или же
практически тождественные кванты в узлах ноэм-доминант, полностью разные
или даже противоположные кванты в разноуровневых полях структуры.
Geneigtheit можно рассматривать в нормальном немецком языке только
как существительное к прилагательному geneigt, что стоит в одном ряду с
wohlwollend,
freundlich,
herablassend,
entgegenkommend.
Хайдеггер
же
использует это слово как синоним к Tendenz, что в немецком языке уже имеет
место, имеется в виду слово Neigung: Das Dasein hat nicht nur die Geneigtheit, an
305
seine Welt…zu verfallen [Heidegger 1967: 21]. Это положение слова вводит в
заблуждение, так как оно не имеет ничего общего с нормальным geneigt. Мы
уже
упоминали
о
предрасположенности
Хайдеггера
к
абстрактным
существительным на -heit, в данном случае оно, конечно же, употреблено
некорректно.
11). Повышение концептуально акцентуальной мощности квантов
структуры (прежде всего, касается эмоционально-оценочных обертонов
структуры)
посредством
актуализации
дополнительных,
сопутствующих
периферийных ноэм.
Существует ряд слов, которые М. Хайдеггер использует для обозначения
абстрактных отношений и вводит их в содержательную сферу, в которой они в
норме не используются. Однако здесь нельзя говорить о сдвигах внутри
семантического поля, так как специфические содержания этих слов остаются
неизменяемыми. Такие слова, как: Anmessung, Auswicklung, entgegenstehen,
einwohnen, sich gabeln, festmachen, platzieren, vorausspringen, vorspringen,
nachspringen встречаются в следующих выражениях: Anmessung eines Anzuges,
Auswicklung eines Paketes (wobei die Substantivierung schon ziemlich geschraubt
klingt), и так далее.
Совсем
по-другому
экзистенциалистском
эти
тексте:
слова
eine
воспринимаются
phänomenaler
в
философском
Anmessung
gesicherte
hermeneutische Situation [Ibidem: 232], dadurch gekennzeichnet, daß das
gegenwärtigende Vergessen der Gegenwart nachspringt [Ibidem: 369],
и тому
подобное.
Необычное написание Platzierbares должно показать производность этого
слова из термина Platz. В этих словах происходит некое грубое наглядное
выражение, что характерно для некоторых мест в работах Хайдеггера. Так
использование глагола аngehen довольно-таки определённо. Автор пишет: daß
das In-sein… von innerweltlich Begegnendem angegangen werden kann [Ibidem:
137], Endliche Anschauung muß…von dem in ihr Anschaubaren angegangen,
affiziert
werden
[Heidegger
1991:
32].
Здесь
из
блёклого
306
неперсонифицированного
второго
причастия,
конструирующего
аngehen
(betreffen), вновь производится динамическое angehen (entgegengehen und
berühren), что к тому же показывает, что этот глагол является онемеченным от
affizieren.
12). Интерференция соположенных по валерности двух или нескольких
ноэм
или
узлов
ноэм,
что
приводит
к
полевым
сдвигам
внутри
суперконструкта.
Невероятно динамично и показательно в данном случае Хайдеггеровское
употребление sein, в философском языке этот термин употребляется в смысле
existieren как полный глагол. Хайдеггер использует этот глагол в «Бытии и
времени» в различных сочетаниях, но это не удивительно, так как это понятие
является центральным в его работе. В этом смысле образования типа in sein,
sein bei остаются в рамках узуса. Необычным оно становится, когда автор
говорит о sein zu: das Sein zum Tode [Heidegger 1967: 252], das Sein zum eigensten
Seinkönnen [Ibidem:191]. Можно сказать это описательно: das Leben auf dem
gewissen Tod hin, если мы сравним это с обычным der Tag ist zu Ende, бросается
в глаза, как активно Хайдеггер понимает это sein. Sein у него является не только
пассивно-дуративным глаголом, но и в особом смысле действием. К примеру,
Dasein ist можно воспринять как выражение действия человека, или же можно
воспринять как состояние: следующее Dasein ist Verstehen sein Da. Это просто
неслыханное предложение для немецкого языка, с подчёркиванием к тому же
глагола ist.
13). Нивелировка кванторов валерности общей структуры смысла для
продуцента или реципиента как результат деструкции и нивелировки
отношений в суперконструкте (текст потока сознания – Stream of consciousness)
– в нашем понимании некий прием для воспроизведения непосредственной
ментальной
работы
безотносительно
феноменологической
рефлексии,
построенной лишь на рефлексии ноэматической, интуитивном «осознании»
переживаний,
феноменов,
ассоциации,
пытающийся
увязать
все
вышеперечисленное в едином недифференцированном клубке, позволяющий
307
читать мир как гипертекст, строящийся на базе не только многомерности
смыслов, но и нелинейности их построения и оборванности синтаксиса.
14). Смысловой катарсис – «очищение» концептуально-валерного поля,
возможно при полном разрешении противоречий внутри суперконструкта
(чистый
непротиворечивый
смысл)
–
«философский
камень»
смыслопорождения. В исследованных работах нам никогда не встречалось
примера подобного рода, однако гипотетически его существование возможно.
Связывание
имеющихся
и
новых
элементов
внутри
целостной
суперструктуры смысла предполагает наличие механизмов ассоциативного
достраивания и расширения фактов когнитивной реальности, на различных
лучах рефлексии как ноэматической, так и феноменологической. Акт творения
и акт переразложения смысловой суперструктуры в этом процессе являются
тождественными;
они
репрезентируют
некую
разнонаправленную
полилогическую форму вербального перевыражения внутреннего содержания.
Рассматриваемые
трансформации
не
только
продуцируют
неузуальные
многоуровневые смыслы, но и перестраивают ассоциативные связи и
распределение узуальных элементов в ядре смысловой суперструктуры.
Таким образом, смысл не дан нам изначально, а является динамичным
явлением, возникающим при каждом порождении и рецепции текста на основе
новых деривационных моделей трансформации суперструктуры смысла,
рассмотренных выше; это феномен, благодаря которому мы перестраиваем
воспринимаемый нами мир объективной реальности. Единственной формой
наличия и существования смыслов (как отдельных лексем, так и целого текста)
является его порождение и перерождение.
5.4. Этимологическое переразложение и синтез как базовые механизмы
дифракции и модификации суперструктуры смысла
Как известно, существуют наиболее распространенные в трансформациях
дифракции
и
модификации
смысла
механизмы
этимологического
переразложения квантов суперструктуры в их вербализации и модификации
узловых элементов суперструктуры смысла. Исследование суперструктуры
308
наталкивается
на
проблему
неучтенных
квантов
и
неизвестных
в
«универсальном уравнении», описывающем процесс смыслопорождения.
Встает вопрос о том, что в перманентно расширяющемся и неограниченном
наборе граней многомерного смысла невозможен учет всеми реципиентами и
продуцентами всех условий, но в этом нет необходимости, поскольку набор
релевантных актуализированных ноэм всегда ограничен, и константы всегда
определены. При развертывании глобальных, лингвокультурных, ситуативно
обусловленных и индивидуальных ноэм в суперструктурах, наряду с процессом
создания новых смыслов, все большее значение приобретает процесс
актуализации в сознании не только ноэматического (интуитивного) порождения
и декодирования, но и феноменологической «осмысленной» рефлексии.
Производство новых смыслов, как и трансформация структуры в
переосмысленных конструктах, формирующихся в новом философском
речепроизводстве, превращается в процесс постоянного перетекания и
мутации, пронизывающий всю когнитивную сферу. В наших предыдущих
работах уже были выделены 14 видов трансформаций, которые претерпевает
некий суперконструкт в результате актуализации тех или иных потенций в
узловых точках своей структуры, сейчас остановимся подробнее на базовых
механизмах двух из них.
Дифракция/переразложение существующих узлов структуры и наоборот;
чередование возможностей интерпретации элементов структуры – базируется
на операциях с ядерными структурами в корневых морфемах и аффиксах.
Модификация/уточнение
отношения
актуализируемых
квантов
к
ситуации порождения при неудачах в коммуникативном акте, исправление в
результате феноменологической рефлексии.
Интересным в данном аспекте будет изучение случаев использования М.
Хайдеггером в своих работах для порождения новых смыслов операций с
переразложением и синтезом базовых ядерных и периферийных ноэм.
Хайдеггер порождает новые содержательные единства параллельно к уже
имеющимся, выстраивая амфиболию смысла. Но часты случаи, когда автор
309
обращает внимание лишь на новое слово, оставляя первое его значение,
имеющиеся в узуальном употреблении, без внимания. Например: Beide
Stimmungen, Furcht und Angst, be-stimmen je ein Verstehen [Heidegger 1967: 344],
новообразованное слово be-stimmen, in eine Stimmung versetzen не должно
означать каждое be-stimmen, детерминанту, которая в основе своей является das
Versetzung in eine Stimmung. Это так называемаявынужденная дифракция. Если
речь идёт о Selb-ständigkeit в связи с Standgewohnenhaben или же о Unselbständigkeit как противоположности к Standfestigkeit, то становится ясным, что
связь ассоциативная с обычным содержанием в смысле Unabhängigkeit и во
втором случае Entschlusslosigkeit теряется. Вместо этого актуализируется
узловой
элемент,
который
понимается
из
отдельных
квантов-ноэм-
детерминант, реализующихся в каждой отдельной морфеме конструкции (в
смысле die Eigenschaft des Stehens либо как противоположность der Mangel an
dieser Eigenschaft). В «Бытии и Времени» мы находим такие конструкты, как
Ent-fernung в смысле Näherung, Ge-stell как некоторое коллективное
образование к глаголу stellen, Un-fug как Nicht-gefügtes. Как мы видим, уже на
этих трех примерах Хайдеггер не только разделяет слово на составные части
посредством написания через дефис, а значит, производит этимологическое
переразложение
на
компоненты
не
только
морфологической
но
и
семантической структуры понятия как некоей целостности, и не только сводит
его к уже существующим, например Ent(-)fernung (и слитно, и через дефис), но
и синтетически образует совершенно новые слова с помощью аффиксов, как
Ge-stell, Un-fug. Можно сказать, что слова, совпадающие с этими по звуковой
форме, но имеющими другие актуализированные ноэмы в узловых элементах
своей структуры, распредмечиваются реципиентом лишь при наличии в поясе
чистого
мышления
[Щедровицкий,
1995]
интенциально
релевантных,
разделяемых ноэм-доминант, актуализированных в окказиональных концептах
Ge-stell, Un-fug.
Изначально
возникает
впечатление,
что
исходным
пунктом
для
этимологического переразложения служат уже имеющиеся в языке понятия с
310
закрепленными значениями, однако при ближайшем рассмотрении совершенно
точно можно сказать, в каком направлении идёт это смыслопорождение. Если
речь идёт об анализе, тогда содержание исходного конструкта более или менее
ясно, при синтезе же, напротив, содержание формального параллельного
понятия отделяется от такового в переосмысленном конструкте и не несёт
никакого сопутствующего интенциально амфиболического компонента.
Хуго Мозер увидел главное, говоря о том, что анализ Хайдеггера ведёт к
созданию новых понятий и большей чёткости модификации или уточнению
смысла. Однако неправомерно ожидать от подобных этимологических
переразложений в уже имеющейся вербализованной форме, будь они основаны
хоть на дифракции, хоть на модификации, указания на отношения внутри
суперструктуры, которые описываются уже имеющимся в узусе конструктом,
если этот конструкт в понимании его создателя не может быть отнесен к уже
имеющемуся, а понимается как некий тип чистого смыслообразования (однако
еще не смыслового катарсиса как проявления чистого непротиворечивого
смысла), то реципиент, который субъективно интерпретирует его, может
прийти к ложным выводам и серьёзным различиям между интенциально
актуализируемыми узловыми элементами и реальной картиной иерархической
структуры интенциально релевантных для продуцента ноэм.
Особая заслуга этимологического переразложения и синтеза состоит в
том, что посредством их создаются омофоны, порождающие многомерность
смысловой конструкции. Вербализованное новопостроение в философском
тексте создаёт и новые узловые элементы смысловой суперконструкции. По
Хайдеггеровским новообразованиям, таким как Lichtung, Näherung, Überwurf,
Vorsicht, ещё не видно, что они не сводятся к уже имеющимся в узусе
структурам. Допустим Lichtung, Näherung образуются с помощью суффикса ung из глаголов по-новому, т.е. без учета их дефиниционного значения.
Überwurf также вербализуется по-новому, с учетом узловых элементов
конструктов его составляющих: über и Wurf от werfen, а потому реализует
совершенно новые отношения внутри структуры, актуализирует периферийные
311
для узуального понятия ноэмы. Vorsicht и vorsichtig не имеют ничего общего с
уже использующимся в языке в качестве Prudentia, они образованы по-новому
от vorsehen, vorhersehen и актуализируют узловой элемент prevision [Бредихин
2005: 154].
Некоторое количество периферийных ноэм, устойчивых тематических
направлений
развертывания
ноэм-доминант,
которое
в
различающихся
лингвокультурах остаётся открытым, прежде всего, в связи с непрерывностью
порождения и декодирования смыслов в ряду аллюзивных понятий и
неограниченных возможностей языка к порождению вторичных образных
номинаций, выступает в трансформациях дифракции и модификации на первый
план.
Так же и veröffentichen, Veröffentlichung образуются из базовых ноэм
узуального понятия öffentich и факультативно употребляемого префикса ver и
не имеют ничего общего с publizieren, актуализирующимся в узуальном
конструкте. Такая интуитивная игра с трансформациями суперструктуры
смысла – только первый опыт подобного смыслопорождения, который позже
находит всё более широкое подтверждение. Например: Andenken к новому
транзитивному глаголу andenken. Dessen Anfang immer noch auf ein Andenken
wartet, die andenkende Nähe zum Fernen [Heidegger 1971: 107–108].
Если оба представленных механизма дифракции и модификации
смысловой суперструктуры – этимологическое переразложение и синтез –
рассматривать в сравнении, то синтез является менее необычным, чем
переразложение. Как и в других типах трансформации смысла, здесь создаются
новые конструкты с тем лишь отличием, что в языке формально уже имеется
подобное вербализованное созвучие, накладывающее особый отпечаток на
многомерность смысла. Но параллельные вербализованные формы встречаются
и в других случаях смыслопорождающих трансформаций (смыслотворчество,
действующее чаще при декодировании; амфиболия смысла; актуализация или
деактуализация позиций и контрапозиций). Этимологическое переразложение
же есть путь к расширению нового понятийного аппарата, который ещё не
312
обозначен ни в одном учении о смыслообразовании. Поэтому следует
рассмотреть возможности этого механизма подробнее.
Стандартно этимологическое переразложение в философском дискурсе
отождествляется
с
этимологическом
регрессом.
Именно
примеры
переразложения суперструктуры смысла, которые в узусе понимаются как
этимологии, дают повод к подобным заблуждениям. И всё же остаётся
неясным, почему такое количество неэтимологизированных переразложений
остаётся незамеченным. Упомянутый способ смыслообразования не является
этимологизацией в том понимании, что он не является возвращением к
изначальному значению слова. Так же он не является и псевдосмысловой
переорганизацией или же народной этимологией.
Скорее всего, Хайдеггер прибегает к данному механизму дифракции
смысла, и здесь, прежде всего, речь идёт о композитах и производных, на
основе
повторной
реэтимологизации
компонентного
ноэмного
состава
суперконструкта. Если говорить в традиционном языковедческом смысле,
обращая внимание лишь на внешнюю форму и содержание безотносительно
ноэматического аспекта суперструктуры, он высвобождает слово из той
семантической группы, в которой оно находится, и снова складывает его смысл
из смысла его компонентов. В случае с композитами они понимаются на основе
смыслов, входящих в них частей. Развитый в языке смысловой конструкт,
имеющийся в этом слове, игнорируется, и содержание происходит из
фрагментов. Конечно же, имеет место некое подобие этимологии как
отражение Etyma, но не мотивированное, не ищущее корней слова, а новое,
создающее, рождённое не в поиске первоначального смысла, а с помощью
поиска новых выразительных слов и глубинных ноэм суперструктуры, а иногда
и неких фривольностей продуцента, которые дозволяет наш язык. Это
аналитическая этимология как средство смыслообразования и вербализации
нового ментального конструкта. В этом смысле всё равно, понимаются ли
составляющие его части в своём этимологическом значении или же только в
том содержании, в котором они имеются в настоящее время, в своем
313
дефиниционном
значении.
Решающим
является
лишь
то,
что
эти
суперструктуры смысла в данное время используются и опредмечиваются. То,
насколько развиты эти образования в узуальном употреблении, показывает то,
что они при наличии указания, т.е. некоей периферийной ноэмы-маркера, не
могут быть поняты неправильно. Образуется совершенно новое понятие.
Ортега-и-Гассет говорит об этимонах Хайдеггера: «Хайдеггер исследует
обычный и внешний смысл слова, при этом он как бы приподнимает его. Под
давлением на поверхность из глубины выходит основное изначальное значение
слова. Используемое в повседневности слово у Хайдеггера внезапно
наполняется до краёв и заполняется смыслом» [Ортега-и-Гассет 1991: 379]. Так
называемое проявление базовых узловых элементов суперструктуры – это
побочное
явление
с
целью
образования
нового,
актуализирующего
периферийные ноэмы конструкта. Довольно часто можно наблюдать, что
новообразования
Хайдеггера
вызывают
гораздо
меньше
проблем
у
иностранного читателя. Этот феномен легко объяснить тем фактом, что какойлибо конструкт воспринимается носителем языка как единство, и читатель не
пытается повторно прибегать к этимологическому переразложению. Люди же,
воспринимающие его как элемент иностранного языка, видят в нём некую
свободную связь известных им узловых элементов суперструктуры, при этом
иностранец
замечает
и
удобство
нового
конструкта
для
передачи
интенциального неузуального смысла.
Хайдеггер приводит Dasein к Da-sein, Wiederholung к Wiederholung,
Zukunft к Zu-kunft. Это явление не историческое, как в начале кажется, это есть
переразложение на элементы смысловой структуры и в этом смысле оно
является, по сути своей, рациональным процессом, происходящим на третьем
уровне абстракции с включением феноменологической рефлексии, а не
историческим, тогда как его декодирование происходит преимущественно с
привлечением рефлексии ноэматической, корректных актов интендирования.
Однако когда Хайдеггер анализирует Entfernung или Distanz в «Бытии и
Времени», а затем в Ent-fernung в смысле Näherung, то подобное явление по
314
меньшей мере не оправдано. В этом случае, когда в одном и том же звуковом
составе
существуют
два
противоположных
содержания,
использование
подобного образования не оправдывается его полезностью. А именно,
составленное с помощью таких компонентов как префикс ent- и отглагольноабстрактного существительного Fernung контаминированное содержание,
после конкретного указания – введения интенциально релевантной ноэмы
ядерного поля компонента ent-, – будет понятно всем. Так мы видим это в
«Бытии и Времени»: Wir gebrauchen den Ausdruck Entfernung in einer aktiven und
transitiven Bedeutung [Heidegger 1967: 105]. К тому же, содержание
неузуального деривата Ent-fernung не полностью идентично Näherung в том
смысле, что в одном случае исходным компонентом является fern, а в другом –
nähe, ведь иерархическая структура интенциально релевантных ноэм базового
суперконструкта не только полностью различна, за исключением ноэмыобщекультурной основы «положение в пространстве/времени». В этом случае
нельзя считать решающим то, что Хайдеггер в параграфе 23 «Бытия и
Времени» пользуется такими понятиями, что неузуальный конструкт Entfernung уже изначально указывает на экзистенциальные отношения, всегда
находящиеся в Ent-fernen или nähernd sich verhaltender Menschen. Мы полагаем,
что это не так, однако Хайдеггеру это представлялось вполне возможным
типом вербализации определенных ментальных отношений. Именно в пользу
этого предположения и говорят параграфы 368–369 «Бытия и Времени».
Однако декодируемый большинством интерпретаторов смысл «дистанции» в
этом конструкте действует так сильно, что любое употребление звуковой
формы Entfernung несёт в себе опасность недопонимания, а отнюдь не
интенциальность амфиболии смысла, которая в данном случае должна
предвосхищаться особенно пространными объяснениями. Открыв в этом
способе огромные возможности, автор использует его чаще. Например:
aus dem Sen als Anwesen gedacht, ist der fugend-fügende Fug. , die Un-fuge,
ist der Un-fug [Ibidem: 329]. Здесь использование подобного способа вполне
оправдано, оно ясно понимается и побуждает к размышлениям, но стоит на
315
границе каламбура, что может скорее оттолкнуть от рассматриваемого в
философском тексте феномена, нежели привести к ноэматической рефлексии и
поиску корректных актов интендирования.
Карл Лёвиц утверждал по поводу хайдеггеровских трансформаций
смысловых структур, что автор пытается постоянно претендовать на то, чтобы
порождать в присущем ему искусстве словообразования «слово Бытия» (das
Wort des Seiens). Герман Швеппенхойзер говорит в своей диссертации о
намерениях Хайдеггера, что тот пытается ухватить или представить нам всё
или нечто определённое, что попадается ему на глаза в значении слова. Однако
подобные
утверждения
далеки
от
истины
[Schweppenhäuser
1957].
Хайдеггеровское искусство неузуального смыслопорождения, управления
деривационными моделями смысла по большей части осознанное и активноязыкотворческое. Это есть попытка передать в речи не схваченные в
имеющихся в узуальных конструктах определённые отношения и данности,
актуализировать периферийные ноэмы в узловых элементах смысловой
суперструктуры. При этом автор, прибегая к феноменологической рефлексии,
конечно же, осознаёт всю неудобность подобного конструкта, однако,
упоминая о том, что мы должны учитывать, что подобные образования иногда
вводят нас в заблуждение [Heidegger 1971: 55], и используя лишь нивелировку
кванторов валерности общей структуры смысла для продуцента или
реципиента
как
результат
деструкции
и
нивелировки
отношений
в
суперконструкте, лишь в позднейших работах он пытается использовать
порождение или актуализацию квантов смысла собственных актов мышления.
Посредством
этого
осуществляется
распредмечивание
продуцентом/реципиентом существующих элементов смысловой структуры и
тем
самым
опредмечивание
субъективных
актов
феноменологической
рефлексии. Иначе говоря, размышления Хайдеггера по поводу таких
отношений приводят к модифицированной языковой форме.
Строительный материал смысла уже определён структурными законами.
Исследованные
факты
позволяют
утверждать,
что
этот
путь
316
смыслопорождения, причины которого лежат в его особых возможностях,
позволяет создавать неузуальные конструкты, неповторимые по своей
рассудительности и в то же время удивительные по своей новизне. Ортега-иГассет сказал: «с нами происходит такое, как будто слова в своей statunassendi
нас удивляют» [Ортега-и-Гассет 1991: 386]. Ограничения использования
подобных механизмов трансформации смысловой суперструктуры объясняются
лишь тем, что вербализованные неузуальные образования, рожденные таким
способом, не могут полностью распространиться в языковом сообществе, так
как они привязаны к определённому контексту. Словоформа, не наполненная
общепринятым содержанием, в этом смысле понимается как некое специальное
образование для профессионального языка. Этому закону подчиняются, в
принципе, все содержательные новообразования.
Нормативный аспект и правилоупотребление всякого смыслового
суперконструкта
в
философском
тексте
определяется
постоянным
«размыванием» ядерного поля (перераспределением ноэм внутри ядра или же
выстраиванием нового ядра при актуализации периферийных ноэм в ядерных
узловых элементах), что приводит к созданию особого рода текстов, которые
можно считать репрезентативными в отношении «мышления на пределе языка».
Этимологическое переразложение и синтез как механизмы дифракции и
модификации смысловой суперструктуры активизируют скрытые потенции
языка, заставляют размышлять о противоречивых, парадоксальных явлениях
его функционирования.
5.5. Сдвиги в семантических полях при актуализации периферийных ноэм
как способ порождения многомерного смысла
Попытки описания смыслопорождения при подходе к языку как знаковой
системе
особого
рода
не
всегда
способны
объяснить
наличие
и
функционирование универсальных деривационных моделей смысла. Новые
исследования, сочетающие различные лингвокультурологические подходы,
герменевтический анализ, методологию когнитивной лингвистики и практику
обращения с языком не как со знаковой системой, но как с системой для
317
производства знаков радикально отличаются от предшествующих теорий.
Различия произрастают из систем анализа текстов, санкционирующих цели
мыследеятельности, связывающих их с актами интендирования [Богин 1993:
137], и других констант производства многомерного смысла: модальности,
ситуативности, и трёх видов ноэм как структурных единиц порождения
речевого знака. Новый подход формируется на восприятии смысла не как
константного образования, а как субъектно-ориентированного суперконструкта
релевантных кванторов, актуализируемых в четырёх моделях хронотопа, в
которых репрезентируются ноэмы. Решающим фактором трансформаций
смысловых
структур
выступают
возможности
перераспределения
ноэм
периферийного поля внутри многомерной суперструктуры, разрушающие
процесс
преемственности
значения
языковой
единицы
внутри
лингвокультурной общности и культивирующие весьма самобытную систему,
отходящую от магистральных путей узуального функционирования конкретной
единицы.
Определённый концептуальный смысл окказионального авторского
понятия в философском дискурсе есть постулированный абстрактный объект,
включающий
определённые
свойства,
отношения,
и,
прежде
всего,
«индивидуальные концепты», т.е. то, что у индивида/автора соответствует
концепту. При концептуализации понятия и реализации релевантных ноэм
различных типов в суперструктуре смысла главнейшим условием является
интенциальность,
обусловленность
порождения
нового
смысла
либо
отсутствием, либо непригодностью имеющихся в обыденном языке понятий
для выражения этого «нового», иногда окказионального понятия.
Основным
периферических
для
понимания
ноэм
процесса
является
актуализации
выявление
способов,
ядерных
стоящих
или
за
вербализованными в текстах культуры мыследеятельностными актами. Иначе
говоря,
предпринимается
попытка
выявить
онтологические
картины
соответствующих понятий в разных языковых картинах мира, а также
318
зафиксировать рефлексивные акты, которые приводят к ноэматическим
изменениям.
Образуя новое понятие и пытаясь его концептуализировать в своей
работе, автор прибегает к построению окказионального образования на основе
данного ему изначально набора ноэм-культурных основ, но также на основе
ноэм-«интенциональных сущностей», и в-третьих наиболее дробных идеальных
образований, способных формировать смыслы как системы – периферийных
ноэм.
В
этих
системах
осуществляется
внутренняя
согласованность
устойчивого ядра смысла [Tragesser 1977: 138]. Каждый вид ноэм возникает
благодаря интенциональности актов сознания и в силу их способности
указывать на онтологический конструкт. Ноэма – это указание, осуществляемое
рефлексивным актом сознания, обращенного на минимальный компонент
онтологической конструкции. С этой точки зрения ноэма соответствует семе,
играющей ту же самую роль при определении уже не смыслов, а выводимых из
их совокупности значений. Ноэма – это «монада идеального» [Husserl 1965:
106].
Изучив
ноэматические
характеристики
лексики,
связанной
с
концептуализацией понятий «Dasein/In-der-Welt-sein», «Бытие/Вот-бытие», и
выявив ноэмы в отдельных культурных областях, попытаемся представить
системную иерархию ноэм. При этом выделяются три уровня ноэм:
ноэмы-культурные-основы (указывающие на некоторые базовые
смыслы лингвокультуры),
ноэмы-доминанты (воспроизводящие стереотипы и константы
культуры) и
периферийные
ноэмы
(представляющие
собой
устойчивые
при
образовании
тематические направления развертывания ноэм-доминант).
В
процессе
актуализации
релевантных
ноэм
философских смыслов или переразложении имеющихся смыслов в новых
структурах на первый план выступают периферийные концепты, а именно,
окказиональные деривационные модели и интенция автора; его личностные
319
смыслы являются базовой конструкцией, на различных уровнях которой и
размещены доминантные, культурные и контекстуальные смыслы. Следующий
список содержит слова, которые Хайдеггер извлёк из союза близких им
содержательно слов и передвинул их внутри этого союза на другое место, при
этом мы не рассматриваем сами возможности извлечения этих слов. Конечно
же, эти образования следует подвергать лишь синхроническому рассмотрению
и не учитывать раннего их состояния.
Anzeige
Ausstand
befindlich
Dasein
einwohnen
Ekstase
entwerfen
Entwurf
Geneigtheit
horizontal
lichten
festnehmen
Lichtung
Näherung
Überwurf
veröffentlichen
Veröffentlichung Vorsicht
vorsichtig
Weltoffenheit
zeitigen
Zeug
Zerstreuung
Anzeige, к примеру, относится к двум таким полям: Meldung, Beschwerde,
Protokol и Mitteilung, Gesuch. Для обоих этих полей слов не характерно общее
абстрактное глагольное содержание. Хайдеггер же использует Anzeige в
следующих примерах: der Nachweis… gründet in der vorläufigen Anzeige des…
Vorrangs des Daseins [Heidegger 1967: 14]. Die Entwirrung dieser Vieldeutigkeit
kann zu einer Anzeige… ihres Zusammenhangs werden [Ibidem: 64].
В этих примерах мы видим абстрактное проявление смысла. Ausstand
используется в немецком языке как синоним к Streik, в выражении Ausstand
geben. В «Бытии и Времени» это слово употребляется терминологически,
опять-таки как нечто абстрактное от глагола esstehtnochausв примере: Zum
Dasein gehört… ein Noch-nicht,… der ständige Ausstand. Der Ausdruck meint das,
was zu einem Seienden zwar gehört, aber noch fehlt [Ibidem: 242].
Dasein было образовано в 17 веке по примеру латинского Existentia,
параллельно было образовано Sosein как Essentia и до сих пор используется в
философском языке. В нормативном разговорном языке Dasein является неким
общим синонимом к Leben. Хайдеггер же вводит Dasein уже в начале «Бытия и
Времени» как термин для Seiende des Wesene [Ibidem: 7]. Под ним имеется в
320
виду Menschen люди. Слово же Mensch у Хайдеггера встречается всё реже и
реже. Он считает, что Mensch – это случайное имя для Seiendes, что в слове
Dasein лучше выражены онтологическая структура и возможности.
Подобные новообразования должны рассматриваться как содержательное
переосмысливание слова. В принципе и до Хайдеггера использовались Sein,
Seiendes и даже Dasein, но Хайдеггер переосмысливает это Dasein и не просто
переносит его в свои труды, а понимает в основе своей как Da-sein.
Итак, он понимает sein в смысле daexistieren. Позже в предисловии к
«Was ist Metaphysik» Хайдеггер так обосновал свой терминологический выбор
использования Dasein: Um sowohl den Bezug des Seins zum Wesen des Menschen
als auch das Wesenverhältnis des Menschen zur Offenheit (Da) des Seins als solchem
zugleich und in einem Wort zu treffen, wurde für den Wesensbereich, in dem der
Mensch als Mensch steht, der Name “Dasein” gewählt [Heidegger 1971: 13].
Ekstase понимается в норме как слово из области чувств как допустим
Erregen,
Freude,
Erschütterung,
но
оно
не
имеет
ничего
общего
с
хайдеггеровским Ek-stase, ek-statisch, которое строится из греческих слов как
hinausstehen рядом с Hinausstand – термином для трансцендентальной
структуры человеческого суждения. Напротив Ek-stase в «Бытии и Времени»
указывает на другой феномен – Zeitlichkeit временности. Таким образом, его
термин Ek-stase происходит от греческого слова.
Entwurf или же Projekt относится в немецком к той же группе слов, что и
Skizze, Zeichnung, Modell, так же сюда входит глагол entwerfen. Хайдеггер же,
наоборот, использовал глагол werfen в различных комбинациях как, например
Überwurf. Здесь он чувствует возможность образованияновых сложных слов:
während der Entwurf im Werfen die Möglichkeit als Möglichkeit sich vorwirft und als
solche sein läßt.Der Entwurfcharakter des Verstehens besagt ferner, daß dieses das,
woraushin es entwirft, die Möglichkeiten, selbst nicht thematisch erfasst [Heidegger
1967: 145].
Geneigtheit можно рассматривать в нормальном немецком языке только
как существительное к прилагательному geneigt, что стоит в одном ряду с
321
wohlwollend,
freundlich,
herablassend,
Хайдеггер
entgegenkommend.
же
использует это слово как синоним к Tendenz, что в немецком языке уже имеет
место, имеется в виду слово Neigung: Das Dasein hat nicht nur die Geneigtheit, an
seine Welt…zu verfallen [Heidegger 1967: 21]. Это положение слова вводит в
заблуждение, так как оно не имеет ничего общего с нормальным geneigt. Мы
уже
упоминали
о
предрасположенности
Хайдеггера
к
абстрактным
существительным на -heit, в данном случае оно, конечно же, употреблено
некорректно.
Lichtung в немецком языке относится к группе слов Wald, Gehölz и т.д. и,
конечно, в современном немецком языке его нельзя отнести к группе слов Licht,
Hellichkeit, хотя их этимологическое родство сразу же бросается в глаза.
Хайдеггер по-новому образует это слово от глагола lichten, как anslichttreten,
offenbar werden. И в большинстве его работ это слово связывается с Sein, даже
таким образом, что Хайдеггер говорит о Lichtensgeschichte des Seins.
Противоположное ему понятие Verdeckung, Verhüllung. Однако в «Бытии и
Времени» Lichtung относится к структуре человеческого. Позже в «Бытии и
Времени» Хайдеггер использует не Lichtung, а Gelichtetheit, где опять-таки мы
видим употребление абстрактных существительных на -heit.
Näherung
является
специфическим
математическим
термином.
У
Хайдеггера глагол nähern субстантивируется по-новому и употребляется
подобным образом: die nächste Näherung des Drohenden und die Art des
Begegnens der Näherung selbst: die Plötzlichkeit [Ibidem: 142]. Употребительнее
только Annäherung.
Допустим, такое слово как Vorsicht, в нормативном немецком языке,
скорее, приближается по наполнению к таким словам, как Klugheit,
Zurückhaltung, Achtsamkeit, которые описывают черты характера. В «Бытии и
Времени» же оно имеет больше общего с Hervorsehen. И мы встречаем его в
подобных фразах: Die Auslegung gründet jeweils in seiner Vorsicht [Heidegger
1967: 150], при этом уже использование его в среднем роде показывает, что
имеется в виду не черта характера, а некий акт (Vorsehen).
322
Компонент -sicht Хайдеггер употребляет и в других производных,
например: Umsicht, sichtig. Также содержательно новым является и следующий
пример: das… vorsichtig anvisierte Verstandene [Ibidem].
Weltoffenheit так же соотносится с человеческими чертами характера,
Хайдеггер имеет в виду непосредственное Offenheit für Welt, в смысле
человеческого бытия в мире: Die Gestimmtheit der Befindlichkeit konstituiert
existentiell die Weltoffenheit des Daseins [Ibidem: 137].
Очень интересным и важным является слово Zeug: оно употребляется
сейчас пейоративно рядом с такими словами, как Kram, krims-krams, либо как
спец термин в языке модельеров к примеру для Tuche. Ещё более оживляется
его содержание в таких композиционных словах, как Sreibzeug, Spielzeug и т.д.
В диалектах средневерхненемецкого периода это слово употреблялось и
изолированно ziug, geziug. Хайдеггер изолировал компонент zeug и, более того,
возродил его смысловое содержание, которое до этого сводилось лишь к
словообразующему суффиксу. Он использует его для обобщения в названии и
характеристике вещей, которые противостоят человеку в некоторой форме как
аппараты, инструменты, суть которых – служба для чего-либо, полезность,
используемость.
Как только Хайдеггер объясняет характер Umzu этого Zeug, он может
использовать его для называния или указания на предметы, которые
имплицитно, имеют этот смысл, а также для образования множественного
числа Zeuge. Этим же образом консеквентно очки есть Zeug для видения,
телефонная трубка – это Zeug для слушания и так далее.
Так же он образовывает и новые сложные слова с элементом zeug – это
очень удачный способ образования или переосмысления уже имеющегося
слова. Подобные случаи переосмысления наблюдаются у Хайдеггера в
отношении глаголов и прилагательных, но мы не будем их здесь описывать,
назовём лишь некоторые переосмысленные слова. Как, допустим, festnehmen,
zeitigen, seinin, horizontal и другие.
323
Ясно только одно: действительное направление передвижения смысла
идёт от конкретного к абстрактному, слова, которые до этого ограничивались
конкретным явлением, превращаются в абстрактные, в большинстве своём
глагольно определяемые отношения. Сразу из контекста понятно, что слово
стоит уже не в том семантическом поле, которому оно принадлежит в
нормативном языке, оно направлено на какой-то описываемый Хайдеггером
феномен, либо принадлежит другому союзу слов.
Смысловое восприятие единиц текста и, следовательно, смысловое
восприятие тех или иных отрезков речевой цепи периодически затрудняется.
При преодолении этих затруднений реципиент включается в специфическую
деятельность
–
деятельность
деятельность
сначала
понимания
ноэматической,
а
текста,
потом
а
и
соответственно
и
феноменологической
рефлексии. Понимание имеет место лишь там, где надо преодолевать
затруднения или обрывы в смысловом восприятии текста; оно выступает как
активный процесс, который весьма напоминает деятельность продуцента по
порождению смысла в тексте.
Порождение нового смысла, его мутации при изменении состава ноэм
(которые не всегда могут быть представлены в языковом выражении)
активизируют
скрытые
противоречивых,
потенции
парадоксальных
языка,
заставляют
явлениях
его
размышлять
о
функционирования.
В
смыслопорождении активно проявляются интенции языковой личности к
переосмыслению старых форм и созданию новых.
5.6. Смыслотворчество как определяющая трансформация
суперструктуры смысла при рецепции философского дискурса
Центральной проблемой изучения текстов различных функциональных
стилей в наше время становится иерархическая организация квантов смысловой
суперструктуры при производстве новых неузуальных смыслов. В нашем
исследовании
аналитической
мы
прибегаем
философии,
к
анализу
порождение
текстов
новых
экзистенциальной
смыслов
в
и
которых
распространено особенно широко в сравнении с другими философскими
324
течениями. Процессы смыслопорождения в других типах текста в данном
параграфе не подвергаются анализу, хотя таковые коррелируют с типами
трансформаций в философском смыслопорождении. Целью создания и
понимания
философского
текста
является
«опредмечивание»
смысла,
«осознание» скрытого за вербализованной формой, происходящее на третьем
уровне абстракции, при использовании ноэматической и феноменологической
рефлексии. Смысл в философском тексте дается опосредованно, лексические
единицы не всегда выступают в своем словарном значении и отражают
действительный смысл, кроющийся за текстом. При ближайшем изучении в
философском аналитическом тексте или в экзистенциалистском тексте
вычленяются множество аспектов, о которых невозможно просто прочитать.
Смысловая
суперструктура
(иерархическая
структура
интенциально
релевантных ноэм) здесь проступает имплицитно, раскрывается с помощью
корректных, т.е. ведущих к адекватному восприятию смысла тактик
интендирования. При приближении к действительному смыслу он ускользает,
отдаляется, присутствует как идеальное и искомое.
Распредмечивание
граней
смыслов,
приписанных
объектам
мыследеятельности и постигаемых нами, может осуществляться с применением
филологической феноменологической герменевтики как нового подхода,
сочетающего методы и метаязык когнитивной лингвистики, филологической
герменевтики Г. И. Богина и феноменологической герменевтики Г. Г. Шпета.
Парадокс Шлейермахера гласит, что интерпретатор/реципиент понимает текст
более детально, чем продуцент. Интерпретатор вписывает новые, собственные
смыслы в оригинальный текст. Проблема осознания смысла текста в данном
случае понимается как проблема смыслотворчества. По И. Канту, человек
«понимает» лишь то, что сотворил сам, постижение чуждых смыслов для него
невозможно. Это правило базируется на константе фоновых знаний, а потому в
диахроническом аспекте, при условии дистантного специализированного
изучения текстов, действует практически всегда, но при синхронном
рассмотрении философских текстов оно перестает работать.
325
В порождении нового, неузуального смысла в философском тексте
возможны трансформации суперструктуры смысла, которыми пользуются как
продуцент при создании философского текста, так и реципиент при
декодировании, чтении философского текста (причем автор – на уровне
феноменологической рефлексии, а интерпретатор – на уровне ноэматической).
Безусловно, о возможностях перечисленных выше трансформаций можно
говорить при обращении к «осмысленному» дискурсу, обладающему «всеми
критериями осмысленности: 1) совпадением целей коммуникации участников
коммуникации, 2) взаимосвязью всех элементов высказывания, 3) связностью и
цельностью на всех уровнях высказывания, 4) соответствием языковым
нормам, 5) смысловой завершенностью, и 6) соответствием языковой ситуации
общения» [Алимурадов, Григорьева 2009: 35–36].
Прежде всего особый интерес для нас представляет так называемое
смыслотворчество, или порождение (актуализация) квантов смысла актов
мышления коммуникантов.
Смыслотворчество
предполагает приписывание
смысла
некоторым
феноменам, включение узловых ноэматических элементов в разные контексты,
образование той или иной семантической зависимости, изменение отношений
внутри суперконструкта. Создание текста интерпретатором предполагает и
осознание акта творения, иногда повторяющего акт производства текста, все
это порождает сходные, однако не идентичные акты интендирования на
разнонаправленных лучах
философской
рефлексии
над
словом. Текст
философской аналитики обладает интереснейшим свойством, а именно рождает
подобное (но не тождественное), при этом остается самим собой, лишь включая
в многомерный суперконструкт новые и новые узловые элементы и отношения.
В точках контрконтакта с оригинальным текстом порождается и вербализуется
мысль интерпретатора. Воспринимаемый текст как результат процесса
интерпретации,
безусловно,
является
формой
фиксации
процессов
смыслопостроения, опосредованных константой фоновых знаний и интенцией
реципиента
«чужеродного»
по
отношению
к
собственно
авторскому
326
смыслопорождению.
зафиксированным
А
потому
вербально
он
полем
может
для
служить
уникальным,
описания
возможностей
смыслопостроения как продуцента, так и реципиента. По сути, это некий
вариант вторичной номинации в уже имеющемся тексте. С другой стороны,
данную
проблему
можно
рассматривать
в
терминах
общей
теории
смыслопостроения, в которой интерпретативное восприятие и декодирование
являются лишь процессуальными вариациями смыслопорождения «второго
уровня абстракции» и, в принципе, ничем не отличаются от стандартной
интерпретации текста (причем в данном случае мы имеем дело лишь с
односторонним анализом, так называемой «перспективой реципиента»)
[Бредихин 2012: 143].
Смыслотворчество в интересующем нас смысле не сводится только к
производству и пониманию ре-продуцируемых в речи «аллоноэм», что является
обоснованным
(как
в
лингвистическом,
так
и
когнитивном
аспекте)
вербализованным построением дискурса. Не вызывает сомнения и положение о
том, что оное является аналитико-синтетической деятельностью, направленной
на всеобъемлющее понимание текста. Под пониманием мы подразумеваем не
только извлечение информации об объективной реальности, но и прояснение
механизмов ее кодирования и обоснования правомерности и продуктивности,
корректности актов интендирования в контексте декодирования смысла
философского дискурса. Однако говоря о сути смыслотворчества, необходимо
трактовать смысл как единое динамическое результирующее ментальное
построение, соответствующее тексту как целому и являющееся моделью, то
есть подобием текста [Псурцев 2001: 187]. Такой суперконструкт объединяет в
своей структуре и узловые элементы, универсальные для носителей той или
иной лингвокультуры (своего рода ядро), и периферийные элементы,
являющиеся
специфическими
для
каждого
конкретного
реципиента
лингвокультурной общности (периферию). При таком понимании смысла
учитывается
интенциональность
продуцента
(конструирование
объекта
сознания), «авторитетность авторского намерения», а также константы
327
смыслодекодирования
реципиента:
субъективность,
интенциальность,
модальность и т.п.
В аспекте смыслотворчества (как в порождении, так и в восприятии)
специфика философского дискурса заключается в принципиальном отсутствии
у его продуцента и реципиента установки на очевидность, одномерность
смысла. Сама же реализация многомерности и многогранности суперструктуры
смысла в линейной материальной среде физически фиксируемого дискурса
происходит благодаря лингвокультурно и концептуально маркированным
элементам текста. Не подлежит сомнению огромная роль трансформационных
стратегий и управления новыми деривационными смысловыми моделями в
порождении и раскодировании дискурса. Именно с помощью трансформаций
смысловой
структуры
продуцент
имеет
возможность
вербализовать
«смысловые скважины» [Жинкин 1982: 84], или некие окказиональные
новообразования, играющие первостепенную роль в структурном построении
дискурса (в данном случае под структурой будем понимать взаимосвязь
функциональных элементов всех уровней). В функциональном отношении
данные
образования
могут
быть
приравнены
к
кодовым
элементам,
помогающим расшифровать смысл философского дискурса. При построении
многомерного, продуктивно неопределенного смысла на передний план
выходят концептуальные компоненты, которые способны образовывать надлинейную
иерархическую
ноэматическую
суперструктуру
на
уровне
целостного и непротиворечивого восприятия текстовой реальности, и которые
играют первостепенную роль в смысловой наполненности текста. В процессе
восприятия философского текста реципиент наталкивается на сложные для
понимания смысловые построения. Выстраивая эти суперконструкты смысла
заново, он вынужден в ситуации модификации переходить с ноэматической на
феноменологическую рефлексию, с чем и связана неоспоримая ценность этих
парадигматических гипертекстовых выдвижений.
По
мнению
О.
А.
Алимурадова,
«лексическое
значение
носит
комплексный характер, причем его компоненты находятся в иерархических
328
отношениях. В состав семантической структуры входит инвариантная сема,
занимающая центральное место в семантике и манифестирующаяся при каждом
употреблении единицы» [Алимурадов 2002: 138]. Данное утверждение можно
отнести и к структуре смысла, компоненты которого – ноэмы, находящиеся в
иерархических отношениях и имманентно присутствующие в ядерном и
периферийном поле, изменяют свое положение при действии той или иной
трансформации, но при этом не теряют своего онтологического статуса.
Действительное направление передвижения квантов суперструктуры
смысла идет от конкретного к абстрактному, от периферии к ядру. Понятия,
которые до этого ограничивались конкретным явлением, превращаются в
абстрактные, в большинстве своем глагольно определяемые отношения.
Контекст показывает реципиенту, что новообразование стоит уже не в том
семантическом поле, которому оно принадлежит в нормативном языке: оно
направлено
на
какой-либо
описываемый
Хайдеггером
феномен,
или
принадлежит другому ассоциативному ряду.
Изучим
вопрос о Sinnesverschiebung
(смысловом сдвиге)
и
его
возможностях в построении тех или иных ноэматических реалий более
подробно. Правомерно говорить о личностной и языковой, а также
лингвокультурной
интерференции
при
восприятии
и
декодировании
суперструктур с узловыми элементами концептуальной и лингвокультурной
информации дискурса, хотя четкую грань между ними провести вряд ли
удастся
(личностная
интерференция базируется на использовании тех
возможностей, которые дает константа фоновых знаний в суперструктуре
смысла, в то же время выбор из ряда предлагаемых языком возможных
вариантов при передаче изначальных интенциальных смыслов, бесспорно,
определяется, в том числе, предпочтениями реципиента; концептуальные и
лингвокультурные кванты смысла также обязательно подвергаются влиянию
мировосприятия реципиента, да и отношения в суперконструкте строятся на
основе потенциальных языковых возможностей). Огромное значение должен
329
иметь и уровень привносимых в текст окказионально-акцентированных
узловых элементов.
Специфика интерпретативного восприятия суперструктуры смысла
философского дискурса связана как с ядерной зоной узловых элементов
смысла, так и с периферией, и чем непротиворечивее трактуется взаимосвязь
этих элементов в аспекте целостного восприятия реципиентом, тем больше
ассоциативных связей и парадигматических отношений в суперструктуре
смысла возникает между первичной, ядерной зоной смысла и вторичным
смыслотворчеством.
Число узловых элементов (ноэм) может возрастать по экспоненте, что
зависит от ноэматического смыслообразования и смыслообновления. Кроме
того, следует учитывать и классификацию критериев смыслотворчества в
неузуальном
конструкте
(узуальность/окказиональность,
частотность
употребления, изолированное/контекстное понимание).
Конструкты, функционирующие в общем философском узусе, обладают,
как правило, следующими свойствами: общепринятость, воспроизводимость,
нормативность, частотность употребления, изолированное понимание, но у них
нет
свойства
«новум».
Такие
суперконструкты
фиксируются
всеми
философскими словарями, и их смысл вне зависимости от контекстуального
окружения и широты периферийных ассоциативных связей чаще всего
совпадает с зафиксированным значением.
Относительно
воспроизводимостью,
узуальные
нормативностью,
конструкты
частотностью
характеризуются
употребления,
изолированным пониманием, но не обладают общепринятостью и новизной.
Эти смысловые структуры употребляются более или менее устойчиво и
являются названием, своеобразной меткой данного единичного феномена,
функционирующего либо в текстах конкретного философского направления,
либо в серии работ по конкретной проблеме. К этой группе примыкают
конструкты, которым присуще еще и свойство «новум».
330
Третья группа объединяет в своем составе конструкты со свойствами
производимости, нормативности, изолированного понимания и отсутствия
свойств общепринятости, новизны, частотности употребления. Центральное
положение в этой группе занимают такие конструкты, которые производятся в
процессе
текстопорождения
по
стабильным
высокопродуктивным
деривационным моделям, вследствие чего они не воспринимаются как нечто
новое, хотя присущи идиостилю отдельного философа.
Четвертая группа объединяет конструкты со свойствами творимости,
новума, изолированного понимания, но они не обладают общепринятостью,
нормативностью, частотностью употребления. Они характерны прежде всего
для определенных, зачастую единичных целей при анализе того или иного
феномена, и именно в данных суперконструктах действует чистый вариант
смыслотворчества.
Сама смысловая суперструктура обладает свойством новума – только
благодаря трансформациям отношений внутри структуры (в ситуации
семиозиса, в речетворческом процессе), они же, в свою очередь, обусловлены
интертекстуальными фоновыми знаниями продуцента и реципиента. В
процессе порождения и декодирования эти трансформационные инновации
суперструктуры не случайны, они приобретают системную организацию и
базируются на смысловых экспликациях, актуализации тех или иных узловых
элементов ядра или периферии. Системный характер носят и отношения внутри
суперструктуры. Таким образом, смыслотворчество является одним из ведущих
механизмов актуализации смысла. Можно выделить несколько операций
стандартного смыслотворчества как процесса декодирования смысла: эффект
сопереживания
и
сотворчества,
исходная
интенциальная
амфиболия,
диахроническая рецепция, механизмы рефлексивного обращения, философская
метафора.
Эффект
сопереживания
и
сотворчества
позволяет
реципиенту
погрузиться в систему авторских смыслов, адекватно воспринимать отношения
внутри суперструктуры интенциально релевантных ноэм. Однако авторские
331
смыслы, преломляясь в когнитивном опыте реципиента, могут получать
абсолютно новое наполнение в сравнении с теми, которые были вербализованы
в тексте. Когнитивный континуум реципиента по-новому структурирует
иерархический суперконструкт, актуализируя релевантные для читателя ноэмы.
Исходная
интенциальная
амфиболия
может
не
эксплицироваться
вербально, но она присутствует в самой ткани текста, и это становится
очевидным при специализированном дифференцированном распредмечивании
внутреннего
содержания
целостного
текста.
Невозможность
принятия
авторского видения во всем обеспечивает функционирование данного
механизма
смыслотворчества
–
противопоставление
и
дуальность,
полихронотопность и многомерность перспектив продуцента и реципиента.
Эффект диахронической рецепции также является одной их ведущих
операций в трансформации смыслотворчества. Это можно сказать не только о
рецепции философских смыслов, но и о любом произведении – оно дается не
единовременно, эффект линейной последовательности времени дает нам
постепенную структурацию распредмеченных феноменов, вербализованных в
тексте, осознание и понимание актуализации ноэм продуцентом текста.
Линейная последовательность восприятия во времени текста необходима для
структурации текста как целого. Парадокс Шлейермахера дает представление и
о дистантном восприятии текстовой реальности, каждый из интерпретаторов в
разных ситуациях семиозиса находит в тексте новые стороны и проблемы. В
результате
неизбежно
появление
перед
реципиентом/интерпретатором
абсолютно новой текстовой реальности с новым внутренним содержанием и поновому актуализированными смыслами. В зависимости от системы отсчета
реципиента прочитывается текст и наполняется ответами на вопросы читателя,
хотя ранее он был призван ответить на вопросы автора. Безинтенциальное
смыслодекодирование невозможно, как невозможно и безинтенциальное
смыслопорождение. Модальность и интенция есть обязательные условия и
одновременно механизмы и средства распредмечивания актуальных смыслов.
Именно благодаря этому и происходит построение гипертекста, обогащение
332
смысловой
суперструктуры
новыми
гранями
и
построение
новых
парадигматических связей между узловыми элементами.
Немаловажным является и механизм рефлексивного контекстуального
обращения, построенный на постоянной ноэматической рефлексии над
объектами реального мира и обыденными смыслами понятий, установлении
ассоциативных связей между ними. Реципиент в процессе смыслотворчества,
сравнивая структуры воспринимаемого текста с уже известными ему
философскими текстами как этого, так и других авторов, актуализирует новые
скрытые ноэмы, выстраивая тем самым собственный смысл. Все высказывания
и смыслы, воспринятые реципиентом в процессе когнитивной деятельности на
протяжении всей его жизни, вступают в диалогические/полилогические
отношения, образуя гипертекстовую реальность. Текст как система для
производства символов живет только в отношениях с другими текстами, этот
контекст сосуществования является условием полилога между текстами.
Философская метафора – это еще один из механизмов смыслотворчества
при декодировании смыслов, кроме того, она является и механизмом
понимания в широком смысле этого слова. Именно метафорический перенос по
смежности или по сходству квантов смысловой конструкции позволяет
производить новые смыслы. Прояснение внутренней структуры философского
текста может быть реализовано при распредмечивании эвристических метафор
продуцента, в которых он вербализует свои ментальные конструкты. Метафора
есть заключение определенного когнитивного ментального конструкта в
дуалистическую форму конкретной системы координат, а потому она обладает
наибольшей эвристической валерностью для процесса смыслотворчества.
Главное свойство философского процесса метафоризации заключается в
перераспределении узловых элементов структуры смысла и реализации
аттрактивной и эстетической функции, что позволяет ощутить смысловую
новизну и активизировать когнитивные процессы. Связывание ментальных
конструктов в общей ткани текстовой и гипертекстовой реальности,
установление опосредованных связей между элементами и есть главная
333
методологическая функция метафоризации. В этом аспекте основной целью
распредмечивания смыслов и понимания в целом является включение в
суперструктуру уже существующих когнитивных единиц новых квантов.
Процесс метафоризации направлен прежде всего не на сам объект объективной
реальности, не на феномен в рефлективной деятельности, а на способ его
вербализации.
Связывание
имеющихся
и
новых
элементов
внутри
целостной
суперструктуры смысла предполагает наличие механизмов ассоциативного
достраивания и расширения фактов когнитивной реальности. Акт творения и
акт метафоризации в данном случае представляются тождественными.
Репрезентируя диалогическую форму вербализации содержания, метафора не
только продуцирует неузуальные дуальные смыслы, но и переосмысливает
ассоциативные связи и распределение узуальных элементов в ядре смысловой
суперструктуры. Она же указывает на непонимание и формирует понимание,
выстраивает полилог между продуцентом – текстом – реципиентом, именно эта
полилогичность реализуется в процессе метафоризации.
Таким образом, смысл не дан нам изначально: он является динамичным
явлением, возникающим при каждом порождении и рецепции текста,
феноменом, благодаря которому индивид перестраивает воспринимаемый им
мир объективной реальности. Единственной формой наличия и существования
смысла является его порождение и перерождение. Смыслотворчество как одна
из ключевых трансформаций смыслопорождения соотносимо не только с
интенцией продуцента философского дискурса, но, что кажется не менее
важным, определяет декодирование и распредмечивание смыслов в текстовой
реальности.
Выводы по пятой главе
Анализ основных трансформаций суперструктуры смысла и их видов
позволяют заключить следующее:
1.
Огромный
провал
между
интуитивно
осознаваемым
и
вербализованным в философском тексте является тем самым непониманием, на
334
котором
основывается
мысль
–
это
главнейший
фактор
развития
феноменологической рефлексии. При этом в становлении многоуровневости
смысла
неизбежна
многозначность
языковых
единиц:
выбор
продуцентом/реципиентом того или иного способа вербализации и есть то, что
приводит
к
отказу
от
объективности
порождаемого/декодируемого,
универсальности порождённого, это даёт нам личностность, индивидуальность
актов смыслопорождения и смыслодекодирования. Основной субъективной
составляющей смыслопорождения и условием наличия самого смысла является
модальность продуцента текста, его интенции, иногда даже неосознанные,
интуитивные, а для возможности смыслодекодирования кроме этого условия
должна действовать ещё и модальность реципиента текста, что ещё более
усложняет иерархическую структуру смысла. Модальность – это то, что даёт
возможность содержанию текста прирасти ситуацией, главным в порождении
смысла, иначе содержание не работает в мире. Ситуативность есть лишь
наличие некой сущности, внутри которой неким образом структурированы
связи, и именно восстановление этих связей и есть рождение смысла, вне
зависимости от направления движения. Она в тексте даётся в виде образа,
реконструкция смысла же есть рефлективно переживаемый образ, субъективно
переживаемая форма.
2.
При восприятии/о-сознании ноэмы как кванта смысла она имеет
возможность перевыражаться в мыслительной рефлективной деятельности
продуцента/реципиента текста и служить уже в качестве продуктивной модели.
Она занимает своё место в иерархической структуре как модификатор,
катализатор, изменяющий иерархическую структуру целиком, даже если была
порождена
окказионально,
и
интуитивно
окказионально
декодирована.
Аспекты новизны мыслительного содержания, характеристики новума и
творимости
присущи
суперструктуру.
всякому
Содержательно
смыслу,
новые
если
рассматривать
мысли
его
контрастируют
как
с
общепринятыми суждениями, и это противоречие выражается автором в
парадоксальной форме. В ситуации метаабстракции, когда возможно подняться
335
над реальностью дискурса, и освободится от оков языка, формируются
металогичные суперструктуры интенциально релевантных ноэм по новым
деривационным моделям. Здесь металогические формы парадоксального
свойства и находят свое применение. Следует различать два вида парадокса:
парадокс антиномических мыслительных содержаний и парадокс неожиданных
формулируемых мыслительных содержаний, которые, однако, не обязательно
имеют дело с вербализацией в новых деривационных моделях, а могут быть
выражены узуально.
Смысл не дан нам изначально, а является динамичным явлением,
3.
возникающим при каждом порождении и рецепции текста на основе новых
деривационных моделей трансформации суперструктуры смысла.
Выделяются
следующие
трансформации,
которые
претерпевает
суперконструкт в результате актуализации тех или иных потенций в узловых
точках своей структуры:
1. Приписывание актуализированных квантов смысла тем или иным
элементам системы, в нашем случае, квантам суперструктуры. Нормы актов
интендирования играют в данном процессе важную роль и обусловлены
константой ситуативности и темпоральности.
2.
Распредмечивание
граней
смыслов,
приписанных
объектам
мыследеятельности и постигаемых нами. Данная трансформация, как правило,
базируется на константе фоновых знаний.
3. Повторное распредмечивание смысловых структур в соответствии с
концептуально-валерной
системой
продуцента/реципиента;
данный
вид
трансформации имеет в своей основе константу модальности.
4. Порождение или актуализация квантов смысла собственных актов
мышления.
Посредством
распредмечивание
данной
трансформации
продуцентом/реципиентом
осуществляется
существующих
элементов
смысловой структуры и, тем самым, опредмечивание субъективных актов
феноменологической
рефлексии,
сюда
в
первую
очередь
относится
возможность порождения кванторов личностной периферийной зоны, их
336
интерпретация и актуализация их нового In-sein (Бытие-в), перераспределение
периферийных ноэм и их актуализация в ядерной структуре.
5. Определение валерности узловых квантов, т.е. определение места
элемента структуры в акте порождения личностного смысла, связывается с
константой субъективности.
6.
Дифракция/переразложение
существующих
узлов
структуры
и
наоборот, чередование возможностей интерпретации элементов структуры
базируется на операциях с ядерными структурами в корневых морфемах и
аффиксах.
7. Создание или мутация отношений объекта мыследеятельности с
актуализируемыми элементами структуры на основании первоначального,
иногда этимологического перераспределения акцентов в суперконструкте;
повторная, но не вторичная, номинация нового феномена на основе изменения
системы координат или точки отсчета, определяется парадигмальным
смещением в функциональности и прагматической адаптацией вербализации.
8. Модификация/уточнение отношения актуализируемых квантов к
ситуации при неудачах в коммуникативном акте, исправление в результате
феноменологической рефлексии.
9. Актуализация или деактуализация позиций и контрапозиций внутри
самой структуры ноэм-доминант, ноэм-культурных основ и периферийных
ноэм.
10. Амфиболия смысла представляет собой наложение, предполагающее
неоднозначное многомерное толкование (изначально заложенное). Это могут
быть родственные или же практически тождественные кванты в узлах ноэмдоминант,
полностью
разные
или
даже
противоположные
кванты
в
разноуровневых полях структуры.
11.
Повышение
концептуально
акцентуальной
мощности
квантов
структуры (прежде всего, это касается эмоционально-оценочных обертонов
структуры)
посредством
периферийных ноэм.
актуализации
дополнительных,
сопутствующих
337
12. Интерференция соположенных по валерности двух или нескольких
ноэм
или
узлов
ноэм,
что
приводит
к
полевым
сдвигам
внутри
суперконструкта.
13. Нивелировка кванторов валерности общей структуры смысла для
продуцента или реципиента как результат деструкции и нивелировки
отношений
в
суперконструкте
как
прием
для
воспроизведения
непосредственной ментальной работы безотносительно феноменологической
рефлексии, построенный лишь на рефлексии ноэматической, интуитивном
«осознании» переживаний, феноменов, ассоциаций, пытающийся увязать все
вышеперечисленное в едином недифференцированном клубке, позволяющий
читать мир как гипертекст, строящийся на базе не только многомерности
смыслов, но и нелинейности их построения и оборванности синтаксиса.
14. Смысловой катарсис – «очищение» концептуально-валерного поля –
возможен при полном разрешении противоречий внутри суперконструкта, что
обеспечивает наличие чистого непротиворечивого смысла, который будет
имманентно содержать в себе все возможности его понимания и схемы
действования по выстраиванию верных техник интендирования. Такой смысл
будет всегда един и целостен, и в то же время всеобъемлющ – понятен каждому
реципиенту.
4.
Трансформация смыслового конструкта – это тот феномен,
благодаря которому мы перестраиваем воспринимаемый нами мир объективной
реальности. Единственной формой наличия и существования смысла (как
отдельных лексем, так и целого текста) является его порождение и
перерождение.
338
Глава VI. Метасмыслы в порождении и декодировании.
Глагольные и субстантивные метасмыслы
6.1. Метаединицы декодирования
Со всей очевидностью понимание философского текста является
процессом
активизации
чуждых
смыслов
в
сознании
интерпретатора,
читающий должен пройти тот же самый путь по порождению смысла текста,
что и продуцент (порождение новых окказиональных образований, порождение
новых деривационных моделей, порождение новых синтаксических моделей и
моделей построения целостного текста). Понимание как предмет герменевтики
объединяет понимание смыслов и готовность преодолевать непонимание. Для
Ф. Э. Д. Шлейермахера «мысли» – это фактически смыслы, созданные
конкретными людьми и запечатленные в любом материале [Schleiermacher,
1959: 151]. Смыслы как субстанциальная система понимания рассматриваются
Э. Гуссерлем. Изучение смыслов в их системности – это, по Гуссерлю, наука
такой же общественной значимости, как изучение всей природы, «как бы
непривычно это ни звучало» [Laurer 1965: 112].
Смыслы же как системы образуются единственным образом, посредством
появления ноэм как наиболее дробных идеальных образований. В этих
системах осуществляется внутренняя согласованность устойчивого ядра
смысла [Tragesser 1977]. Ноэмы как мельчайшие структурные единицы смысла
возникают благодаря интенциальности человеческого сознания.
Особенно важно, что ноэма – это мельчайшая единица с функцией
установления связи и отношений между элементами коммуникативной и
деятельностной ситуации, которая необходима для смыслообразования. Она в
этом смысле близка функционально к семе как мельчайшей единице значения.
Ноэма – это монада идеального. Ноэмы неделимы; они не образуют сети
причинных отношений. Если понимание состоит из восприятия ноэм как
результатов обращения рефлексии на элементы реальности, то интерпретатор
должен обладать внутренне ему присущей, изначально данной (очевидно
данной ему самой лингвокультурой, в которой он существует), определенной,
339
иерархически
упорядоченной
системой
ноэм.
Субстанция
понимания
философского дискурса дана не как «материальное знание», а как рефлексивная
готовность, т.е. готовность задействовать свои фоновые знания и «языковое
чутье», создавая ноэмы, дающие возможность построить разнообразные
окказиональные конструкции, приспособленные к пограничным, нетипичным
ситуациям.
Ноэмы выступают в мыследеятельности как абстрактные объекты,
выполняющие
интерпретатор
роль
чувственно
декодирует
смысл
воспринимаемых
философского
объектов.
текста,
Когда
задействуются
многочисленные ноэмы – мельчайшие составляющие смысла.
Для
понимания
философского
дискурса,
а
соответственно,
и
реконструкции ноэм, интерпретатор должен иметь непосредственный опыт
подобной
деятельности.
И
опыт
мыследействования,
и
опыт
коммуницирования, и опыт оперирования невербальными парадигмами,
включающими конструкты новых деривационных моделей и образования
окказиональных единиц, – все эти типы опыта есть условия ноэзиса, идущего
по указанному руслу. Нет никакого экспериментального и «объективного»
способа пересчитать ноэмы, возникающие при интенциональном обращении к
рефлексии, установить систему смыслов. Смыслы в любой иерархической
парадигме не стоят на месте, подобно объективной реальности, а постоянно
«текут», они не подвержены экспериментальному исследованию. У них нет
объективной природы, но есть сущность, которую можно описать в
метавыражениях. Исчисление смыслов является в XXI в. делом филологии,
поскольку
только
филология
интересуется
хотя
бы
средствами,
опредмечивающими смыслы.
Смыслы, опредмеченные в философских текстах, очень разнообразны,
они не сводятся к смыслам как таковым: бывают менее осмысленные ссылки
или примеры ситуаций (как при описании и объяснении Л. Витгенштейном
природы игры) лишь с началом смысла. Сущностный смысл дается много
позже по тексту, а до этого идет растягивание частных смыслов: хотя
340
сущностный смысл и есть метасмысл, получающийся при растягивании
частных смыслов.
Названными
типами
не
ограничивается
типология
смыслов,
опредмеченных в тексте. Смысл может показывать способ освоения мира в тот
или иной момент философской мыследеятельности. Смысл может выступать и
в
облике
пробужденного
знания,
в
том
числе
нового.
Иногда
организованностью рефлексии оказывается откровение, застывающее в виде
все того же знания.
Смысловая, ноэматическая система асимметрична по отношению к
системе текстовых средств, а техника декодирования может быть не
универсальной: каждый философский текст приходится «понимать целиком» в
такой же мере, как его приходится «понимать в процессе понимания»,
понимать и декодировать смыслы в конкретно данной иерархически
упорядоченной системе. Порождение смыслов постоянно, и «понимание – это
акт не только интеллекта, но и всего человеческого духа, взятого в целом»
[Алексеев 1986: 74]. В данном положении содержится критика представления
Э. Гуссерля о том, что сознание есть единственное «поле придавания смысла»:
задействованы все готовности человека, и все готовности участвуют в
смыслообразовании.
Смыслы в текстовых предметных образцах и смыслы, представленные
«по Гуссерлю», т.е. вне текста, – это очень разные элементы субстанции.
Смысл в канве философского текста не «поставлен извне», а существует в
зависимости от отношений в текстовой ситуации и представлений конкретного
философа, в парадигме его смыслов, и еще больше в парадигме смыслов
интерпретатора в каждом конкретном случае. Эти отношения зависят и от
отношений в других текстах данного автора: понять М. Хайдеггера, не имея
никакого представления о Л. Витгенштейне и других экзистенциалистских
текстах, весьма затруднительно. Ни один смысл или метасмысл не имеет
уникального бытия вне сети отношений и влияний, в которой он оказался.
Смысл невозможно «извлечь из текста», при этом не изменив его [Derrida 1973:
341
104]. Ж. Деррида отмечает, что смыслы могут получать «пришедшие сбоку»
содержательные корреляты под влиянием рефлексии над неосознаваемой,
«интуитивной
частью»
восприятия
и
интерпретации
философского
высказывания и внутренних схем интерпретатора. Схематизмы как основа
трансцендирования смыслов в метасмыслы, которые способны превращаться в
динамические схемы действования при понимании, в регуляторы дальнейшего
действования субъекта, и выступать в качестве в регуляторов дальнейшего
действования субъекта, оказываются не в состоянии преодолеть сложную
ситуацию, в которой в философском тексте представлена смесь из смыслов
категоризуемых и некатегоризуемых. В сущности, эти схемы действования и
являются источником всех метаединиц.
Число форм и смыслов в тексте, особенно философском, практически
бесконечно. Для облегчения работы распредмечивания как философ, так и
интерпретатор прибегают к имитационно-творческим динамическим схемам
действования при понимании. Представим единицы этих схем (классификация
единиц дана по Г. И. Богину):
1. Метасредства,
т.е.
средства
совокупного
усмотрения,
знания,
запоминания, описания, суждения.
2. Метасмыслы, т.е. «знания о» совокупно усматриваемых частных
смыслах, наращиваемых и/или растягиваемых в процессе рецепции
форм, опредмечивающих эти смыслы при продукции текста и
становящихся феноменом, над которым рефлексирует интерпретатор
в
ходе
декодирования.
Наличие
метасмыслов
превращает
декодирование сходных форм в имитационный процесс.
3. Метасвязи, т.е. связи, возникающие в процессе рефлексии над
метасредствами и метасмыслами.
4. Задания и самозадания, возникающие до или в ходе процесса
понимания.
342
5. Категоризованные значащие переживания, измененное отношение к
жизни, к миру, к среде, возникающее по ходу интерпретации текста
[Богин 1989].
Метаединицы, действующие в философском тексте и релевантные для
декодирования, одновременно выполняют общеязыковедческую функцию
описания и функцию единицы действования с текстом. Метаединицы
существенны только для декодирующего понимания. Наличие метаединиц –
одно из звеньев задействования мыследействования при декодировании и
понимании, они репрезентируют не явления текста, а взаимодействие
интерпретатора с текстом. Метаединицы – это единицы, частные смыслы и
средства – это элементы, что особенно заметно при переводе с языка на язык:
частные
смыслы
и
средства
исчезают,
метаединицы
сохраняются
и
обеспечивают международное, межнациональное понимание. При переводе
философского текста, очевидно, стоит большее внимание обращать на передачу
метасмыслов, а не конкретных языковых или даже внутритекстовых значений
(именно
такой
перевод
будет
адекватно
передавать
всю
структуру
философского текста).
Смыслы в реальном исполнении не обладают стерильной чистотой и
несмешанностью, что и дает философским текстам свойство быть живыми.
Субстанция самого текста, субстанция фоновых знаний и представлений
интерпретатора и субстанция декодирования как таковая составляют три
основных требования к адекватному построению и реконструкции смыслов и
воссозданию целостного философского текста в сознании интерпретатора.
Готовность понимания не базируется на абсолютности границ каждого смысла
и метасмысла, и ни в коем случае не на единообразности и универсальности
моделей понимания.
Действительная ценность всего процесса декодирования и интерпретации
философского дискурса реализуется при фиксации рефлексии над опытом
смысло-
и
формообразования
одновременно
во
всех
трех
поясах
системомыследеятельности: философская идея – и её категоризация, синтез
343
всех рефлексий в рамках иерархической структуры ноэм, попытки при
интерпретации вновь по-своему выразить пограничные окказиональные
понятия, если этот путь доступен интерпретатору. Все это в совокупности ведет
к истинному пониманию.
6.2. Динамические схемы действования и многомерный смысл
Смыслопорождение в любом типе текста есть реализация опыта
продуцента вербальными средствами с целью опредмечивания смыслов для
передачи реципиенту. Опыт же, наличествующий в рефлективной реальности,
дуален по своей сути: он и индивидуален, и коллективен: осознание и
построение смысла с определенными характеристиками одним продуцентом
может
найти
применение
концептуализироваться,
в
смыслопостроении
терминизироваться
и
другого
т.п.
продуцента,
Это
является
интерсубъективностью процессов смыслопорождения.
При производстве нового неузуального многомерного смысла продуцент
учитывает или же делает такую попытку учесть возможности дальнейшего
развертывания граней воспринимаемого смысла или тип понимания текста
реципиентом. В большинстве своем продуцент философского текста осознанно
или неосознанно опирается на феноменологическую рефлексию как основу
именно герменевтического понимания у реципиента, т.е. возможности текста не
снижаются до уровня массового реципиента, но, наоборот, текст возвышает
степень сформированности рефлексивных навыков реципиента. Постулат об
интенциальном
усмотрении
реальных
обстоятельств
функционирования
смыслов при их распредмечивании не может не учитываться продуцентом,
адаптация
происходит
посредством
определенных
метасредств,
иногда
продуцент как бы программирует процессы понимания, в других случаях не по
внутреннему содержанию в качестве базы когнитивного процесса, а по
программированию осознания смысловых конструкций. Однако адаптация и
актуализация в метасредствах определенного типа понимания, находящиеся
под влиянием констант субъективности и модальности продуцента, не всегда
соответствуют реальному положению дел в объективной рецепции текста.
344
Адаптационные
выстраивают
возможности
определенные
продуцента
«схемы
при
смыслопорождении
действования»,
раскрываемые
впоследствии реципиентом, однако прогнозирование, заложенное в них, не
может дать полного герменевтического понимания при непосредственном
усвоении их реципиентом. Конкретная схема предоставляет возможность
осмысления определенной грани или элементарного опредмеченного смысла;
без рефлексии над самими «схемами действования», усмотрения в них
метаединиц
и
элементов
построения
метаединиц,
на
уровень
герменевтического понимания выйти невозможно. Нельзя переоценивать и
слепо следовать категоризующим схемам в распредмечивании смысла текста,
ведь многомерная реальность, бытующая в тексте на четырех уровнях
хронотопа,
настолько
многогранна
и
широка,
что
предусмотренные
продуцентом общие «схемы действования» не ведут к автоматическому
усмотрению всех граней смысла.
Построение на основе метаединиц общих схем играет роль ограничения в
понимании, это барьеры для реципиента, определяющие сферу бытования
смыслов той или иной областью, иначе процесс развертывания многомерного
смысла и выстраивания все новых и новых рефлексивных актов превратится в
бесконечно расширяющуюся вселенную. Но восприятие тех или иных
системных элементов, актуализированных в тексте, объективно необходимо,
так, ценитель искусства воспринимает только отдельные элементы картины
[Дадамян, Дондурей 1979: 51]. Структурные мельчайшие элементы смысла,
релевантные для осознания грани в данной конкретной ситуации семиозиса
воспринимаются и подвергаются категоризации, формируя узловые элементы –
метаединицы,
действования».
которые,
в
Данный
свою
набор
очередь,
составляют
категориальных
общие
признаков
«схемы
является
ограниченным на фоне неограниченного набора смыслов, ограничен набор
актуализированных ноэм, в отличие от возможного их количества, но и это не
может гарантировать
решения проблемы абсолютизации субъективного
понимания. Универсализация «схем действования» и огульное применение их к
345
производству и пониманию многомерного смысла в первом случае дает новую
деривационную модель, а во втором зачастую неадекватные результаты,
укоренение привычки в процессе смыслопорождения являет собой смерть
рефлексии, а значит, закостенение в когнитивной сфере.
Рассмотрим,
например,
ход
порождения
высказывания
в
узусе,
довлеющем как определенная «схема действования», и нетривиальное
использование схем предикации в философском дискурсе. При этом мы
сталкиваемся с проблемой того, насколько субъектно-предикатная структура
высказывания индоевропейского предложения соответствует определенному
типу семантического мышления, насколько узки или широки границы
мышления, устанавливаемые языковой предикацией данного рода. На примере
пассажа М. Хайдеггера об идентичности ясно видно, каким образом помыслимое в состоянии описать явление само по себе. Как же происходит, что
стремление опредметить феномен как сущность вызывает определенные
изменения не только в выборе и образовании лексем с новым неузуальным
смыслом на и в синтаксической структуре предложения? Для того чтобы
говорить
о
репрезентации
феномена,
вербализации
смыслового
суперконструкта, противопоставить его простой номинации, отражению
объективной реальности, в этой ситуации важно прояснить структурные
элементы, категоризовать их на луче феноменологической рефлексии в
определенные метаединицы и выстроить общую структурную схему операций
(алгоритм порождения смысла), а затем опосредованно представить его. Здесь
речь
идёт,
скорее,
о
структуре
высказывания,
о
высказывании
действительности и об афотическом als, о чём говорит Хайдеггер в своей
работе «Vom Wesen des Grundes». Это Als- и Ist-Sage является одним и тем же.
В основе каждого повествовательного предложения лежит ist. Йоханес
Луманн попытался исследовать различные языки и типы языков именно в этой
связи и попытался установить, насколько велика разница между субъектом и
предикатом, которая и обусловливает это ist, выражаемое в формальных
отношениях. Различную градацию ясности этой разницы от легко замечаемых
346
метасвязей в западноевропейских языках до их сокрытия Луманн показал в
своих работах.
Уже по этим фактам Вальтер Брёкер мог утверждать, что Хайдеггер не
опирается на действительность высказывания и западную логику, чего и можно
было ожидать, рассматривая его работы. Логика занимается общими
структурами предложения, когда Брёкер пишет das Als ist das Urlogische (Als
есть нечто дологическое), он стоит на позициях общей идеальной логики
Гуссерля, которая в этой форме уже основывается на результатах языкознания.
Именно желание логики наивно абстрагироваться от структуры греческого
повествовательного предложения и, так сказать, дистиллировать некие понятия
о действительности хотел показать Хайдеггер посредством указания на
разнообразность Als с одной стороны и теоретическим подходом к явлениям с
другой.
Здесь, мы думаем, следует возразить Брёкеру: Die Logische Struktur S ist P
ist dieselbe, mag es ein Ding sein oder ein Zeug, und mag P eine Eigenschaft sein
oder eine Bewandtnis. Und das Als (das ‘ist’) hat in beiden Fällen dieselbe Funktion
der Subsumtion des Gegenstandes unter den Begriff. – Логическая структура
формулы «S есть P» является тождественной вне зависимости от того, о
чем идет речь, о предмете или явлении, и является ли Р свойством или
условием. Да и Als в обоих случаях несет функцию субсумации (подчинения)
предметности понятийности. Суть Umsicht и besorgenden Umgangs в
подобном же высказывании в «Бытии и Времени» уже разбавляется
посредством того, что Брёкер снова выходит за пределы повествовательного
предложения и позже анализирует его в формальной логике, в то время как
Dasein этого высказывания у Хайдеггера даже не описано в общих чертах и не
представляет общей «схемы действования». Позже становится ясным, что
Хайдеггер поддерживает формально-логическую позицию в том, что вопрос о
ist является вопросом о форме действительности, типе рефлексивного
взаимодействия
с
миром,
опредмечивании смысла.
которая
затем
полностью
раскрывается
в
347
Это ясно проявляется на примере различных языковых признаков.
Хайдеггеровское нежелание строить определение, использование различных
образных выражений, его обращение к словам, называющим вещи в себе, его
использование
глаголов
группы
wesen,
walten,
währen,
репрезентация
категориальных признаков когнитивной деятельности в форме вопросов и
отрицаний – всё это пути, которые позволяют избежать нормальной
предикации с её внутренними особенностями, прогнозирующими узуальное
понимание на последующих этапах восприятия текста.
В Хайдеггеровских предложениях, содержащих figura etymologica, она
позволяет производить номинацию некоего феномена именно с учетом
динамики
метаединиц
и
неустойчивости
«схем
действования»
без
использования Ist-предикации. Таким образом, подобное узуальное средство
построения высказывания не является единственно возможной формой
вербализации
утверждения
о
фактах
действительности.
Безусловно,
неподготовленному реципиенту кажется, что для немецкого языка это наиболее
приемлемая форма для подобного способа выражения в сравнении с другими
возможностями языка. Основываясь на этих фактах, можно понять дальнейшее
предпочтение Хайдеггером поэтики над тривиальным языком философии.
Именно в способности поэтического творчества к номинации определенного
феномена можно найти адекватную возможность выражать многомерные
смыслы. Сложность вербализации сложных структур коренится именно в
языке, а не в ограниченности по-мысливаемого, вопрос заключается в том,
могут ли средства языка дать нам возможность строить многомерные смыслы
или же он призван порождать лишь метафизические или онто-теологические
высказывания. Неумолимое влияние языковой нормы, с одной стороны,
стоящей на службе смыслопорождения, а с другой – ограничивающей наши
возможности в опредмечивании многомерного смысла, проявляется в каждой
схематизации, категоризации и т.д. А потому возможности смыслопорождения
на основе герменевтического подхода все более присущи философскому тексту.
Именно
«герменевтическое»
по
своей
сути
мышление,
в
частности,
348
иероглифических лингвокультур облегчает разъяснение и схематизацию
отдельных квантов смысла в той или иной единице. В своей работе
«Предельные понятия в Западной и Восточной лингвокультурах» Т. Н. Снитко
приходит к выводу о том, что все особенности японской лингвокультуры
(отсутствие инфинитива, а следовательно, и способа передачи абстрактной
идеи, неопределенной ситуации, отношения и т.д.; отсутствие продуктивного
способа образования абстрактных имен от глагола и от прилагательных)
объясняются ее устройством по типу Понимания [Снитко 1999: 156].
«Мышление» такой культуры есть «Понимание», а задачей культуры
Понимания является прежде всего выработка средств понимания, а не
абстрактных понятий, как это наблюдается в «познающем мышлении»
Западной лингвокультуры. В качестве средств Понимания, благодаря их
особым семантическим потенциям, в восточной лингвокультуре выступают
иероглифы. Подобный подход нами воспринимается как чистая герменевтика.
Но он противоречит западной лингвокультуре «познающего мышления» – по
сути, когнитивистике с её ориентацией на когнитивные структуры. Самым
интересным является то, что герменевтика и её методологический материал не
были созданы в восточной лингвокультуре (понимающее мышление о
понимании – это для Востока нонсенс). В западной мысли созданы и разделены
когнитивистика и герменевтика.
Альбрехт Фабри добавил несколько довольно ярких афоризмов к уже
известной фразе: A rose is a rose, is a rose, is a rose, is a rose… Давайте
попробуем рассмотреть этот пример: Ist die Rose in diesem Vers der Gertrude
Stein aber nicht schöner, als wenn man sie schön nennt? Sofern etwas verstehen,
etwas als etwas anders verstehen heißt, heißt die Rose als Rose verstehen, sie eben
nicht verstehen. Und das leistet die Tautologie als die emphatische Weigerung, zu
definieren. In der Definition geht das Definierte unter; Definition ist immer ein wenig
Synonym von Mord [Fabri 1958: 76]. – Не кажется ли роза в данной строфе
Гертруды Штайн более прекрасной, если её просто назвать прекрасной? До
тех пор, пока понимание чего-либо будет процессом понимания этого как чего-
349
то еще (определение одного через определение другого), то понимание
феномена РОЗА как розы будет, по сути, непониманием. И это позволит
определить тавтологию лишь как эмфатический повтор. В определении
определяемое нивелируется, дефиниция всегда есть синоним смерти. Встает
вопрос: а смерти чего? Очевидно, определение и привязывание к строгим
незыблемым
схемам
(т.е.
фреймам)
есть
смерть
рефлексии
феноменологической, это конец герменевтического понимания и порождения.
При истинном смыслопорождении как оперировании определенным
набором трансформаций суперструктуры смысла необходимы метасвязи –
переходы
от
одной
грани
смысла
к
другой,
дающие
возможность
всеобъемлющего восприятия. А это есть процедуры рефлективных актов –
обращение к той или иной зоне рефлективной реальности, что рождает
определенную систему порождения в отличие от абсолютизации субъективного
понимания и универсализации одной из схем, рассматривающих одну грань. А
для этого продуценту нужно разграничивать отдельные элементы в структуре
метаединиц, прогнозировать структуру производимой схемы, понимать грани
смысла и актуализировать скрытые потенции, это вынужденный схематизм
действования. Динамические схемы порождения, структурированные из
метаединиц и соотносимые с элементарными смыслами, являются результатом
объединения и органичного синтеза этих элементов в единое целое. Подобные
динамические «схемы действования» при порождении смысла являются
главной страховкой от ситуации, когда реципиент «принимает одно из
имеющихся системных представлений объекта за исходное и уже одним этим
закрывает себе дорогу к выяснению действительной системы объекта»
[Щедровицкий 1984: 93].
Структурирование
самого
процесса
смыслопорождения
есть
его
объективация продуцентом. По замечанию Г. П. Щедровицкого, «структура
объекта должна быть каким-то образом представлена в изображении еще до
того, как мы начнем работу по перестройке и синтезу имеющихся знаний»
[Щедровицкий 1984: 89–90]. Направленность порождающей смысл рефлексии
350
является определяющей доминантой, каждая метаединица есть символ всего
понимаемого объекта, а значит, способ построения меаединицы определяется
типом организации рефлексии, каждый конкретный рефлективный акт
репрезентирует феномен, стоящий в определенном отношении к по-нимаемому
объекту, к объективно данному общему смыслу. В подобной ситуации
необходимо четко представлять количество рапредмечиваемых граней смысла
как продукта мыследеятельности, не тождественного объекту реальности.
Целесообразным
является
разграничение
и
осознание,
а
значит,
и
интенциальное употребление следующих актов в процессе смыслопорождения:
1)
определение сферы рефлективной деятельности для каждого из
актов опредмечивания смысла в процессах порождения и понимания
(семантизирующего, когнитивного, распредмечивающего);
2)
в результате какого типа рефлексии происходит обращение к опыту
в рефлексивной реальности;
3)
определение ценности рефлективной деятельности для самого
продуцента/реципиента текста.
Не только при герменевтическом, но при семантизирующем понимании
узловых
элементов
стимулирующие
суперконструкта
феноменологическую
смысла
возникают
рефлексию
преграды,
(узнавание
актуализированных ноэм в конкретной ситуации семиозиса). В сфере
когнитивного понимания происходит уже обращение к конкретной области
рефлективной реальности. Хьюз приводит в своей работе следующие стратегии
когнитивного понимания: предикативное понимание – понимание на уровне
прогнозирования развития текстовой реальности); ретроспективное понимание
(понимание объекта); «улавливающее» понимание (понимание главной идеи
текста); конструктивное понимание (преодоление преград в понимании);
инференциальное понимание (понимание для собственного производства)
[Hughes 1974].
Данная классификация стратегий распредмечивания и вербализации
смыслов построена на основе критерия «реализация роли реципиента», которая
351
и будет являться центральным схемообразующим элементом. Принимая за
основу другую метаединицу, можно разработать иную классификацию, однако,
как мы уже упоминали, универсализация той или иной метаединицы как
«схемы действования» приводит к абсолютизации определенной схемы в
порождении и сужает границы порождения. Избежать этого опять-таки
помогает задействование всех типов рефлексии, фиксируемой во всех поясах
мыследеятельности.
В
качестве
примера
можно
привести
образцы
развертывания
многомерного смысла в герменевтическом круге. Переход от одного
антиномичного члена в высказывании к другому, наряду с герменевтическим
кругом, представляет возможность порождения многомерного смысла на
третьем уровне абстракции, создавая «схему действования» с главным
элементом «осознание на новом витке тема-рематического развертывания».
Хайдеггер рассматривает языковые единства в подобном метасредстве в связи с
объяснением
металогического
способа
выражения.
,
, ,
(бессмертное смертно, – мертва). – Sicherlich, wenn wir’s recht ermessen, sehen
wir ein, daß Vernichtung nichts anders als Erzeugung und Erzeugung nichts als
anders als Vernichtung ist. Liebe ist letztlich ein Haßen, Haß ein Lieben.
Элементами в метасредстве как универсальной методике узнавания,
описания
средств
опредмечивания
текстовых
содержаний
являются
антиномическое противоречие и герменевтический круг, лежащий в основе
высказывания. Лайзеганг не различал эти два момента со всей строгостью. Так
как противоречия проявляются одно в другом,
то их единство может
рассматриваться как с позиций одного, так и другого члена. Таким образом,
появляется метасмысл круговой направленности, в котором возможно
одновременное рассмотрение противоречащих друг другу элементов без их
внутреннего
объединения.
Они
поддерживаются
имитационным
использованием феноменологической рефлексии со стороны реципиента, таким
образом, элементарный смысл «оппозиция элементов» – это момент,
352
сопутствующий единице «круга», что Лайзеганг принимает за мистическую
языковую форму и описывает так: Die typische Form mystischer Rede stellt einen
Kreislauf des Gedankens dar, der von einem Begriff ausgeht, andere anschließt und
zum Ausgangsbegriff zurückkehrt. Для Лайзеганга в данном случае недоступно
общее содержание высказывания, в связи с абсолютизацией формы; но полное
понимание будет недоступно и без фиксации рефлексии над коммуникативной
действительностью,
т.е.
без
учета
констант
интенциональности,
субъективности, модальности и т.д. Без рефлексии над вертикальным
контекстом экзистенциалистских текстов невозможно определить истинное
значение
Dasein
как
онто-онтического
экзистенциалистского
описания
отношений человека с действительностью.
Особая структурная часть метаединиц дает возможность осознания
объектов в структуре смысла, которые встраиваются в поясе чистого мышления
вне вербализации, в данном случае в качестве примера может служить
критерий «истинности/ложности» сообщения. В данном случае метаединицы
«схем действования» выступают в когнитивно-валерном поле продуцента как
детерминанты ценности. Мы наблюдаем категориальную оценку «усмотрения
истинности/ложности» без эмоциональной оценки, но выступающую как
метасредство «единства», «ограниченности», «повторяемости» зависящее от
формы текстовой репрезентации. Но данные метасредства уже фиксируются в
поясе мысли-коммуникации.
В процессе переразложения и порождения нового многомерного смысла
происходит осознание по мере усмотрения все новых и новых граней
структуры, выстраивающих объект понимания и повторного опредмечивания
смысла, на каждом новом витке герменевтического понимания выступают все
новые
метаединицы,
развертывая
динамические
«схемы
действования»
продуцента по производству высказывания.
6.3. Метаструктуры схем действования в герменевтическом акте
По мысли Г. И. Богина, термин «схемы понимания» не в полной мере
отражает суть структурных моделей герменевтических актов, которые
353
являются действиями в процессе развертывания рецепции текста, по сути, эти
рефлексивные
структуры
обладают
процессуальностью,
а
не
результативностью, именно фиксация рефлексии в определенном поясе
системомыследеятельности дает ключ к пониманию и построению на основе
элементов
смысло-
структурирующих
и
текстопостроения
«схемы
категоризованных
действования».
Множество
метаединиц,
иерархически
структурированных актов, одним из которых является понимание, включаются
в данный процесс. Подробное рассмотрение и правильное освоение техник
интендирования, которые существенно улучшают и рационализируют действия
реципиента по восприятию и интерпретации глубинных структур текста,
является чрезвычайно актуальным в современной герменевтике [Богин 1989].
Герменевтический акт понимания смысла, в частности многомерного
смысла философского дискурса, является иерархически структурированным
сложным процессом, в котором, однако, не может быть устоявшихся,
закрепленных «схем действования». Многомерный смысл текста не является
онтологической бытийной конструкцией, он репрезентируется в динамике,
разворачивается в «схемах действования», возникающих в каждом порождении
и каждой рецепции текста. Но текста осмысленного, порождаемого и
понимаемого на уровне феноменологической рефлексии. По замечанию О. А.
Алимурадова и Н. В. Григорьевой, сами критерии осмысленности текста
позволяют
исследователю
рассматривать
возможности
восприятия,
декодирования и понимания/о-сознания смысла в абсолютно новом ключе,
однако
для
легитимации
применимости
герменевтического
понимания
необходимо наличие некоего ограниченного перечня условий: «1) совпадения
целей коммуникации участников коммуникации, 2) взаимосвязи всех элементов
высказывания, 3) связности и цельности на всех уровнях высказывания, 4)
соответствия
языковым
нормам,
5)
смысловой
завершенности,
и
6)
соответствия языковой ситуации общения» [Алимурадов, Григорьева 2009: 35–
36].
354
В наших работах мы часто обращались к некоторым условным, простым
единицам смыслопорождения и декодирования смысла, однако сам смысл
неоднократно был описан как иерархическая суперструктура, т.е. единицы,
входящие в неё, сами могут быть организованы в некие узловые структуры.
Собственно, элементарные единицы смыслопорождения – грани смысла,
элементарные значения, общие содержания, – находясь в иерархических
структурных отношениях и подвергаясь категоризации, порождают единицы
более высокого порядка – метаединицы. Метасмыслы являются структурными
компонентами «схем действования» в процессе герменевтического понимания,
они являются в этом отношении маркерами прогнозирования развития смысла,
своего рода моделью дальнейшего действия реципиента в понимании текста.
Практически неисчислимое количество граней смысла в философском
тексте невозможно воспринимать единовременно, а потому постоянное,
каждый раз новое распредмечивание смысла является нецелесообразным для
продуцента/реципиента, ускорить работу по декодированию смысла и
«осознанию» его помогают «схемы действования», основными узловыми
единицами которых и являются метасмыслы, метасредства, метасвязи,
прогностические стратегии, трансформации онтологической картины.
1. Метасредства – это некие формально выделенные универсальные
методики узнавания, описания, ин- и декодирования и т.д. средств
опредмечивания
текстовых
содержаний.
Именно
существование
таких
метасредств позволяет как продуценту, так и реципиенту пользоваться
индивидуальными
и
универсальными
средствами
текстопостроения
(с
априорным допущением их правильного восприятия и понимания): это и
функционально-стилистические характеристики как некая универсальная
схема, и окказиональный акт творения как частный метод создания смысловой
грани,
но
действующий
по
отработанной
или
описываемой
самим
суперконструктом деривационной модели как частное средство.
2.
Метасмыслы
–
это
возможности
«осознания»
единства
и
совокупности граней многомерного смысла, возникающие при рефлексии над
355
формами, которые призваны опредмечивать имманентные смыслы. Реципиент в
процессе герменевтического понимания, оперируя метысмыслами, повторяет
путь
продуцента.
Некие
общие
идеи,
онтологические
единства,
сам
вертикальный контекст произведений одного автора, маркеры прогнозирования
развертывания смысла могут быть отнесены к метасмыслам.
3. Метасвязи – это связи узловых метасмыслов и метасредств в
суперконструкте общего смысла. Подобной связью является, например,
идейная направленность текста внутри философской традиции и композиция и
архитектоническая
иерархические
конструкция
отношения
текста.
различных
Такая
метасвязь
элементарных
выстраивает
связей:
форма
–
содержание, формальная вербализация – смысл, при действовании со смыслом,
в данном случае, задействуется ноэматическая рефлексия.
4. Прогностические стратегии, которые реализуются у продуцента до
или в процессе опредмечивания смысла, а у реципиента определяются
константами смыслопорождения и «схемами действования» в процессе
распредмечивания и повторного опредмечивания в рефлексивной реальности.
5.
Трансформации
изменения
картины
мира,
онтологической
отношения
к
картины,
структурирующие
воспринимаемым
феноменам
объективной реальности (эмпирическому опыту).
Данные метаединицы имеют своей характерологической особенностью
динамику у продуцента и имитацию действий по порождению смысла у
реципиента в рефлексивных актах герменевтического понимания, на луче
феноменологической рефлексии, направленном на эти метаединицы, возникают
новые
иерархически
включающие
элементы
структурированные
новума,
единства
творимости
и
суперструктуры,
т.п.
«Осознание»
принадлежности текста к определенной традиции является имитативной
рефлексией, но именно это метасредство и – в дальнейшем – более
конкретизированный метасмысл отнесения текста к вертикальному контексту
творчества автора позволяют получить правильные акты интендирования в
356
отношении рецепции элементарных формальных и частных смысловых
компонентов, уже не являющихся имитационными.
Направленность
производства
и
характеристиками
рефлексии
адекватного
новума
и
является
понимания
творимости.
обязательным
многогранных
Построение
смыслов
с
метаединиц
из
элементарных единиц смыслопорождения и структурирование
сложные
категоризированные
схемы
является
условием
их в более
формированием
«схем
действования». Большинство из «схем действования» по герменевтическому
пониманию реципиента являются имитационными.
Другим
характерологическим
признаком
метаединиц
является
их
возможность действовать в качестве ключа к пониманию. Кодовая организация
метасредств и метасмыслов сама является метасредством текстопостроения,
однако она сама не является воспринимаемой, лишь в «осознанной»
феноменологической ученой рефлексии, при собственно научном понимании и
интерпретации, не рассматриваемой в русле ноэматической рефлексии.
Метаединицы схем понимания выполняют функции метаязыка и единиц
действования с текстом. Они обладают значимостью лишь в процессе
герменевтического распредмечивающего понимания в других видах понимания
– семантизирующем, когнитивном, ноэматическом, – образования метаединиц
не происходит, они
появляются в активном динамическом процессе
мыследействования и репрезентируют не вербализованные феномены, но
отношения и взаимодействия рефлексивной и текстовой реальности. Главной
функцией метаединиц является нормирование и структурирование действий по
производству и декодированию, пониманию смысла текста, они прогнозируют
как структурность, так и возможные нарушения структуры и нормы, для
актуализации той или иной элементарной единицы смысла и условий
актуализации и деактуализации ноэм.
Смысл в целом так же как метаединицы схем его усмотрения, являются
субстанциальной сущностью, в то время как элементарные кванты смысла,
определяющие
характер
этой
субстанции,
и
есть
действительность.
357
«Метасмысл есть смысл, растянутый в силу рефлексии над предшествованием,
категоризованный в силу рефлексии над перевыразимостью, т.е. метасмысл
есть действительно рефлектированный смысл, главный смысл, смысл смыслов,
единственный действительный смысл» [Богин 1993: 85]. Герменевтический
характер понимания дается реципиенту в осознании не только смыслов, но и
метасмыслов, опирается не столько и не только на текстовые средства, но и на
метасредства, здесь «вступают в игру» «чистые смыслы, которые представлены
как сущности, ноэматические корреляты интенционального акта» [Natanson
1968: 53]. Отличие единиц и элементов в их валентности, синергии их как
составляющих конструкции – единицы никогда не теряют своего содержания, в
отличие от элементов, которые действуют лишь вкупе, в данном контексте
метаединицы являются единицами, а элементарные единицы, частные смыслы,
ноэмы, средства текстопостроения и вербализации – элементами, это видно при
межъязыковой трансляции; элементы теряются, а метаединицы, сохраняясь,
обеспечивают понимание, сохранение прагматической доминанты исходного
текста в заново выстраеваемой ткани интерпретированного текста или же, как
частный случай, тексте перевода.
Герменевтическое понимание как при процессе текстопроизводства, так и
при процессе декодировании смысла текста превращается в герменевтический
круг в «трехслойке» Г. П. Щедровицкого от пояса мыследеятельности к поясу
чистого мышления, захватывая пояс мыслекоммуникации. Образование «схем
действования» в процессе понимания возникает потому, что оно имманентно
содержится в тексте, оно заложено туда самим продуцентом, для реализации
интенционального замысла, ведь категоризация к элементам более высокого
уровня идет от простых средств смысло- и текстопостроения к более высоким
формам – метаединицам. Все названные нами единицы структурируются из
мельчайших элементов смысла (ноэм различного рода и констант), однако, не
могут быть сведены только к ним, но вместе с тем в метаединицах нет ничего,
что нельзя разложить на элементарные ноэмы и средства, здесь проявляется
синергия в структуре смысла.
358
«Метаединицы тем дальше сохраняются в памяти, чем более высокую
степень категоризации они имеют» [Koestler 1969: 201], рефлективная
реальность как главное условие понимания строится именно из метаединиц, а
не из элементов, но эти элементы бытуют в онтологической картине мира, а
потому воспринимаются и дискретно.
Сам
процесс
категоризации
иерархических
структур
является
чрезвычайно динамичным и неустойчивым, эти выделенные структуры не
могут долго сохраняться в ментальном пространстве, и сразу же при
возникновении необходимости построения новых схем меняется весь набор
исходных элементарных квантов, а сложившиеся ранее механизмы когниции
распадаются и дают место новым формам категоризации. Казалось бы, эта
характеристика
метаединиц
полностью
исключает
понимание
текста
реципиентом, но при вербализации категоризация фиксируется и может быть
воспринята (выстроена заново) в «схемах действования». Так как единицы
имеют иерархическую структуру, можно предположить, что они отражают
системные отношения в реальном мире. Позиция реципиента как субъекта
герменевтического понимания и феноменологической рефлексии переводит его
действование с текстом от элементов к метаединицам, которые оказываются
категоризованными
в
динамических
«схемах
действования»,
которые
возможны в общелингвокультурных, понятных всем представителям языковой
общности схемам и моделям категоризации. От метаединиц к конкретным
элементам теперь выстраивается настоящее понимание «осознание» всех
простейших элементов действования. С вершины структуры метаединицы
видны все категоризованные в ней элементы – это приближение общему. Но и
константу
субъективности
в
индивидуальном
восприятии
забывать
невозможно, ведь именно реципиентом избираются конкретные модели в
условиях поливалентности средств и метасредств смысло- и текстопостроения
[Morier 1959: 137].
Соотношение метасмыслов и метасредств не зависит от структурных
особенностей языка текста, как и наличие общих, универсальных ноэм-
359
доминант, проблемы трансляции на любой язык такой группы метасредств как
лаконичности/избыточности,
импликационности/экспликационности,
контактности/дистантности также не существует. Именно в результате
универсальности подобных ментальных построений некоторые исследователи
не разделяют форму и содержание акта творения.
Метасредствам свойственна функция моделирования схемы восприятия и
распредмечивания
смысла
на
базе
элементарных
квантов
смысловой
структуры, однако данное осознание происходит только при достижении
метасмысла, данные элементы одновременно моделируют как метасмыслы, так
и метасредства. Допустим, используя философскую метафору, продуцент
вводит в текст единицы актуализации и метафоризации, которые, действуя
наряду с другими протосмыслами и элементарными значениями, выстраивают
многомерный смысл. Элементы смыслопостроения выступают как база
моделирования моделей, метаединиц в «схемах действования». С другой
стороны,
метасредства
опредмечивают
метасмыслы
в
ситуации
герменевтического понимания, они рождают имитацию пути продуцента
метасмысла, в данном случае метасредство намекает на наличие некоего
скрытого пути в онтологической картине мира реципиента. Функция
субституирования
метасмыслов
метасредствами
реализует
возможность
вербализовать некие содержания без указания на конкретные смыслы и
метасмыслы, как это происходит в текстах потока сознания, в данном случае
средством рождения рефлексии над смыслом выступает композиция и
архитектоника. При рождении содержания в эстетическом плане элементарные
категории выстраивают метасвязи. Большинство текстовых средств, которые
нарушают норму и выдаются из привычного узуального восприятия на луче
только ноэматической рефлексии, может рассматриваться не только в качестве
предикации и элементарного средства текстообразования, но и как метасвязь.
Метасвязь, возникающая, например, при использовании трансформации
амфиболии смысла, является и текстообразующим средством.
360
Проанализируем
некоторые
пассажи
«Бытия
и
Времени»
с
определенными вербализованными конструктами, выражающими мышление об
отношениях
и
связях:
Bewandtniszusammenhang,
Bezugsganzes,
Bewandtnisganzheit,
Fundierungs-zusammenhang,
Verweisungsbezüge,
Verweisungsganzheit; речь всё время идёт о структурах и связях, продуцент
текста, казалось бы неосознанно показывает реципиенту способ построения
метаединиц с помощью элементарных средств смыслопорождения. Хайдеггер
пишет: Diese 'Relationen' und 'Relate’ des Um-zu, des Um-willen, des Womit einer
Bewandtnis [Heidegger 1967: 88]. И эта система отношений не идеальна, а
конститутивна для внутренней близости. Пассажи со страниц 87 и 88 являются
решающими в этом вопросе. Отношения уже у Хайдеггера не статично
изолированы: они даны в динамике, для актуализации процессов рефлексии у
реципиента, они подталкивают его к динамизму, к усиленной работе в системе
мыследеятельности.
Но
всё
же
их
можно
попытаться
вычленить
и
абсолютизировать для придания особых характеристик сильным позициям
текста.
Это
делается
посредством
отдельного
языкового
средства
–
субстантивации частиц. Состояния или отношения мыслятся изолированно от
остающихся в тени участников, что опредмечивает многомерный смысл. Но
здесь
существование
и
возможность
участия
в
действии
участников
домысливаются и вводятся как конститутивные признаки распредмечивания
вербализованного смысла. Отношения в этом смысле основываются на связи
объектов-участников отношений, лишь их надуманная или реальная активность
порождает отношения. Таким образом, становится ясно, что мышление об
отношениях есть динамическое мышление, которое должно искать способ
выражения в сфере изменения онтологических картин, в рефлективной
деятельности. Здесь конвергируют два направления: область zwischen-структур
и отношений является самостоятельной, но она лишь тогда мыслится сообразно
её сущности, когда её внутренняя подвижность также берётся во внимание.
Этот тип мышления присутствует в важнейших понятиях Хайдеггера.
361
Sein не субстанция, а высший принцип – это разница между названными
двумя состояниями. Sein west und währt nur.
Das Nichts nichtet – эта формула есть сущностное определение Nichts.
Die Welt weltet, – в тексте «Бытия и Времени» это означает следующее (со
ссылкой на их единство): Der Zusammenhang dieser Bezüge (Um-zu, Wozu, Dazu,
Um-willen) wurde früher als Bedeutsamkeit herausgestellt. Ihre Einheit macht das
aus, was wir Welt nennen [Heidegger 1967: 364].
Sprache – нечто происходящее, подвижное проектируемое – его сущность
Sage. Die Sprache spricht.
Это лишь намёки на то, что в точках кристаллизации (основных
понятиях) мышления Хайдеггера царят всё те же динамика и движение, что и в
предметах конкретного анализа, как и в его использовании языка. Если мы
отойдём от языкового момента «Бытия и Времени», то всё равно увидим, что
попытка создания Хайдеггером мышления, которое так же резко уходит от всей
предыдущей философии, как и от главенствующих в наш век технического
прогресса представлений, всё же в его основополагающих феноменах не
пытается
преодолеть
существующее
миропонимание.
Наличествует
необходимость в более частом использовании вербализующих динамику
средств, так как современный человек более обращает внимание на структуры и
отношения в них, чем на вещи сами по себе.
Для Хайдеггера находятся эти и иные доказательства того факта, что он и
отражает в своих текстах. Но этот факт давно перешагнул рамки исследуемого
нами предмета. Могут быть даны лишь несколько указаний для прояснения
причины этого мышления. Но они не являются языковыми. Эти указания не
могут дать ответа, а только показывают, что язык, пытающийся передать
особенности мышления, действует подобно сейсмографу. И что мысль сама
подвергается воздействию уже полностью переосмысленных и измененных
элементарных квантов.
Внутреннее содержание не может развертываться лишь в одном поясе
мыследеятельности, общие глубинные структуры смысла действуют во всех
362
пространствах. Если же усмотрение и рефлексия происходит только в одном
поясе, полного понимания смысла не происходит, общее понимание
оказывается дефектным, утрачиваются некоторые аспекты функциональнопрагматической доминанты. Чаще всего встречаются следующие случаи
дефектного или неполного понимания:
1.
В том случае, когда рефлексия сосредоточена только в поясе МД,
реципиент ошибочно воспринимает рефлективную реальность своего
опыта как единственно возможную и подвергает её незначительным
изменениям в ходе рецепции текста, новые представления смешиваются с
обыденной картиной мира реципиента. Данные недопонимания строятся
на базе переоценки константы фоновых знаний. Реципиент полагая, что
именно в данный момент он уже ухватил общую идею, не пытается
произвести дальнейшую рефлексию, не задерживается (что является
необходимым условием настоящего понимания) в рефлективной позиции,
а переходит к эпифеноменальной процедуре и в дальнейшем действует с
текстом по сложившейся модели восприятия смысла (действуя по
привычке он теряет связь с авторской моделью постоянного порождения).
2.
Рефлексия наличествует в поясе МК. При подобном дефектном
восприятии реципиент пытается усмотреть и распредметить средства и
метасредства, обнаруживая философскую метафору или же другое
текстовое средство, знакомое ему, он воспринимает его не как элемент,
но как единицу, прогнозирующую его дальнейшее понимание, и из этого
элемента выводит единственную внешне актуализированную грань
смысла, строя, как ему кажется, смыслы и метасмыслы. И если в первом
примере скудность рефлективных актов связывается с переоценкой
фоновых знаний и имитативным единообразием понимания, то во втором
случае базой дефектного понимания выступает псевдоанализ языковых
средств, абсолютизация формы, – пустота формы противоречит истине.
Усмотрение языкового средства – это не усмотрение многомерного
смысла: первое чаще всего совершается автоматически по имеющейся
363
устоявшейся модели, а распредмечивание смысла есть сложный
рефлективный акт мыследеятельности.
3.
Третья
ошибка
возможна,
если
рефлексия
фиксируется
в
невербальном пространстве, что ведет только к образному эстетическому
восприятию, что, как и во втором случае ведет к пустому усмотрению,
только в данном примере – образности (абсолютизируется уже не
вербальное представление, а эмпирический опыт).
Следует заметить, что «существенное сокрыто от людей в целом, тем, что
оно делает в своей работе, оно пытается приоткрыть суть действительности»
истинного смысла для понимания и оперирования их гранями. Смысл является
двойственным
по
природе,
приближает
основополагающие
принципы
сущностного в целом к герменевтическому пониманию и в то же время
остаётся нераскрытым в отношении действительной природы сущего. Он и
скрывается от реципиента и выставляет себя напоказ [Бредихин 2003].
Действительное понимание смысла текста, восприятие и сохранение
доминант и гране происходит лишь в случае фиксации феноменологической
рефлексии над рефлективной реальностью как сонмом всего опыта смысло- и
формообразования во всех поясах «трехслойки» Г. П. Щедровицкого.
Категоризация и не только анализ, но и синтез всех рефлексивных актов и
перевыражений смысла, который доступен реципиенту в действовании с
текстом, создают истинное герменевтическое понимание, общий глубинный
смысл и идею текста.
6.4. Порождение неузуальных многомерных глагольных смыслов в
текстах М. Хайдеггера
Для порождения неузуальных многомерных смыслов в философском
дискурсе важное значение имеют глагольные конструкции. Исходя из этого мы
в данном разделе работы анализируем возможности смыслопорождения
философских категорий, вербализованных с помощью глагольных конструкций
на базе трансформаций приписывания актуализированных квантов смысла тем
или
иным
элементам
суперструктуры,
повторного
распредмечивания
364
смысловых структур в соответствии с концептуально-валерной системой
продуцента/реципиента,
распредмечивания
продуцентом/реципиентом
существующих элементов смысловой структуры и, тем самым, опредмечивания
субъективных актов феноменологической рефлексии, сюда в первую очередь
относится возможность порождения кванторов личностной периферийной
зоны, их интерпретация и актуализация их нового In-sein (Бытие-в),
перераспределение периферийных ноэм и их актуализация в ядерной структуре.
Концептуальный
объективизации
с
концептуальными
смысл
в
философском
определенными
характеристиками,
дискурсе
свойствами
т.е.
то,
и
что
подвергается
«индивидуальными»
у
индивида/автора
соответствует концепту. При реализации периферийных ноэм главнейшим
условием является интенциальность. На семистах исследованных страницах
текста Хайдеггер создает около двухсот новых смысловых дериватов, причем
большинство из этих новых слов не противоречат правилам немецкого языка, а
лишь выполняют функцию привлечения внимания посредством эффекта
неожиданности для чувства языка стандартного реципиента. Однако у
большинства из этих дериватов совершенно новое внутреннее содержание,
таким образом, они призваны выразить нетривиальных способ мышления
самого продуцента текста, и вызывают некие противоречия между высказанной
и декодированной мыслью, так же как и между разрешающими и
запрещающими возможностями языка [Бредихин 2003].
В
отличие
от
большого
количества
номинализированных
новообразований, Хайдеггеровская потребность в новых глаголах намного
меньше. Вот практически полный перечень данных глагольных конструкций,
вербализующих новый неузуальный смысл в тексте «Бытия и времени»:
andemonstrieren
begrübeln
durchgreifen
durchherrschen
durchschwingen
durchstimmen
entgegenstehenlassen
entsränken
gegenwärtigen
grundlegen
hereinstehen
hinausliegen
hineinregeln
inbleiben
mit-ahnen
mitbegegnen
mitliegen
mitsichten
nichten
überschwingen
365
unbehalten
unverweilen
ungegewärtigen
verräumlichen
vorwelten
welten
unvernehmen
Как бы ни важна была роль глаголов в его текстах и терминологии,
Хайдеггер в своих ранних работах использует глагольные новообразования
(либо переосмысление узуальных глагольных конструкций) довольно редко.
Этот список из 27 глаголов можно было бы расширить, если присовокупить к
нему некие слова и группы слов с компонентом -sein, а также другие
инфинитивы, но они встречаются лишь как субстантивированные формы
сдвигов, пишущиеся через дефис либо слитно.
В
понимании Хайдеггера, они являются довольно таки свободными
сочетаниями
и
не
выступают
как
глагольное
единство,
элементы
суперконструкта в данном случае репрезентируют ноэмы, релевантные для
рецепции и служащие как маркеры определенных метасредств, метасмыслов и
метасвязей «схем действования». Здесь довольно сложно разобраться,
образования типа: In-der-Welt-Sein, Mitsein, Insein имеют терминологическое
значение и в общем являют собой некий укрепившийся единый смысл, даже тот
факт, что финитные формы подобных слов встречаются в разложенном виде,
например: der Mensch ist in der Welt, является причиной для того, чтобы
понимать их как нечто не целостное. Ведь и сложные глаголы типа mitnehmen
(ichnehmemit) понимаются как содержательное единство. Однако мы не будем
рассматривать различные субстантивированные инфинитивы на -sein, -lassen, machen, -können, -haben и другие подобного рода конструкции и поднимать
вопрос об их глагольной природе, не оспаривая, однако, динамики в
большинстве неузуальных конструкций М. Хайдеггера. Ещё одним типом
глагольного выражения являются встречающиеся у Хайдеггера так называемые
предложения с многоточием.
Анализ глагольных переосмысленных конструкций в текстах Хайдеггера
показывает,
что
в
основе
мышления
автора
лежат
динамические
характеристики, априорное положение о подвижности и текучести смысла.
Именно подобные отношения между элементами метаединиц, да и самими
366
метаединицами, структурирующими «схемы действования» [Богин 2001],
являются причиной большого количества разноструктурных глагольных
дериватов, включая субстантиванты, всех типов. Можно сказать, что
глагольные содержания, как и иногда находящиеся в периферийном поле
ноэмы динамичности, стоят в центре любого анализа и актуализируются в
многомерных суперконструктах.
Объект при узуальном рассмотрении, на луче ноэматической рефлексии,
может быть выражен и представлен статически. Если он представлен
субстантивированным причастием 1, то он презентирует носителя глагольного
действия, если субстантивированным причастием 2 или существительным на heit – то результат глагольного действия. Глагольное содержание активности и
динамики
проявляется
в
конструкциях
с
субстантивированными
инфинитивами. Внутреннее понятие глагольного действия и состояния – в
абстрактных существительных на -ung. Влияние посредством действия – в
прилагательных на -lich, -bar, и целый ряд других значений из этой же области,
все подобные конструкции основаны на изначальном глагольном содержании и
использовании интенциальной амфиболии процессуальности/предметности.
Все эти формы посредством их общего количества в текстах Хайдеггера и
в анализе взаимозависимых феноменов указывают на то, что продуцент текста
актуализирует прежде всего метасвязи, т.е. Хайдеггер больше внимания
уделяет отношениям, нежели феноменам как таковым. Эти отношения как
«сущность бытия» глагольно-динамические. Они, однако, могут выступать как
некие константы, как более статичные структуры, если им не приписывать
изменчивости или не обращать на неё внимания.
Из 27 встречающихся у нас глаголов особого внимания заслуживают
nichten, welten. Эти глаголы стали известны посредством своего употребления
впервые в выражениях Die Welt weltet, Das Nicht nichtet. Именно в том
многомерном смысле, который в них вкладывал Хайдеггер, и именно в этом
смысле они и встречаются в поздней философской литературе. В случае с
этими двумя глаголами автор вербализировал слова других классов,
367
использовав частеречную транспозицию, но только в формальном оформлении
смысловой суперструктуры, а не поступил, как с другими новообразованными
глаголами, которые лишь копируют по аналогии уже имеющиеся. Однако
гораздо
интереснее
проследить
за
трансформационными
процессами
актуализации периферийных ноэм и повторного распредмечивания элементов
начальной конструкции.
Например,
многомерное
welten
является,
казалось
бы,
простой
вербализацией слова Welt. Подобным образом получены такие слова, как
tanken, staaten и часто встречающийся термин Вайсгербера worten. Но
метасвязи в welten и вышеназванных конструктах различаются: Welten есть
процесс, мир для человека проявляется и действует лишь так, как он weltet. Это
ярко выражено в следующей фразе: Freiheit allein kann dem Dasein eine Welt
walten und welten lassen. Welt ist nie sondern weltet. Главной характеристикой и
конструкта welten и nichten является лишь то, что это новый класс глаголов –
глаголы «бытия в занятости» или же оккупативные; если сказать проще, то мир
(Welt) занят тем, что он weltet, или же представляет/воспроизводит сам себя.
При рассмотрении глагола nichten можно свести его к изоляции от
vernichten, формально при подобном подходе этот тип словообразования
Хайдеггер применял в нескольких случаях, в частности, со словом Kunft от
Zukunft, однако вертикальный контекст декодирования смысла, в котором
проявляется этот глагол, не оправдывает такое предположение. Также здесь
нельзя говорить и о попытке возрождения древневерхненемецкого глагола, как
это имело место с глаголом wesen, хотя Deutsch Wörterbuch указывает, что
подобный глагол существовал вплоть до конца средневерхненемецкого
периода. Абзац, в котором Хайдеггер впервые использовал конструкт nichten,
является ярким примером бездефиниционного использования опредмеченного
глубинного
смысла,
развертывания
текста.
элементы
Можно
которого
постепенно
раскрываются
наблюдать,
как
в
процессе
глагольное
наполнение стремится к вербализации. В связи с этим релевантен и следующий
пассаж: In der Angst lieg tein Zurückweichen vor…, das freilich kein Fliehen mehr
368
ist, sondern eine gebannte Ruhe. Dieses Zurück vor… nimmt seinen Ausgang vom
Nichts. Dieses zieht nicht auf sich, sondern ist wesenhaft abweisend. Die Abweisung
von sich ist aber als solche das entgleitenlassende Verweisen auf das versinkende
Seiende im Ganzen. Diese im Ganzen abweisende Verweisung auf das entleitende
Seiende im Ganzen, als welche das Nichts in der Angst das Dasein umdrängt, ist das
Wesen des Nichts: die Nichtung. Sie ist weder eine Vernichtung des Seienden, noch
entspringt sie einer Verneinung. Die Nichtung läßt sich auch nicht in Vernichtung
und Verneinung aufrechnen. Das Nichts selbst nichtet [Heidegger 1971: 34].
Конструкт nichten, так же, как и отглагольное существительное Nichtung
образован от отрицания nicht и в этом смысле противопоставлен уже таким
имеющимся словам, как vernichten, Vernichtung. Возможно, именно в
контекстном употреблении с vernichten конструкт nichten приобретает
некоторый транзитивный характер, в сравнении с welten, который, естественно,
нетранзитивен.
Однако несмотря на транзитивность глагола в работах Хайдеггера, нам ни
разу не встретилось дополнение в аккузативе, в «схеме действования» имеется
узловая метаединица потенции к присоединению прямого дополнения – его
наличие
нигде
не
актуализируется,
он
остается
в
потенции.
Но
содержательный момент nichten сходен с содержательным моментом welten.
Рядом с узуальными лексемами nichtig, nicht, nichts, Nichtigkeit Хайдеггер
употребляет в своей работе «Was ist Metaphysik» следующие не характерные
для немецкого языка производные: nichten, dieNichtung, dasNichthafte, а также
сложный конструкт Nichtcharakter. Таким же образом можно рассматривать
новообразования andemonstrieren как достаточно спорную аналогию к anbinden,
ankleben; begrübeln как аналогия к bedenken.
Хайдеггер
переосмысливает
и
некоторые
другие
глагольные
конструкции, например, с префиксом ge- и, используя трансформацию
этимологического переразложения и актуализации периферийных ноэм в
суперструктуре смысла, образует новый неузуальный многомерный смысл, как,
допустим, be-deuten, be-gründen, be-stimmen.
369
Такие глагольные конструкции с приставками, как durchstimmen,
durchgreifen, überschwingen, относятся к группе лексем, образованных с
помощью аффиксации, которым Хайдеггер отдавал особое предпочтение, и
которые стали характерной чертой его стиля. Все эти глаголы встречаются в
работах М. Хайдеггера как в слитном так и в раздельном написании, поэтому
являются действительно новыми, переосмысленными лексемами. Продуцент
текста использует их как некие устоявшиеся выражения, вводя в их состав
имманентный компонент дефинитивности, допустим durchstimmt von Seienden
das sich das Dasein jeweils überschwingt и так далее.
Аналогично использует автор в своих работах и глагольный конструкт
durchherschen, который в узуальном употреблении имеет слитное написание,
допустим, в такой фразе, как Diese Seinsart durchherrscht aber auch das
Miteinandersein als solches [Heidegger 1967: 174].
К другой содержательной группе глаголов относятся hereinstehen,
hinausliegen, vorausliegen. В этих случаях нормальное языковое содержание
статичного глагола дополняется посредством некоей направленности и
подобным образом динамизируется. Конкретизаторы hinein-, voraus-, hinausобычно используются с глаголами движения, как, допустим, hineinregeln, а не с
конструкциями, вербализующими состояние. В подобных новообразованиях в
отношениях к Sein и Dasein и их коррелятах эти глаголы выражают
одновременно и некий устойчивый закон, который в то же время выражает и
действие, активность, что, впрочем, по Хайдеггеру соответствует сущности его
субъектов высказывания. Таким образом, автор довольно часто использует
глагол hereinstehen.
Подобно этому создан и такой элемент, как Hinausstand, рефлексия над
которым
возможна
в
горизонтальном
контексте,
с
учетом
констант
интенциальности и субъективности, dieser wesenhafte Hinausstand zu bildet. Это
похоже на такое предложение, как: Der im Aussagen immer auch mitliegende
Vorgriff bleibt meist unauffällig [Heidegger 1967: 157]. Этот глагол понятен по
аналогии со следующими глаголами движения: mitgehen, mitfahren. И
370
Хайдеггер выражает этим высказыванием так же много, как если бы он
использовал узуальные формы выражения. Допустим, da mit im Aussagen
liegende Vorgriff; der Vorgriff, der auch immer mit im Aussagen liegt.
Сложное
слово
Хайдеггер
entgegenstehenlassen
субстантивированный
инфинитив
и
как
употреблял
причастие
1
в
как
eine
entgegenstehenlassende Zuwendung zu в связи со своим объяснением вещи как
предмета в «Kantbuch». Тесная связь глагола entgegenstehen с lassen на основе
трансформации интенциальной амфиболии актуализирует ноэму единства
данных
феноменов,
именно
в
этом
заключается
целенаправленное
употребление автором этой лексемы. Эта глагольная конструкция является
одним из ярких примеров того, как автор, несмотря на гладкость или же
сложность понимания выражения, пытается совместить потенциальные
возможности языка с особым типом мышления, согласовать узус и
окказиональность. При этом часто бывает, что подобные образования являются
единичными в его работах.
Einschränken
как
противоположность
к
beschränken
является
единственным оппозиционным глаголом, исключая глаголы на un-, хотя
Хайдеггер и использует в своём языке некоторые оппозиции. Также автор
образовывает, но уже независимо от используемого глагола, субстантивант на
суффикс -ung: Einschränkung. Так как обе лексемы работают на одном уровне
феноменологической рефлексии и находятся в одной области рефлективной
реальности, они могут употребляться взаимозаменяемо.
Большинство же неузуальных глагольных конструктов в текстах М.
Хайдеггера образованы по не продуктивным деривационным моделям и являют
собой, скорее, переосмысленные лексемы, это доказывается тем, что они
встречаются
достаточно
редко
и
не
выражают
релевантных
экзистенциалистских терминов, а служат лишь для прояснения некоторых
метасвязей и никогда не субстантивируются.
На следующем уровне мышления стоит ещё один, уже упомянутый
синтаксический тип в текстах Хайдеггера. Особенно часто в ранних
371
предложениях Хайдеггера встречаются глаголы с предлогами, формально за
которыми помещается многоточие. Имеется в виду то, что объект, следующий
за предлогом, отсутствует, что представляет интенциальную амфиболию с уже
описанным выше случаем с транзитивными глаголами без прямого дополнения.
Основным
отличием
подобного
образования
является
то,
что
субстантивированный инфинитив или глагол стоит синтаксически без
предложного объекта, хотя предлог имеется, место объекта остаётся пустым, и
предлог формально стоит в постпозиции. Именно этим он соответствует
замечанию в грамматике Дудена о том, что определённые глаголы,
существительные и прилагательные требуют после себя при определённых
отношениях предлогов. Подобный предлог вступает в теснейшую связь с
определяемым словом. Фактически хайдеггеровские образования выглядят
именно так и соответствуют этому определению, но, если судить о них не как о
конструкциях, имеющих эксплицитную тесную связь с предлогом, то
использование Хайдеггером этих сочетаний вскрывает их внутренне единство,
ноэмы объединения периферии и ядра. В основе такого образования стоит
целое предложение с финитным глаголом, целая группа предложений с
одинаковым
глаголом
и
предлогом,
содержательно
они
близки
к
субстантивированным инфинитивам и частицам. Однако ещё яснее, чем у
чистых субстантивированных глаголов, то, что подобным формальным образом
вскрываются и маркируются определенные «схемы действования» – исходное и
цель отбрасывается как ненужное, а взгляд концентрируется на глагольнодинамических отношениях, на передний план выходит метасвязь.
Подобные образования не являются изолированными, но имманентно
раскрывают объект высказывания, порождают дополнительную рефлективную
активность, это делается посредством многоточия. Следующий пример
показывает, как сильна может быть абстракция подобных отношений, они
превращаются в термин, в объект, который уже может стоять уже вне этих
отношений, если с помощью совместной постановки глагола и предлога
достигается вербализация характерных отношений, то предлог может стоять и
372
один, как и субстантивированные частицы, и иметь при себе в качестве
объяснения лишь многоточие. Die Phänomene des zu…, auf…, bei… offenbaren
die Zeitlichkeit als das schlechthin [Heidegger 1967: 329]. Пример
более
абстрактных,
не
модифицированными
глагольным
содержанием,
отношений. При этом ясно, что Хайдеггер хочет не только показать языковые
отношения, но одновременно с ними и фактические отношения в описываемой
объективной реальности. Но в подобной функции и схожих формальных
структурах автор использует наречия, а также другие частицы, вырвав их из
синтаксического контекста. Jedes ‘dann’ aber ist als solches ein ‘dann, wann…’,
jedes ‘damals’ ein ‘damals als…, jedes ‘jetzt’, da… [Heidegger 1967: 407]; die den
‘jetzt’, ‘dann’ und ‘damals’ zugehörigen Horizonte (haben) den Charakter der
Datierbarkeit als ‘Heute, wo…’, ‘Späterhin, wann…’ und ‘Früher, da…’ [Heidegger
1967: 409]; Dieses Zurück vor… [Heidegger 1971: 34].
Образования подобного рода относятся к некоему неудобному для языка,
но все-таки к содержательно понятному инвентарю. Хайдеггер оправдывает
себя в использовании таких сочетаний в начале «Бытия и Времени», подобные
формы имеют особую ценность в их употреблении в его работах, так как они
показывают сущность Sein и структуру Dasein. Тот, кто понял их ценность, уже
не может отказаться от них в угоду привычным выражениям.
Структура
глагольных
образований
обусловлена
прежде
всего
синтаксисом – горизонтальным контекстом и вертикальным контекстом
экзистенциалистской
традиции,
способствующим
переосмыслению
актуализируемых ноэм. В текстах М. Хайдеггера глагольные конструкты
рефлектируются, прежде всего, самим продуцентом, и главным является
усмотрение метасвязей как единиц конструирования «схем действования» при
порождении смысла. В данном случае основой служит феноменологическая
рефлексия во всех трех поясах СМД, а развертывание опредмеченного смысла
происходит по динамическим «схемам действования».
373
6.5. Смыслообразование в производных субстантивных конструктах
философского дискурса
Как показывает собранный нами фактологический материал, в процессе
построения ткани филосфского текста важное место занимают категории,
вербализованные
с
помощью
производных
существительных
на
базе
трансформаций этимологического переразложения и сдвига в семантических
полях.
Определённый концептуальный смысл окказионального авторского
понятия в философском дискурсе есть постулированный абстрактный объект,
включающий
определённые
свойства,
отношения,
и,
прежде
всего,
«индивидные концепты», т.е. то, что у индивида/автора соответствует
концепту. При концептуализации понятия и реализации релевантных ноэм
различных типов в суперструктуре смысла главнейшим условием является
интенциальность,
обусловленность
порождения
нового
смысла
либо
отсутствием, либо непригодностью имеющихся в обыденном языке понятий
для выражения этого «нового», иногда окказионального понятия.
Как мы уже упоминали, для этого мы пользуемся следующей иерархией
типов порождения и декодирования:
1. Первый уровень – семантизирующее понимание, то есть декодирование
единиц текста, выступающее в знаковой функции.
2. Второй уровень – когнитивное понимание, возникающее при
преодолении трудностей в освоении содержания, то есть тех предикаций,
которые лежат в основе составляющих текст пропозициональных структур,
данных читателю в форме тех же самых единиц текста, с которыми
сталкивается семантизирующее понимание.
3. Третий уровень – распредмечивающее понимание, постоянно имеющее
место при действовании с идеальными реальностями. «Распредметить» –
значит восстановить при обращении рефлексии на текст какие-то стороны
ситуации мыследействования продуцента (или восстановить то, во что эти
ситуации мыследействования превратились в ходе последующего бытования
374
текста в обществе; такое восстановление приводит к выявлению или даже к
появлению многих граней понимаемого, что соответствует многоаспектности
бытования текста в обществе) [Богин 1993].
Подавляющее
большинство
субстантивированных
конструктов
вербализующих многомерный смысл у Хайдеггера, – это производные. Однако
примеров
так
называемого
«внутреннего
производного»
посредством
изменения корневой гласной без аффиксов не встречается. В наиболее
распространённом типе словообразования – это производные от глаголов –
Хайдеггер
не
только
пользуется
суффиксами,
но
и
производит
существительные из сложных глаголов, имеется в виду, что он использует
глаголы, уже имеющие в своём составе какой-либо словообразующий аффикс.
В этом случае о производности подобных конструктов можно говорить с
некоторой натяжкой. Однако мы не можем применять характеристику новума и
творимости ко всем без исключения конструктам. Часто возникает впечатление,
что при отсутствии какого-либо слова такую форму можно придумать самому.
По этому поводу также часто возникает вопрос о трудности приёма решения,
действительно ли новый языковой элемент является объективным, особенно,
если мы обращаемся к типу производности, который был уже известен и
применялся ранее. Хенсон говорит, что современные языки находятся в
некотором состоянии лабильности, которое появляется благодаря возможности
аналогичного образования по старым примерам.
Не удивительно, что в отглагольных производных субстантивных
конструктах превалируют производные с суффиксом -ung. Подобный тип
субстантивации встречается не только в других философских трудах, но и у
Хайдеггера в «Бытии и Времени» он довольно широко используется, и ему
отдаётся
предпочтение
при
образовании
абстрактных
отглагольных
существительных. Не менее интересным является тот факт, что наряду с такими
лексемами, как Gebung, Weckung, Zeigung стоят и чистые субстантивированные
инфинитивы, и позже Хайдеггер может употреблять такие слова, как dieZeige,
dieGabe. Используются и такие понятия, как Erhellung, Hinweisung, Verhaltung,
375
Zeitigung. Они не только вербализуют некую абстрактную философскую
категорию, так как наряду с ними используются такие слова, как Hinweis –
hinweisen и Verhältnis – verhalten от тех же глагольных основ. Erhellung у
Хайдеггера, конечно же, непосредственно совпадает с Existenzerhellung у
Ясперса. Zeitigung является устойчивым однозначным термином в работах
Хайдеггера и является отглагольным субстантивированным от содержательно
нового zeitigen.
Aufgipfelung, Aufsteigerung, Entblendung, Entsränkung, Entweltlichung,
Gewärtigung, Verendlichung, Zusammenstückung. Подобные слова используются
в «Бытии и Времени» как термины, которые создаются непосредственно в
ситуации семиозиса без «участия» глагола. На особом месте стоит слово
Nichtung – это субстантивация появившегося впервые у Хайдеггера в его работе
«Was ist Metaphysik» термина, объясняющего существование «ничто», nichten.
Этот термин не может сводиться, как некоторые полагают, к Vernichtung,
однако у мистиков 13–15 веков мы находим такой термин, как Nichtheit.
Следующие
примеры
относятся
как
раз
к
упомянутой
группе
тех
субстантивированных конструктов, которые Хайдеггер образует от сложных
глаголов по аналогии с образованием существительного от простого глагола
при помощи внутреннего производного или суффикса -е. В работах М.
Хайдеггера существуют следующие аналогии Einsprung, Heraussage, Überstieg,
Vorhabe
для
абстрактных,
типичных
для
ранних
работ
Хайдеггера
Hinblicknahme, Zusammennahme и к терминам Bevorstand, Entstand, Hinausstand.
В вышеназванных примерах мы видим перерождение подобных слов, как Habe,
Sage, Nahme, и рассмотрение их как независимых суперконструктов с
переосмысленным содержанием, однако константа фоновых знаний, как при
порождении, так и при интерпретации. Безусловно, в ранних работах Хайдеггер
несколько «стесняется» таких конструктов, которые образованы с помощью
интенциальной амфиболии, данные образования позже широко используются,
например, такие, как: dieSage от sagen, dieZeige, dieRichte. Но уже в «Бытии и
Времени» мы можем встретить рядом с Zukunft субстантивацию Kunft (как
376
субстантивацию глагола kommen), но, конечно же, здесь речь идёт не столько о
субстантивации глагола, сколько об изолировании корня ранее сложившегося
субстантиванта. Итак, Kunft является существительным от глагола kommen и,
возможно, тогда, когда рядом с ним используются такие слова, как Ankunft,
Herkunft,
Zukunft,
но
средневерхненемецкого
её
kunft,
нельзя
а
рассматривать
также
нельзя
как
повторение
рассматривать
как
субстантивацию по аналогии к таким словам, как Brunft, Zunft. Конструкты же
подобные Begegnis, Verfängnis, напротив, являются чистыми производными от
глаголов begegnen и sichverfangen. В «Бытии и Времени» Хайдеггер говорит о
Begegnisart, а позже о Begegnis des äußeren Sinners. Глагол begegnen
используемый Хайдеггером в его работах часто без дополнения в Аккузативе,
etw. begegnen является причиной подобной субстантивации и при этом
Begegnis, в отличие от Begegnung, теряет свою персонификацию (является чемто
более
общим).
Begebnis
можно
рассматривать
как
конструкцию,
образованную по той же деривационной модели (по аналогии). Но подобное
слово уже встречается у Гёте и у Лессинга. Das Verfängnis же, по нашему
мнению, образовано как некое подобие или же аналог Verhändnis, о чем говорит
не только его совпадение в звуковой форме, но и средний род, а также
содержательная близость. К сожалению, Хайдеггер использует подобное
образование лишь несколько раз вкупе с субстантивированным инфинитивом
Sichverfangen, таким образом, мы можем сказать, что автор использует
словообразовательный суффикс -nis довольно широко.
Dargebot является субстантивацией от darbieten и не слишком отличается
от Angebot, он отличается лишь принадлежностью к высокому стилю. Если
просмотреть весь ряд подобных новообразований, то становится ясным, что
превалируют производные на -ung. Возможная функция субстантивации в
работах Хайдеггера – есть лишь перевод содержательной стороны глагола в
предметную категорию (объективизация) и это отнюдь не так тривиально, как
может показаться. Если мы подвергнем это явление более детальному анализу
то мы увидим, что средства для производства от глаголов новых субстантивных
377
конструктов, такие как -ei, -erei,-el, -er, -ling, ge-, не встречаются, так как они
придают глаголу некую новую содержательную окраску, особенно это касается
так называемого коллективного префикса ge-, который Хайдеггер использует
позже в своей практике. По подобным фактам номинализации можно сделать
лишь
одно
утверждение,
что
глагольные
содержания
как
таковые
превращаются в такой форме в предмет мышления, т.е. объективируются,
вербализуя некий многогранный смысл с аллюзией к уже существующим в
определенной лингвокультуре понятиям.
Примечательно то, что из 15 новообразований, в основе которых лежит
существительное, 13 образованы с помощью префикса un-, и не только здесь
префикс отрицания играет столь важную роль. Ричард М. Майер, Элен
Аристар-Драй и Эмили Деструэл в своих исследованиях работ Ницше привели
целый список таких «отрицательных» слов, и можно предположить, что это
является отражением того, что оба философа, как Хайдеггер, так и Ницше,
противопоставляли свою философию традиционной, и в этом смысле следует
заметить, что как раз в «Бытии и Времени» происходит отрицание или
переосмысление общепринятых понятий [Meier, Aristar-Dry, Destruel 2009], для
этого здесь и используется префикс un- (наряду с ним используются miß-, ver-,
ent-). Они направлены не только на то, чтобы достигнуть впечатления
отрицания, но и имеют эмфатическую и оценочную ценность. В этом смысле
мы можем сказать, что отрицания с un- отличаются от отрицания с nicht,
именно в соотнесенности с концептуально-валерной системой реципиента
имеют характер некоего
полярного, противоположного
конструкта. В
некоторых случаях Хайдеггер изолирует это un- и использует его уже как
самостоятельный предмет высказывания. Мы можем наблюдать некие
позитивные ноэмы в узловых элементах суперструктуры лишь в лексеме
Unverborgenheit как синониме Wahrheit. Это основано на том, что является
отрицанием слова с уже негативной коннотацией Verborgenheit. Так как
исходные слова в хайдеггеровской терминологии в основном имеют
позитивные значения, то и в соответствующих им отрицаниях слышатся некие
378
пейоративные
обертоны.
Так,
допустим,
Unzusammenhang
является
противоположным образованием к Stiftenden Zusammenhang des Daseins, в
контексте Zerstreuung uneigentlich Unentschlossenheit, Unschneidlichkeit, с
четким оценочным акцентом. Подобным способом мы можем оценить и
описать и другие подобные суперконструкты, вербализующие негативную
коннотацию с помощью актуализации ноэм-культурных-основ префикса, как,
допустим, Unkraft, Unbegriff, Unzuhause, Unganzheit и т.д. Также мы можем
описать и префикс ent-, как в примере с Entgegenwärtigung, как и с уже
упомянутыми
Entblendung,
Entschränkung,
Ent-stand.
Ноэматическая
характеристика отрицания, содержащаяся в этом префиксе, не идентична той,
что содержится в приставке un-, она не выражает оппозицию, а, скорее,
выражает акт обесценивания некоего мысленного действия или явления, т.е.
является чистым примером трансформации переразложения и деконструкции
концептуально-валерной
системы
продуцента
с
явной
интенциальной
направленностью. Собственная динамика подобного глагольного префикса
действует таким образом, что вторая часть таких образований, как Еnt-stand,
воспринимается более глагольно-динамически с новой силой, приобретает
больший динамический характер.
В группе новообразований от прилагательных, причастий и частиц сразу
же бросается в глаза перевес производных на -heit и -keit, в то время как ряд
других возможностей для субстантивации партиципов и прилагательных не
используется. Сложно судить, есть ли подобное употребление данного типа
словообразования лишь отражение того, что происходит в современном языке.
Фактом является лишь то, что сейчас более всего используются суффиксы -heit,
-keit и –igkeit, в то время как суффиксы -e, -nis, -tum незаслуженно забываются.
Хайдеггер также не использует суффиксы -ei, -ling, -schaft и префикс ge- вместе
с суффиксом -e. Тем больше придаётся значение методу субстантивации без
каких-либо аффиксов. Сравнение количества неузуальных переосмысленных
новообразований на -heit и -keit в текстах Хайдеггера с другими авторами четко
указывает, насколько важен этот тип номинализации в языке «Бытия и
379
Времени». Особенно много таких образований в тех местах «Бытия и
Времени», где Хайдеггер проводит феноменологический анализ. С учетом
данного факта, не удивительно, что присутствующая деривационная модель
представлена столь широко. В поздних работах Хайдеггера картина меняется.
Лексемы на -heit и -keit встречаются реже, а другие средства используются
намного чаще. В основном подобные новообразования происходят из
феноменологически-аналитических частей «Бытия и Времени», где занимают
место центральных терминов.
Наиважнейшими
Gewesenheit,
из
них
Geworfenheit,
являются
Befindlichkeit,
Innerweltlichkeit,
Erschlossenheit,
Innerzeitigkeit,
Offenbarkeit,
Zuhandenheit.
Различные субстантиванты Хайдеггера а также образованные им
прилагательные, которые чаще всего состоят из двух компонентов, показывают,
что Хайдеггер некоторые понятия, которые вербализуют определенный тип
мышления и создаются по новым моделям самим автором, субстантивировал и
превратил в предмет следующих высказываний: Abkünftigkeit, Angänglichkeit,
Aufenthaltslosigkeit,
Mitbefindlichkeit,
Hinausgesprochenheit,
Sichtlosigkeit,
Umwegigkeit,
Innerweltlichkeit,
Jemeinigkeit,
Umweltlichkeit,
Vielgültigkeit,
Vorentdecktheit, Weltmässigkeit, Wertbehaftetheit, Zeughaftigkeit, Zuhandenheit.
Сразу же бросается в глаза большое количество производных от причастий,
которое подметил уже Ханц Штольтенберг в своих трактатах по языку
немецкой философии. По Штольтенбергу, как раз именно этот тип образования
абстрактных существительных на -heit (в чем он противоречит Вустману,
который говорит, что наиболее распространены образования на -ung), в
современном немецком языке используются очень широко. У Хайдеггера
содержатся также следующие неузуальные переосмысленные конструкты:
Enthülltheit,
Geworfenheit,
Erschlossenheit,
Gelichtetheit,
Hinausgesprochenheit,
Gestimmtheit,
Hineingehaltenheit,
Gewesenheit,
Unferborgenheit,
которые, за исключением двух, относятся к наиважнейшим понятиям его
ранней терминологии. Целый ряд производных от прилагательных в принципе
380
сводится к глагольным корням, адъективация которых придала им некое
содержательное
дополнение,
например,
Abkünftigkeit,
Angänglichkeit,
Befindlichkeit, Befremdlichkeit, Mitbefindlichkeit, (Un-) bedeutsamkeit. Рядом с
этими именами в терминологии Хайдеггера встречаются и основы глаголов, от
которых произведены эти субстантиванты, а также различные другие
производные от них.
Можно утверждать, что производные различных глагольных форм
прилагательных или же сложных слов являются признаком особого дефицита
абстрактных существительных для репрезентации особого типа мышления,
которое свойственно М. Хайдеггеру. Свойства, состояния, а также отношения
превращаются,
таким
образом,
в
некоторые
конструктивные
объективированные понятия. По данным грамматики Дудена, там, где
присутствуют двойные формы типа Größe к Großheit, Gänze к Ganzheit и т.д.,
форма на -heit обозначает менее конкретное понятие [Duden-Grammatik 1995].
В общем и целом, образования на -heit встречаются в более общих абстрактных
контекстах (если рассматривать хайдеггеровские пассажи в поздних работах).
Субстантиванты, образованные без помощи каких-либо производных
средств: das Nichthafte, das Syn-hafte, das Umhafte, das Unvertraute, das
Unzusammen, das Vorhafte, das Zeithafte.
Существует
также
группа
слов,
формально
являющихся
субстантивантами от сложных слов, либо от производных, которые выступают
как неузуальные переосмысленные конструкты в работах Хайдеггера.
Указанные
лексемы
лишь
формально
являются
субстантивантами
от
прилагательных. Вообще же эти конструкты образованы напрямую от частиц.
Вообще же суффикс -haft в немецком языке образует прилагательные от
безличных существительных с основным значением обремененности чем-либо,
наделённости чем-либо, как говорил Хенцен. Но Хайдеггеровские образования
не соответствуют подобному описанию. Самое примечательное в данных
суперконструктах то, что в основе этих новообразований лежат не
381
прилагательные, а частицы, нормальная языковая функция которых не
позволяет воспринимать их как обозначение признака.
Когда Хайдеггер говорит о таких вещах, как das Umhafte der Umwelt
[Heidegger 1967: 66], Hiermit bringen wir doch das Nichts unter die höhere
Bestimmung des Nichthaften [Heidegger 1971: 28], Syn-haften der Anschauung und
desVerstandes [Heidegger 1991: 64], mithaften In-der-Welt-sein [Heidegger 1967:
118],
он
освобождает
частицы
от
всего
наносного,
производит
их
этимологическое переразложение и вновь формирует понятие на луче
феноменологической рефлексии и, кроме того, посредством ноэм-доминант
присущих суффиксам придает им форму признаков. Подобные образования
могут использоваться тогда, когда идет речь о структурах и отношениях.
Штольтенберг неправильно судит о таких феноменах Хайдеггера, как Mithaft,
das Umhafte. Он полагает, что суффикс -haft в этих словах актуализирует
периферийные ноэмы глубинного содержания behaftemit, что, однако, не
находит отражения в контекстуальном смысле суперконструктов как единств
[Schöfer 1962: 167]. У Хайдеггера суффикс -haft синонимичен суффиксу -artig,
и все же различие между этими двумя суффиксами лежит в линии общего
развития.
Таким образом,
производные
Хайдеггера понятны
лишь
в
вертикальном контексте именно его философских категорий и их нельзя
заменить штольтенберговскими описаниями. Лексемы, используемые М.
Хайдеггером параллельно: unzusammen, das Unvertraute относятся к уже
описанной
группе
и
являются
противоположными
по
смыслу
субстантивированным конструктам Zusammen и das Vertraute.
Морфологические характеристики новообразованных слов обусловлены
синтаксисом
–
развертыванием
контекстными
новых
употреблениями,
смыслов.
неузуальногосмыслопорождения
В
философов
сопровождающимися
целом,
мы
при
сталкиваемся
анализе
с
двумя
радикально различными ситуациями – со словом отрефлектированным и со
словом нерефлектированным. В первом случае слово рефлектируется самим
создателем суперконструкта, и в этом случае реципиенту необходимо
382
повторить путь продуцента, во втором случае этого не делается. Именно этот
последний случай чаще всего присущ философским текстам, большинство
новообразований является производными в акте ноэматической а не
феноменологической
философскими
рефлексии.
высказываниями,
Мыслительные
самими
акты,
выражаемые
философами
понимаются
нерефлективно (т.е. на уровне «здравого смысла») и должны определяться нами
интуитивно.
6.6. Трансформации как метасредства в декодировании имманентного
многомерного смысла
Проблема декодирования имманентного смысла при интерпретации
философского дискурса тесно связана с возможностями самого прочтения
философского текста.
Совершенно
обязательным
выступает
процесс
трехчленного
декодирования (наряду со смысловосприятием и смыслопорождением на
третьем уровне абстракции, в дополнение присутствует и смена кода
продуцента на код реципиента – однако это не просто нечленимая
эвристическая деятельность, вполне реально вычленить трансформационные
модели,
участвующие
в
этом
процессе).
Порождение
адекватного
распредмеченного смысла при декодировании предполагается лишь в условиях
адекватного и эффективного декодирования исходного опредмеченного смысла
текста.
Эти процессы необходимо учитывать как при декодировании, так и при
перекодировании в новом лингвокультурном пространстве, при интерпретации.
Прежде всего это касается неузуальных новообразований философского
дискурса и переосмысленных в результате этимологического переразложения
конструктов, образованных в результате языковой игры или комплексной
текстовой игры, служащих для вербализации мышления на границе и за
границами языка как такового.
Мы в нашей диссертации разделяем комплексную текстовую игру на две
пары разновидностей: внутритекстовую – внешнетекстовую, и вертикальную
383
(реализация нескольких значений языкового знака, употребляемого один раз) –
горизонтальную (многозначный языковой знак появляется, по меньшей мере,
два раза, сначала с одним своим значением, затем с другим). «Эффект игры
слов обусловлен непредсказуемостью того или иного звена в речевой речи и
неожиданностью восприятия двух значений одного слова. Игра слов
посредством эффекта деавтоматизации восприятия текста привлекает внимание
к самой форме слова» [Мироненко 2006: 46].
Феномен «языковой игры» в текстах представлен различными языковыми
средствами, среди которых прослеживаются сдвиги в значениях, конверсии,
заимствования, которые представляют особую трудность для перевода.
Поэтому применяются особые интерпретативные трансформации, при этом
частотным оказывается употребление трансформированного описания для
воссоздания смысла в процессах понимания или повторной передачи смысла,
который был изначально заложен автором.
Образование расширенного понятия либо понятия с меткой сущностной
характеристикой и эффектом многоуровневого смысла происходит при
создании новых конструктов или создании описательных именных сочетаний и
одновременной их расшифровкой в обыденном языке или же в другой
лингвокультуре (процессы в данном случае очень сходны). Например, в
немецком языке те же самые процессы осуществляются при иной расшифровке
уже имеющихся языковых единиц, но переосмысленных в русле нового знания
[Мироненко 2006: 48].
В наиболее концентрированной форме когнитивные возможности игры
слов
в
сопоставляемых
языках
проявляются
при
контаминациях.
Семантический анализ позволил исследовать процесс перераспределения
смысла как результата взаимодействия когерентных источников, образующих
игру слов или каламбур и объединенных контекстом, который является
условием когерентности. Различные структурные типы интерпретативных
соответствий определенного структурного типа оригинальной игры слов
384
эксплицируют процесс интерференции как ментальный механизм в сознании
реципиента философского дискурса.
В основе образования игры слов в текстах лежит нестандартная
спонтанная ассоциация, которая условно может быть описана в терминах
интерференции (определяющее значение в процессе перераспределения
семантических признаков имеет контекстуальная обусловленность игры слов,
которая является условием когерентности компонентов, вступающих во
взаимодействие).
При принципиальной интуитивной (ноэматической) понятности игры слов
ее интерпретативные соответствия все же воспринимаются как «чужеродные» в
рамках конкретной лингвокультуры. «Чужеродность» соответствия зависит
главным образом, от степени индивидуальной или культурной маркированности
оригинальной игры слов. Типы интерпретативных соответствий: полная
трансляция (сохранение игры, но возможное замещение элементов новыми
личностными ноэмами), если компоненты игры понимаются не просто
адекватно, но в них вкладывается по большей мере тот же смысл, что и при
порождении; частичная трансляция (изменение не только компонентнов, но и
метаединиц – перестроение схемы понимания); отсутствие трансляции (попытка
истолковать, выразить с помощью структур обыденного языка, часто
приводящая к потерям компонентов и деструкции суперструктуры).
Интерпретация в случае текстов потока сознания или «языковой игры»
заключается в «перекодировке» текста, порожденного в текст, индивидуально
воспринятый, поскольку речь идет не столько о создании эквивалентного
вербального текста, сколько о передаче особых оттенков, а также всей
совокупности формальных, семантических и образных составляющих для
достижения
коммуникативно-прагматического
эффекта,
равноценного
исходному.
Опыт работы с различного вида текстами и встречающимися в них
сложными образованиями свидетельствует о обязательности прояснения
интерпретативных особенностей окказиональных явлений смыслопорождения,
385
в том числе, описанных выше случаев. Адекватное перекодирование отдельных
образований и цельного текста в рефлексивной реальности связано с
распознаванием присущих подобным образованиям, возникшим в результате
«языковой игры», парадоксального мышления или – по окказиональной
авторской деривационной модели, – значения и смысла, с проблемой
перекодирования значения в его смысл. О-сознание значения таких языковых
единиц затруднено их сложной структурой, многозначностью компонентов,
необходимостью
предварительно
разбить
уже
порождённую
языковую
единицу, представляющую собой комплексное иерархическое единство, на
отдельные, связанные по смыслу группы и т.п.
Анализ текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям,
показал, что в них широко представлены подобные сложные единицы. Мы
исследовали структуру и семантику как «чистых» единиц, состоящих из имен
существительных, так и «смешанных», имеющих в своем составе причастия
прошедшего времени, имена прилагательные, числительные, предлоги и т.д.
Очень часто такие многокомпонентные новообразования, как, например,
встречающиеся у М. Хайдеггера композиты, графически оформлены через
дефис, или же, как мы можем наблюдать у того же Хайдеггера, это единицы
нового этимологического переразложения.
При образовании некоторых терминологических или экспрессивных
единиц новой семантики по окказиональным или «игровым» деривационным
моделям и слов общей лексики в большинстве случаев им (как в случае
внутрилингвокультурного, так и межлингвокультурного понимания) присущ
один и тот же инвентарий словообразовательных средств, но на отдельные
словообразовательные элементы ложится иная нагрузка, способная стать
наиболее информативно-насыщенным элементом семантики и ведущим
признаком номинации.
Перейдём непосредственно к способам адекватной передачи смысла в
окказиональном
образовании
при
интерпретации.
При
анализе
трансформационных решений наряду комплексными решениями для передачи
386
неузуального многомерного смысла, которые имеют как эквивалентные, так и
контекстуальные соответствия, обнаруживаются и некоторые окказиональные
единицы или же переосмысленные единицы, имеющие привычную форму, но
подвергшиеся этимологическому переразложению или переосмыслению, для
которых нет прямых соответствий. Смысл текста является категорией
экстралингвистической и субъективной, а различия в нормах речевого
поведения и экстралингвистическом опыте отравителя и получателя сообщения
объясняются не только личностными характеристиками, но и объективными
причинами,
а
именно,
принадлежностью
продуцента
текста
и
реципиента/интерпретатора к различным культурно-историческим коллективам
(вследствие
дистантности
интерпретативные
в
пространстве,
преобразования
времени
могут
и
являться
т.п.),
поэтому
следствием
экстралингвистических причин.
Как, например, в нашем случае при интерпретации новых иерархически
структурированных многоуровневых смысловых систем, порождаемых на
основе окказиональных деривационных моделей, которые не известны
реципиенту, или же понимаются им совершенно по другому. Чтобы
компенсировать дифференциал в значениях получателя и отправителя,
реципиент прибегает к генерализации в распредмечивании смысловых
конструктов, а уже затем по-новому структурировать и опредмечивать их.
В данном случае мы имеем дело с текстами философии и «потока
сознания». Этот факт, а также то, что новообразования относятся к структурам
вновь порожденным, или же переосмысленным, заставляет нас применять
следующие типы интерпретативных трансформаций:
1)
подбор общеупотребительного эквивалента с близким значением
ноэм ядерной структуры;
2)
полное
следование
схеме
действования,
предписанной
продуцентом, с частичными потерями при структурации в процессе повторного
опредмечивания;
387
3)
разъясняющая модель с использованием средств естественного
обыденного языка с потерей многомерности.
Рассмотрим применение этих способов на практике.
Mit anderen Worten: jegliche Apodiktizität, inklusive dieser hier, jeglicher
diskursive Terrorismus, jedes «so-und-nicht-anders-ist-es-gewesen», jeder Versuch,
nachweisen zu wollen, wie etwas – ein historisches Ereignis, eine Person, ein Text
etc. – «wirklich war», verhindert Objektivität, verschleiert Gewesenheit, entwirklicht
Wirklichkeit [Seidel URL: http://seidel.jaiden.de/george.php]. – Другими словами,
какая-либо основанность на логической необходимости, включая какой-либо
дискурсивный «терроризм», каждое «утверждение того, что все будет так,
а не иначе», каждая попытка подобного рода стремятся подтвердить то,
что какое-либо историческое событие, личность, текст и т.д. – «имело место
быть».
Это
препятствует
объективности,
скрывает
прошлое,
подтверждает действительность.
В данном случае предложение-имя Йорга Зайделя so-und-nicht-anders-istes-gewesen не возможно проинтерпретировать, не прибегая к разрушению
структуры языковой репрезентации, что не удивительно, так как конструкт
состоит из семи отдельных компонентов. Мы постарались подобрать схожий по
смыслу эквивалент в другой лингвокультуре, однако, это приводит к
значительным
потерям
концептуализируемого
и
понятия
деструкции
исходного
метасвязей
текста,
мысль
в
структуре
как
процесс
рефлексии и о-сознания при ситуации, когда реципиент оказывается в тупике,
теряется в узусе перевыражения средствами обыденного языка.
Uns, den Zu-spät-Gekommenen, hilft dabei die historische Entfernung
[Ibidem]. – Нам, людям, живущим намного позже, помогает в этом
отстраненность в историческом плане. Как мы видим, часть композита
gekommen является третьей формой глагола kommen, если его интерпретировать
без
соответствующих
изменений
в
принимающей
лингвокультуре,
то
получилось бы нечто вроде «пришедшие намного позже». Как мы видим,
смысл при подобном перевыражении сильно искажается. Элемент spät
388
указывает на действие, которое происходит позже. Поэтому у нас рождается
соответствующее интерпретативное толкование.
Mit dem letzten Gedicht des Algabal-Zyklus, «Vogelschau», dem vielleicht
vollkommensten, manifestiert, im Sinne des Wortes, George noch einmal –
wahrscheinlich um den Abschied wissend – eindrucksvoll seinen l'art-pour-l'artÄsthetizismus … [Seidel URL: http://seidel.jaiden.de/george.php] – С последним
стихотворением из цикла «Алгабал», «Вид с высоты птичьего полета»,
вероятно, самым совершенным, в смысле слов которого он, вероятно, на
прощание еще раз показал свой эстетизм культуры для культуры…
Hört man genau hin, so ist die latente Gewalt hinter der seelischen Kulisse
melancholischer Empfindsamkeit nicht zu leugnen, etwa in der Wenn-DannKausalität, die ein anderes, erklärtermaßen geliebtes Leben mit dem eigenen
belastet, in gewisser Weise erpresst [Ibidem]. – Если внимательно прислушаться,
то нельзя отрицать скрытую за кулисами меланхолической души силу
чувствительности. Что-то, в причинной связи того, что будет или может
быть, обременяющее так полюбившуюся размеренную жизнь собственным,
особым способом.
Также очень часто мы встречам в текстах аналитической философии
субстантивированные инфинитивы, которые в данном конкретном случае
представляют собой композиты. Языковой процесс, который обозначается
субстантивацией, в грамматиках чётко отграничивается от словообразования с
использованием аффиксов: субстантивация не нуждается в каких-либо
формальных средствах и не образует новых слов в том смысле, в каком это
делает производное словообразование. Каждое слово или словосочетание
распознаётся
в
большинстве
западноевропейских
лингвокультур
по
присутствию артикля как существительное или же сочетание с ним. Подобный
способ словообразования имеется во всех индоевропейских языках, однако
продуктивность его не везде одинакова. Немецкий язык использует его
предпочтительнее, чем другие, что можно проследить и в разножанровых
текстах аналитической философии, где используется множество таких лексем.
389
С грамматической точки зрения субстантивированный инфинитив – это не
постоянное образование, оно многогранно. Йоханес Эрбен писал, что
инфинитив с местоимёнными словами (das, dies, ein, sein) или с предлогом
может нести функцию существительного, при этом определители, в иных
случаях встречающиеся с существительными, оказываются подчиненными ему.
С другой стороны, инфинитив может сохранять свои адвербиальные
определения и образовывать с ними тесное единство, при этом определители
часто стоят перед инфинитивом, например: durch langes In-den-Akten-Blättern.
Более
того,
субстантивированный
инфинитив
может
встречаться
без
формальных признаков, как и любое существительное, например, Zeugen eines
Großwerdens. И появляется во всех вышеперечисленных комбинациях, на что,
однако, никогда в своем анализе не указывал Йоханнес Эрбен. Далее приведем
комментарий примеров:
Gelassenheit will somit auch nicht nur ein Verzichten sein, sondern ein viel
schwierigeres Verzichten-Können, das aus der Einsicht in die letztendliche
Sinnlosigkeit allen irdischen Strebens geboren werden muss [Seidel URL:
http://seidel.jaiden.de/george.php]. – Настоящая свобода будет проявляться не
только в отказе, но и во многом более трудной возможности самого
отрицания,
которое
должно
родиться
из
познания
полнейшей
бессмысленности всех земных стремлений.
Sowohl Schöpfer als auch Geschöpf wissen um das Dilemma des SchöpfenMüssens, um den Zwang zur Neuheit, die sich stets selbst überlebt [Ibidem]. – Как
создатель,
так
и
(творчествосклонности)
творение
несут
необходимости
внутреннюю
создавать
что-то
дилемму
новое,
принуждение к новшеству, которые постоянно обновляются.
Субстантивированные инфинитивы делают возможным мышление о
движении или состоянии в его общности. Этого они добиваются, как и nomina
actionis, к которым в большинстве и причисляются, и которые в греческом и
немецком языках одновременно с субстантивацией чистых глагольных форм
превалируют над другими способами словообразования. В сравнении с nomina
390
actionis на -ung и -nis субстантивированные инфинитивы проявляют большую
продуктивность: обозначают действие или состояние понятий, но более
наглядно,
так
сказать,
мысленно,
они
не
переходят
полностью
из
динамического глагольного статуса в класс существительных. По Й. Эрбену,
производные на -ung относятся к отглагольным именам. Они служат в
содержательном
смысле
для
образования
nomina
actionis
и
«слов,
обозначающих результат действия». Пример:
Nicht um ein als Territorium zu denkendes Land handelt es sich, sondern um
das Gebiet der Sprache, das Sprachland und eben das expandiert mit jeder neuen
Wort-Ding-Entsprechung [Seidel URL: http://seidel.jaiden.de/george.php]. – Речь
идет о территории не как о гипотетическом пространстве, а как об области
языка, мире функционирования языка, и как раз он расширяется с каждой
новой денотацией.
Предложения-инфинитивы не являются словотворчеством в прямом
смысле, в них лишь проявляется желание приблизить различные явления к
пониманию с помощью уже имеющихся в наличии языковых элементов. Если
сравнивать возможности выражения в композитах и новообразованных словах,
то нужно сказать, что первый способ интерпретации удобнее. Второй способ
требует
от
читателя
целенаправленные
и
больших
усилий
содержательные
и
понимания.
образования,
Композиты
однако
они
–
плохо
соотносятся с так называемым чувством языка.
Älter noch ist die Dichtung als Sein-Könnende Geschichte, die Dichtung des
Magier, Schamanen, des Zauberers, der nicht nur die gedichteten Korrelate zu den
materiellen und immateriellen Dingen kannte – das Zauberwort, den Zauberspruch –
sondern auch Zukunft sah [Ibidem]. – Поэтика еще старше, чем История
материальных преобразований действительности, поэзия мага, шамана,
волшебника,
который
знал
не
только
созданные
соответствия
к
материальным и нематериальным объектам – заклинания, но и видел будущее.
Кроме того, нам встречаются и другие субстантивированные элементы,
которые противоречат грамматической норме. Причина этого не только в том,
391
что данные образования от частиц не являются однозначными, но и в том, что в
такой форме они не встречаются ни в одной грамматике немецкого языка,
другими словами, относятся не к о-сознаваемому в формальной логике языка, а
являются понимаемыми рефлективно. Именно своей необычностью они и
интересны. Приведенные ниже примеры можно отнести к композитам,
выраженным в форме субстантивированных частиц.
Jedenfalls haben wir es nicht mit einer allgemeingültigen Aussage zu tun, die
demnach auch keine philosophische Relevanz beansprucht – insofern als Philosophie
nur deskriptiv, reflexiv wirksam sein kann, – sondern mit einem Diktum oder anders:
es wird eher festgesetzt als festgestellt und auch diese Festsetzung hat eher Gültigkeit
im
Georgeschen
Für-Sich
als
im
An-und-Für-Sich
[Seidel
URL:
http://seidel.jaiden.de/george.php]. – Во всяком случае, мы не должны делать это
с общеупотребительным высказыванием, которое не претендует на какуюнибудь философскую релевантность – поскольку философия может быть
эффективной лишь при описании и рефлексивном акте: оно скорее просто
фиксирует, чем определяет, а это определение имеет силу скорее в смысле
«для себя» чем в смысле «для себя и других».
Каждый речевой жанр или область практической деятельности человека
определенным
образом
структурируют
и
обсуждают
окружающую
действительность, представляя некий дискурс, макротекст, включенный в
определенный социокультурный фреймовый фон. Так как дискурс – связный
текст
в
совокупности
с
экстралингвистическими
–
прагматическими,
социокультурными, психологическими и др. факторами (текст, взятый в
событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах
их сознания (когнитивных процессах)), то тексты аналитической философии,
рассчитанные и рассматриваемые именно в конкретном семиозисе, порождают
новые, латентно уже содержащиеся в парадигматической ткани языка смыслы
на основе ноэматической иерархической структуры.
392
Сопоставительный
анализ
оригинальных
текстов
различных
лингвокультур (немецкой, английской, японской и русской) и текстов перевода
обнаруживает, что наиболее продуктивными способами перевода образованных
по новым моделям окказиональных многоуровневых смысловых конструктов в
текстах философии являются:
1)
подбор
русского
эквивалента
или
общеупотребительного
словосочетания (реже – слова) с близким значением;
2)
трансформационный
перевод
(окказиональный
переводческий
эквивалент);
3)
описательный (разъяснительный) перевод.
Это
в
общих
чертах
соответствует
моделям
интерпретативных
трансформаций, описанным выше. В результате можно выделить релевантные
для интерпретации четыре группы окказиональных дериватов с новым или
повторно структурированным смыслом, и соответственно им – наиболее
эффективные способы адекватной интерпретации.
Во-первых – это узуальные дериваты. Такие сложные единицы
фиксируются
всеми
существующими
одноязычными
и
двуязычными
словарями, а потому наиболее продуктивным способом интерпретации данного
вида структурных единиц служит подбор эквивалентного соответствия,
который закрепляется в понятийном словаре конкретной сферы знания.
Во-вторых – это относительно узуальные сложные дериваты. Подобные
сложные новообразования чаще всего интерпретируются повторение пути
порождения
и
полным
следованием
схеме
понимания,
предложенной
продуцентом, однако они в любом случае воспринимаются как единое целое,
часто не имеющее отношения к изначальным составляющим его элементам, с
введением новых уровней смысловой иерархии.
Третья группа объединяет в своем составе новообразования со
свойствами производимости, нормативности, изолированного понимания. Как и
предыдущая группа, подобные дериваты иногда претерпевают нулевую
393
интерпретацию, понимаясь на уровне ноэматической рефлексии, но гораздо
чаще анализируются компонентно, в структуре лексем обыденного языка.
Четвертая группа объединяет различного вида окказиональные дериваты
с новым многоуровневым иерархически структурированным смыслом на
основании наличия свойств творимости, новума, изолированного понимания,
но они не обладают общепринятостью, нормативностью, частотностью
употребления.
Эти
единицы
требуют
интерпретации
только
в
виде
окказионального интерпретативного соответствия, построения собственной
деривационной модели, порорждающей индивидуальный смысл реципиента.
Выводы по шестой главе
В данной главе были рассмотрены проблемы вычленения и структурации
метаединиц
в
процессах
смыслопорождения
и
декодирования.
Проанализировав динамические схемы действования, строящиеся на основе
метаединиц и лежащих в их основе элементов (ноэм, констант и т.д.), можем
сделать следующие выводы.
1.
Метаединицы,
релевантные
для
функционирующие
декодирования,
в
философском
одновременно
тексте
и
выполняют
общеязыковедческую функцию описания и функцию единицы действования с
текстом. Они существенны только для декодирующего понимания. Наличие
метаединиц – одно из звеньев задействования мыследействования при
декодировании и понимании, они репрезентируют не явления текста, а
взаимодействие
интерпретатора
с
текстом.
Метаединицы
являются
надязыковыми конструктами, иерархически структурирующими единицы,
частные смыслы и средства, что особенно заметно при переводе с одного языка
на другой: частные смыслы и средства исчезают, метаединицы сохраняются и
обеспечивают международное, межнациональное понимание, перерождение.
2.
Построение на основе метаединиц общих схем играет роль
ограничения в понимании, это барьеры для реципиента, определяющие сферу
бытования смыслов той или иной областью, иначе процесс развертывания
394
многомерного смысла и выстраивания все новых и новых рефлексивных актов
превратится в бесконечно расширяющуюся вселенную.
3.
Направленность
определяющей
порождающей
доминантой,
каждая
смысл
рефлексии
метаединица
есть
является
символ
всего
понимаемого объекта, а значит, способ построения метаединицы определяется
типом организации рефлексии, каждый конкретный рефлективный акт
репрезентирует феномен, стоящий в определенном отношении к по-нимаемому
объекту, к объективно данному общему смыслу.
4.
Для
прояснения
многоуровневого
смысла
необходимо
разграничивать следующие акты в процессе смыслопорождения:
1) определение сферы рефлективной деятельности для каждого из
актов
опредмечивания
понимания
смысла
в
процессах
порождения
(семантизирующего,
и
когнитивного,
распредмечивающего);
2) определение типа рефлексии, на луче которой
происходит
обращение к опыту в рефлексивной реальности;
3) определение ценности рефлективной деятельности для самого
продуцента/реципиента текста.
5.
В процессе переразложения и порождения нового многомерного
смысла происходит осознание по мере усмотрения все новых и новых граней
структуры, выстраивающих объект понимания и повторного опредмечивания
смысла, на каждом новом витке герменевтического понимания выступают все
новые
метаединицы,
развертывая
динамические
«схемы
действования»
продуцента по производству высказывания.
6.
Практически
неисчислимое
количество
граней
смысла
в
философском тексте невозможно воспринимать единовременно, каждый раз
новое
распредмечивание
смысла
является
нецелесообразным
для
продуцента/реципиента, ускорить работу по декодированию смысла и
«осознанию» его помогают «схемы действования», основными узловыми
395
единицами которых и являются метасмыслы, метасредства, метасвязи,
прогностические стратегии, трансформации онтологической картины.
Различаются следующие метаединицы в узловых точках схем
7.
действования:
1.
Метасредства
–
это
некие
формально
выделенные
универсальные методики узнавания, описания и т.д. средств опредмечивания
текстовых содержаний. 2. Метасмыслы – это возможности «осознания»
единства и совокупности граней многомерного смысла, возникающие при
рефлексии над формами, которые призваны опредмечивать имманентные
смыслы. 3. Метасвязи – это связи узловых метасмыслов и метасредств в
суперконструкте общего смысла. 4. Прогностические стратегии, которые
реализуются у продуцента до или в процессе опредмечивания смысла, а у
реципиента определяются
константами
смыслопорождения
и «схемами
действования». 5. Трансформации онтологической картины, структурирующие
изменения картины мира, отношения к воспринимаемым феноменам.
Метаединицы имеют своей характерологической особенностью
8.
динамику у продуцента и имитацию действий по порождению смысла у
реципиента в рефлексивных актах герменевтического понимания; на луче
феноменологической рефлексии, направленном на эти метаединицы, возникают
новые
иерархически
структурированные
единства
суперструктуры,
включающие элементы новума, творимости и т.п.
9.
Внутреннее содержание не может развертываться лишь в одном
поясе мыследеятельности, общие глубинные структуры смысла действуют во
всех пространствах, усмотрение и рефлексия происходит только в одном поясе,
полного понимания смысла не происходит, общее понимание оказывается
дефектным, утрачиваются некоторые аспекты функционально-прагматической
доминанты.
Вот
те
случаи,
когда
понимание/о-сознание
оказывается
дефектным:
1. Рефлексия сосредоточена только в поясе МД, реципиент ошибочно
воспринимает рефлективную реальность своего опыта как единственно
возможную и подвергает её незначительным изменениям в ходе рецепции
396
текста, новые представления смешиваются с обыденной картиной мира
реципиента.
2. Рефлексия наличествует в поясе МК. При подобном дефектном восприятии
реципиент пытается усмотреть и распредметить средства и метасредства;
обнаруживая философскую метафору или же другое текстовое средство,
знакомое ему, он воспринимает его не как элемент, но как единицу,
прогнозирующую его дальнейшее понимание и из этого элемента выводит
единственную внешне актуализированную грань смысла, строя, как ему
кажется, смыслы и метасмыслы.
3. Рефлексия фиксируется в невербальном пространстве, что ведет только к
образному эстетическому восприятию, и как и во втором случае, приводит к
пустому усмотрению.
Во избежание данных ошибок понимания и о-сознания, как в актах
смыслопорождения, так и декодирования важно учитывать все возможности
распределения
элементов
внутри
суперструктуры,
а
также
избегать
универсализации той или иной метаединицы как «схемы действования», в чем
помогает задействование всех типов рефлексии, фиксируемой во всех поясах
мыследеятельности.
397
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высказывание Л. Витгенштейна «Границы моего языка означают границы
моего мира» как нельзя лучше выражает сверхзадачу проводимых в русле
филологической
феноменологической
герменевтики
исследований
иерархической ноэматической структуры смыслопорождающих механизмов. В
данной работе, с одной стороны, теоретически описаны возможности
филологической феноменологической герменевтики как нового подхода к
анализу смыслопорождающих механизмов, а с другой – представлена
ноэматическая иерархическя структура интенциально релевантных ноэм как
конструкт самого смысла языковых единиц любого уровня, проведен анализ
смыслопорождающих
механизмов
и
процессов
декодирования
смысла,
вербализованного в неузуальных переосмысленных конструктах, прежде всего,
на примере философского дискурса различных лингвокультур. Этот анализ
является
существенным
шагом
на
пути
к
построению
стройной
непротиворечивой и универсальной для всех лингвокультур теории смысла, мы
уверены в том, что результаты помогут пролить свет на элементарные
принципы смыслопорождения и построить столь необходимую и насущную для
современных герменевтических моделей классификацию трансформационных
моделей суперструктуры переосмысления и введения неузуальных понятий.
Мы полагаем, что главным для понимания процесса смыслопорождения
внутри философского дискурса является выявление ноэматики, стоящей за
вербализованными
в
текстах
культуры
мыследеятельностными
актами.
Другими словами, нами выявлены онтологические картины когерентных
понятий в разных языковых картинах мира, а также зафиксированы и
проанализированы рефлексивные акты, которые приводят к ноэматическим
изменениям.
Образуя новое понятие и пытаясь его концептуализировать в своей
работе, философ прибегает к построению окказионального образования на
основе данного ему изначально набора онтологических картин (фоновых
знаний – ноэм-культурных основ), но также на основе ноэм другого вида,
398
действующих
именно
в
философском
дискурсе,
а
именно
ноэм-
«интенциональных сущностей», и, в-третьих, наиболее дробных идеальных
образований, способных формировать смыслы как системы – периферийных
ноэм.
В
этих
устойчивого
системах
ядра
осуществляется
смысла.
Каждый
внутренняя
вид
ноэм
согласованность
возникает
благодаря
интенциональности актов сознания, и в силу их способности указывать на
онтологический конструкт – «душу» автора.
В процессе смыслопорождения при концептуализации понятий и
функционировании концептов культуры и познания на первый план выступают
периферийные ноэмы. Именно новые деривационные модели, интенция
продуцента при порождении и реципиента при декодировании смысла есть
основа акцентуации интенциально релевантных ноэм, а акт интендирования для
нас важен как при порождении, так и в процессе декодирования философского
текста.
Только
осмысленная
феноменологическая
рефлексия
интуитивной ноэматической даёт «осмысленность» текста;
вкупе
с
личностные
дифференциальные маркеры концептуальности продуцента и реципиента,
определяемые
ноэматикой
конкретного
индивидуума
и
конкретной
лингвокультуры, являются базовой конструкцией, на различных уровнях
которой и размещены доминантные, культурные и контекстуальные смыслы.
Движение ноэматической
структуры
смысла при образовании и
функционировании концепта происходит, как это ни парадоксально (в отличие
от других типов номинации), не от образа к идее, но, напротив, от априорно
заданного
«доопытным
путем»
концепта
к
непосредственному
опыту
восприятия перцепта.
Мысленная конструкция и смысл (в силу зависимости его от
содержательной стороны этой структуры и контекста) образуют неразрывное
целое
ассоциированных
элементов.
Конкретный
смысл
приписывается
определенной мысленной структуре, а эта конкретная мысленная структура, в
свою очередь, ассоциируется только с этим смыслом. (При изменении условий
ассоциирования «смысловое содержание смысла» как представления также
399
может изменяться.) Условия ассоциирования можно назвать и контекстом. При
этом мы должны абсолютно чётко понимать, что смысл, в отличие от значения,
не есть закреплённая в языке структура, он является свободным и обладающим
особой внутренней структурой ноэмных элементов, мобильных относительно
друг друга и относительно ядра самой структуры: смысл есть не семантическое,
а ноэматическое образование. Главное свойство смыслов (как представлений,
отражающих смысловое содержание мысли) состоит в том, что их можно
воспроизводить, анализировать и манипулировать ими, образуя новые
конструкции и не обращаясь к реальному функционированию значений слова.
Доказано, что в основе понимания как герменевтического акта
структурирования
возможности
и
порождения
трансформаций
лежит
как
проникновение
механизмов
в
глубинные
смыслопорождения,
представление о них как о процессе направленного (программирующего)
ассоциативного воздействия на рефлективную реальность и фиксации
рефлексии в различных мыследеятельностных актах со-знания и по-знания,
достигаемого при помощи различных лингвистических механизмов.
Способы мыслительной рефлексивной работы по порождению и
декодированию смысла как особой суперструктуры, отличной как от простого
содержания текста (прежде всего, наличием модальности, субъективности,
ситуативности и других констант порождения), так и от структуры значения в
языке, представляют собой «игру в бисер» с ноэмами как мельчайшими
квантами многомерного и многогранного смысла во всех его ипостасях, со
смыслами человеческого существования на основе создаваемых им самим
деривационных «правил» и моделей. Поэтому выбор для анализа философских
текстов, на наш взгляд, позволил наилучшим образом продемонстрировать
процесс «смыслопорождения в действии». Отметим также, что при изложении
концепции иерархической ноэматической структуры смысла мы обращались
лишь к тем её моментам, которые наиболее ярко способны проявиться в
собственном языке философов и формируемом каждый раз по-новому
философском терминологическом материале.
400
Как мы знаем, анализ смысла, тем более, смысла философского текста
требует
нестандартного
отношения
к
компонентам
содержания
(всем
возможным элементам суперконструкта), поскольку по определению он должен
вести к расширению границ познания, расширению границ возможностей
языка; вышеупомянутый анализ требует особого отношения, как и особого
понимания модальности и ситуативности. Логика движения, мутации,
преобразования,
рождения,
интерпретации
смыслов
приводит
к
нестандартному «использованию» возможностей, потенциально скрытых в
некоем наборе ноэм, спонтанно или намеренно порождающих иерархическую
конструкцию, высвечивающую ту или иную грань, релевантную в данном
контексте, в широком смысле этого слова.
При изучении проблемы смыслопорождения/смыслодекодирования, как
её общей концепции, так и методологического аппарата филологической
феноменологической герменевтики, мы были поставлены перед рядом проблем
разного уровня, решая которые, мы основывались на деятельностном
понимании языка, на описании языка не изнутри его самого, а в тесной связи с
сознанием и мышлением, культурой и духовной жизнью человека, а также
попыткой рассмотрения языка не только как системы знаков особого рода, но и
как системы для производства этих знаков, в основе которой лежит примарное
порождение смысловости, а не значимости.
Прежде всего, в работе установлены некоторые недостатки стандартных
методов семантического анализа и уже имеющихся методов филологической
герменевтики
для
полного
анализа
философского
смыслообразования
на
смыслопорождающих
грани
и
за
гранью
механизмов
языковых
возможностей, характерные моменты концепции ноэмной структуры смысла Г.
И. Богина. Для того чтобы наилучшим образом понять сущность данной
концепции, мы раскрыли специфику вербализованного мышления на примере
философских текстов и предстаили в этом три плана: 1) отношение текстов к
общеязыковой норме в аспекте порождающих механизмов, 2) их отношение к
философскому
узусу,
3)
анализ
непосредственно
речеязыкового
401
деривационного узуса «феноменологической рефлексии»; те же операции с
интерпретативными возможностями присутствуют при декодировании или
восприятии/ понимании смысла и «ноэматической рефлексии».
В целом, при анализе смыслопорождающих механизмов и возможностей
смыслодекодирования философов мы столкнулись с двумя радикально
различными ситуациями – с языковой единицей, отрефлексированной как
вовнутрь, так и вовне на базе феноменологического аппарата (в результате
порождения), и с языковой единицей нерефлексированной (в результате
восприятия/декодирования), или отрефлексированной на первом уровне по
принципу «ноэматической рефлексии». В первом случае слово рефлексируется
самим создателем «осмысленного» текста, во втором случае этого не делается,
и восприятие происходит на интуитивном уровне, хотя и с приближением к
акту интендирования, в результате прохождения реципиентом того же пути, что
проходит и продуцент текста. Именно этот последний случай чаще всего
присущ философским текстам.
Идеи, выраженные в философских текстах, самими философами
понимаются нерефлексивно (т.е. на уровне «здравого смысла»), но нами
должны пониматься на уровне феноменологической рефлексии. В нашем
распоряжении имеется только один научный способ их понимания –
лингвистический, в аспекте наблюдения за порождёнными текстами. Всякое
другое изучение зависит от лингвистического материала и должно на нём
базироваться.
Поставленная
в
данном
исследовании
цель
–
описать
возможности философского смыслопорождения в рамках научного предмета
лингвистики и создание нового методологического подхода филологической
феноменологической
определила
герменевтики
использование
как
метатеории
методологического
смыслоописания
аппарата
–
когнитивной
лингвистики, феноменологии, филологической герменевтики в едином и
неделимом пространстве.
Возможности
смыслопорождения,
особенно
его
окказиональных
деривационных моделей, периферийных случаев, представляющих собой
402
огромный интерес для расширения границ текстопостроения, чрезвычайно ярко
проявляются в философских текстах, созданных на основе «языковой игры»
или за гранью языка в тексте потока сознания. Парадокс конструкций
подобного рода заключается в том, что они стремятся к проявлению
трансценденции, которая сама по себе в языковом или даже речевом
выражении не нуждается. А потому философское смыслопорождение и
отличается такой изощрённостью, насыщенностью приёмами и ходами
феноменологической
рефлексии,
вариативностью,
многомерностью
и
многогранностью связей внутри иерархической ноэматической структуры
смысла. Проанализировав эти связи и их взаимоотношения вкупе с познанием
узловых элементов, привело нас к герменевтическому пониманию механизмов
смыслопорождения.
Лишь в том случае, когда языковые структуры «подстраиваются» под
мысль, что размывает их собственные границы и увеличивает потенции,
придаёт им мельчайшую «огранку», а также демонстрирует их «дремлющие» (в
языке), но проявляющиеся в речи при введении маркеров модальности,
ситуативности
и
субъективности
аспекты,
рождается
смысл
и
все
деривационные возможности смысла. В нашей работе мы продемонстрировали,
как в тексте в различных лингвокультурах происходит формирование
смысловых конструктов, каким образом и какие приемы и механизмы
«ограничивают» либо «освобождают» полёт смысла.
Ориентированность на использование аномальных, отклоняющихся от
канона языковых единиц, намеренное моделирование словообразовательных,
грамматических, синтаксических «ошибок» и их тиражирование в текстах,
поиск новых деривационных моделей для создания иерархической конструкции
и
высвечивание
затемнённых
граней
интенциально
релевантных
для
продуцента ноэм создают предпосылки для включения реципиента в процесс,
как минимум, пассивного (интуитивного) смыслопорождения. Автором
создается ситуация, которая подразумевает ответное моделирование смысла
читателем.
403
Чтение текстов требует активного восприятия и соучастия, и поэтому
смыслопорождение – это всегда проблема герменевтическая и мы решили её
доступными
нам
средствами
герменевтико-ноэматического
метода.
Полученные результаты можно сформулировать вкратце следующим образом.
Методологический характер концепции иерархической ноэматической
структуры
смысла
определяет
возможность
научного
отношения
к
смыслопорождению и научному изучению средств смыслопостроения и
рождения новых деривационных моделей в рамках научного предмета
лингвофилософии.
Философское смыслопорождение приводит к созданию особого рода
текстов, которые можно считать репрезентативными в отношении работы
феноменологической рефлексии. Данные тексты и представленные ими
порождающие механизмы можно назвать «мышлением на пределе языка».
Традиционный для языкознания вопрос соотношения мышления и языка
принимает следующий вид: «Какими свойствами должен обладать конструкт
для осуществления мышления, на которое ориентировано полностью «о-смысленное» смыслопорождение?».
Свободное установление и нарушение собственных правил и предписаний
является характерным приёмом настоящего изыскания, свободного от догматов
языка,
от
давления
вербальной
оболочки,
смыслопорождения.
Морфологические характеристики подобных конструкций (по сути – структур
сложнейшего ментального синтеза) обусловлены синтаксисом – контекстными
употреблениями, сопровождающимися развертыванием всё новых и новых
многоуровневых смыслов.
Анализ самих принципов и моделей смыслопорождения позволяет
безмерно расширить возможности функционирования языкового знака и тем
самым раздвинуть границы текста в целом. Отношение к языку и речи, которое
задается подобным типом анализа текста, ведет к расширению границ уже
самого языка, к попытке сохранить в языковой системе те возможности,
404
которые были вскрыты в результате анализа релевантных аспектов в речи в
каждой конкретной ситуации.
Смысловое восприятие единиц текста и, следовательно, смысловое
восприятие тех или иных отрезков речевой цепи периодически затрудняется.
При преодолении этих затруднений реципиент включается в специфическую
деятельность
–
деятельность
деятельность
сначала
понимания
ноэматической,
а
текста,
потом
а
и
соответственно,
и
феноменологической
рефлексии. Понимание имеет место лишь там, где надо преодолевать
затруднения или обрывы в смысловом восприятии текста; оно выступает как
активный процесс, который в основных аспектах совпадает с деятельностью
продуцента по порождению смысла в тексте.
Порождение нового смысла, его мутации при изменении состава ноэм
(которые не всегда могут быть представлены в языковом выражении)
активизируют
скрытые
противоречивых,
потенции
парадоксальных
языка,
заставляют
явлениях
его
размышлять
о
функционирования.
В
смыслопорождении активно проявляются интенции языковой личности к
переосмыслению старых форм и созданию новых.
В результате работы была выявлена специфика ноэматического подхода
при анализе семантики языковых единиц, для чего предварительно было
осуществлено теоретическое описание существующих в семиотике подходов;
определены основания и разработаны методы описания, а также принципы
формирования новых деривационных моделей и иерархии ноэматических
структур в философских текстах различающихся культур; определены
сущностные
признаки
философского
смыслопорождения:
иерархическая
ноэматическая структура философских понятий, статус ноэм концептуализации
в пространстве смысла, зависимость данной иерархии от типа лингвокультуры;
выявлены смыслопорождающие потенции ноэм различного вида.
405
Библиографический список
1.
Абрамов С. Р. Герменевтика, интерпретация, текст / С.Р. Абрамов. //
Stadia
Linguistica
–
2:
Язык
и
общество.
Лингвистика
текста
и
лингвостилистика. СПб., 1996. – С. 114-119.
2.
Абрамов
С.Р.
Сакральный
и
поэтический
текст
как
предмет
филологической герменевтики: автореф. дис. ... докт.филол.наук: 10.01.08 /
Абрамов Сергей Рудольфович. – СПб., 2006. – 34 с.
3.
Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания / В.Г. Адмони. –СПб.:
Наука, 1994. – 76 с.
4.
Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания / А.Ю. Агафонов. –
СПб.: Речь, 2003. – 296 с.
5.
Айдукевич К. Язык и смысл / К. Айдукевич // Логос. – 1999. – Вып. 7. – С.
67-93.
6.
Айрапетян В. Русские толкования / В. Айрапетян. – М.: Языки русской
культуры, 2000. – 208 с.
7.
Алексеев Н.Г. Заметки к соотношению мыследеятельности и сознания /
Н.Г. Алексеев // Вопросы методологии. – 1991. –№ 1. – С. 3-8.
8.
Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики / Н.Ф. Алефиренко. –
Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.
9.
Алефиренко Н.Ф. Ценностно-смысловая природа языкового знания / Н.Ф.
Алефиренко // Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. –
Волгоград: Перемена, 2001. – С. 3-11.
10.
Алефиренко Н.Ф. Этноязыковое кодирование смысла в зеркале культуры
/ Н.Ф. Алефиренко // Мир русского слова. – 2002а. – № 2. – С. 69-74.
11.
Алефиренко
Н.Ф.
Язык,
познание
и
культура:
когнитивно-
семиологическая синергетика слова / Н.Ф. Алефиренко. – Волгоград: Перемена,
2006. – 228 с.
12.
Алефиренко Н.Ф. Синергетика культурного концепта и знака в системе
языка и тексте / Н.Ф. Алефиренко // Культурные аспекты в языке и тексте: сб.
науч. тр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005а. – С. 8-21.
406
13.
Алефиренко Н.Ф. Введение в когнитивную фразеологию / Н.Ф.
Алефиренко.– LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2011. – 152 с.
14.
Аликаев Р.С. Язык в философской концепции Г.В. Лейбница / Р.С.
Аликаев //Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. –
2013.
–
Т.
15.
–
Владикавказ:
Издательство
Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова, 2013. – С. 18-24.
15.
Аликаев Р.С., Емузова Э.А. К проблеме восприятия и понимания текста /
Р.С. Аликаев, Э.А. Эмурзова // Вестник КБГУ, серия «Филологические науки».
– Выпуск 6. – Нальчик: КБГУ 2003. – С.27-30.
16.
Аликаев Р.С., Аликаева Л.С. Филологические особенности глубинной
интерпретации актуальных теологических понятий в творчестве Й. Г. Гаманна /
Р.С.Аликаев, Л.С.Аликаева // Межвузовский сб. Герменевтический круг: текст
– смысл – интепретация. – Армавир-Ставрополь-Пятигорск,2011. – C.133-145.
17.
Аликаев Р.С. Особенности вербализации философских концептов в
немецких научных текстах эпохи раннего Просвещения / Р.С.Аликаев //
Русская германистика. Ежегодник российского союза германистов.– Т.IV. –М.:
Языки славянской культуры, 2008. – С.291-303.
18.
Аликаев Р.С., Кажарова Д.С. Иерархическая организация информации в
научном тексте / Р.С.Аликаев, Д.С. Кажарова // Сб. «Актуальные проблемы
филологии и педагогической лингвистики».– Выпуск VIII. Владикавказ, 2006.
– С.191-20.
19.
Аликаев
Р.С.,
Бредихин
С.Н.
Философский
научный
текст
и
обобщенность его содержания / Р.С.Аликаев, С.Н. Бредихин // Сб. материалов
международной
научно-практической
конференции
«Морально-этические
аспекты и темпорально-экологические императивы инвенционного процесса
генерации новых научно-технических знаний». – Ставрополь: РИО ИДНК,
2014. – С.533-537.
20.
Алимурадов
О.А.
Семантико-синтаксические
свойства
OR-выска-
зываний в современном английском языке / О.А. Алимурадов // Романогерманская филология. Вып. 2. – Пятигорск: ПГЛУ, 2001. – С. 16-28.
407
21.
Алимурадов О.А. Значение, смысл, концепт – опыт разграничения / О.А.
Алимурадов
//
Университетские
чтения
–
2002.
Материалы
научно-
методических чтений ПГЛУ. – Ч. II. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002. – С. 137139.
22.
Алимурадов О.А. Значение, смысл, концепт и интенциональность:
(Система корреляций): дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Алимурадов Олег
Алимурадович. – Ставрополь, 2004. – 544 с.
23.
Алимурадов О.А. От вербализаторов – к концепту: опыт структурного
анализа концепта на основе семантики его вербализаторов (на примере
концепта REDNECK) / О.А. Алимурадов // Язык. Текст. Дискурс: Научный
альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. Г.Н. Манаенко. –
Выпуск 5. – Ставрополь-Пятигорск, 2007. – С. 59-70.
24.
Алимурадов О.А. Лексическое значение и смысл: проблемы и критерии
стратификации лексической семантики / О.А. Алимурадов // Pazhuhe. Article I
sh-e. Janollah Karimi-Motahhar of the Faculty of Foreign Languages. University of
Tehran Scientific Publication. – Tehran, 2008.
25.
Алимурадов О.А., Григорьева Н.В. Интеракциональная природа дискурса
и некоторые критерии его осмысленности / О.А. Алимурадов, Н.В. Григорьева
// Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2009.
– № 2. – С. 31-37.
26.
Альжанов Р.Г. К проблеме гносеологического статуса категории
идеального / Р.Г. Альжанов // Философские науки. – 1985. – № 2. – С. 143-146.
27.
Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2-х томах / Ю.Д. Апресян. – М.:
Языки русской культуры, 1995. – Т. 2. – 767 с.
28.
Аромов Р.А. Проблема смысла в контексте / Р.А. Аромов // Вопросы
философии. – 1999.– №6. – С. 23-35.
29.
Арутюнова
Н.Д.
Лингвистические
проблемы
референции
/
Н.Д.
Арутюнова // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 13. Логика и
лингвистика: Проблемы референции. – М.: Радуга, 1982. – С.5-40.
408
30.
Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Терия
метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 5-32.
31.
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки
русской культуры, 1998. – 896 с.
32.
Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность.
От теории словесности к структуре текста. Антология: сб. научн. тр.; под ред.
проф. В. П. Нерознака. – М., 1997. – С. 267-279.
33.
Бабина Л.В. Когнитивные основы вторичных явлений в языке и речи:
монография / Л.В. Бабина. – Москва-Тамбов: изд-во ТГУ им Г.Р. Державина,
2003. – 264 с.
34.
Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике
языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Ид. ВГУ, 1996. – 104 с.
35.
Бабушкин
А.П.
Архитектоническая
типология
пресуппозиций
в
диалогическом тексте / А.П. Бабушкин // Узоры ковра. Сборник статей научнометодического семинара «TEXTUS». – Вып.4. – Ч.1. – Ставрополь: Изд-во СГУ,
1999. – С.39-41.
36.
Бабушкин А.П. Язык и национальное сознание: вопросы теории и
методологии: науч. изд.: монография. / А. П. Бабушкин и др.; науч. ред.: З. Д.
Попова, И. А. Стернин. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2002. – 313 с.
37.
Бабушкин А.П. «Возможные миры» в семантическом пространстве языка
/ А.П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2001. – 86 с.
38.
Базылев
В.Н.
Сублогический
анализ
языка:
перспективы
исследовательской парадигмы / Н.В. Базылев // Дискурс, текст, когниция:
коллективная монография; Отв. ред. М. Ю. Олешков. – Нижний Тагил:
НТГСПА, 2010. – 496 с.
39.
Бакшеев Е.С. Понятия сакрального и нуминозного в традиционной
японской культуре / Е.С. Бакшеев // Материалы VI Всероссийской научной
конференции «Философии Восточно-Азиатского региона и современная
цивилизация». Вып. 6. – М., 2000.
409
40.
Баранов Г.С. Предпосылки метафорической референции: проблема
онтологии языка в аналитической философии / Г.С. Баранов // Вторые
Коптинские чтения. – Томск. 1997. – С. 18-22.
41.
Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста / А.Г.
Баранов. – Ростов-на-Дону, 1993. – 182 с.
42.
Баранов А.Н., Добровольский, Д.О. Лео Вайсгербер в когнитивной
перспективе / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский // Изв. АН СССР. Сер.лит. и
языка. – 1990. – №5. – Т.49. – С.451-458.
43.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.: пер. с фр. / Р. Барт;
сост., общ. ред. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
44.
Белый А. Символизм: книга статей / А. Белый. – М.: Мусагет, 1910. – 638
с.
45.
Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М.: Республика,
1994. – 528 с.
46.
Белянин В.П. Психолингвистика / В.П. Белянин. – М.: Флинта, 2003. –
232 с.
47.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: Пер. с фр./
Э. Бенвенист; общ.ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. – М.: Прогресс-Универс,
1995. – 456 с.
48.
Беседина Н.А. Морфологически передаваемые концепты: монография
/Н.А. Беседина. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 214с.
49.
Бессознательное: природа, функции, методы исследования. – Т. 3. –
Тбилиси, 1978. – 796 с.
50.
Бибихин В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Языки славянской культуры, 2002. – 416 с.
51.
Бижева З.Х. Адыгская языковая картина мира / З.Х. Бижева. – Нальчик:
Эльбрус, 2000. – 128 с.
52.
Бижева З.Х. Культурные концепты в адыгской языковой картине мира:
дис. ... докт. филол. наук: 10.02.09. / Бижева Зара Хаджимуратовна – Нальчик,
1999. – 297 с.
410
53.
Бирюков Б. Учение о смысле и значении / Б. Бирюков // Фреге Г. Логика и
логическая семантика: сборник трудов.; под ред. Кузичевой З.А. – М.: Аспект
Пресс, 2000. – 512 с.
54.
Богин Г.И. Схемы действий читателя при понимании текста / Г.И. Богин.
–Калинин: КГУ, 1989. – 69 с.
55.
Богин Г.И. Интендирование как одна из тактик понимания / Г.И. Богин //
Вопросы методологии. – 1992. –№3-4. – С.90-104.
56.
Богин
Г.И.
Обретение
способности
понимать:
введение
в
филологическую герменевтику / Г.И. Богин. – М.: Психология и Бизнес
ОнЛайн, 2001. – 516 с.
57.
Богин Г.И. Субстанциальная сторона понимания текста / Г.И. Богин. –
Тверь: ТГУ, 1993. – 138 с.
58.
Богин Г.И. Типология понимания текста/ Г.И. Богин. – Калинин: КГУ,
1986. – 106 с.
59.
Богин Г.И. Филологическая герменевтика / Г.И. Богин. – Калинин: КГУ,
1982. – 86 с.
60.
Богин Г.И. Интенциональность как средство выведения к смысловым
мирам / Г.И. Богин // Понимание и интерпретация текста.сб. статей. – Тверь:
ТГУ, 1994. – С. 8-17.
61.
Богомолов А.С. Проблема абстрактного и конкретного: От Канта к
Гегелю / А.С. Богомолов // Вопросы философии. – 1982. – № 7. – С. 139-151.
62.
Болдырев Н.Н. Перекатегоризация глагола как способ формирования
смысла высказывания / Н.Н. Болдырев // Известия АН. Серия литературы и
языка. – 2001. – Т. 60. – № 2. – С. 40-55.
63.
Болдырев Н.Н. Вторичная репрезентация как особый тип представления
знаний в языке / Н.Н. Болдырев //Философия науки. – 2001.–№ 4. – С. 79-89.
64.
Болдырев Н.Н. Когнитивная семанитка / Н.Н. Болдырев. – 2-е изд., стер. –
Тамбов: ТГУ, 2001. – 123 с.
65.
Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики /
Н.Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. -№ 1. – С. 18-36.
411
66.
Бондаренко Н.В. Метафора как структура смыслообразования и
трансцендентальных
смысловых
значений.
Когнитивно-прагматические
аспекты лингвистических исследований / Н.В. Бондаренко. – Калининград.
Калининградский государственный университет. 2001. – 170 с.
67.
Бредихин С.Н. «Языковая игра» как лингвистический феномен (на
материале философских текстов М. Хайдеггера): дис. ... канд. филол. наук
10.02.19 /Бредихин Сергей Николаевич – Нальчик, 2003. – 147 с.
68.
Бредихин С.Н. Филологическая феноменологическая герменевтика в
анализе смыслопорождения / С.Н. Бредихин // European social science journal. –
2012, 10 (26). – Москва-Рига: АНО «Международный исследовательский
институт». – Т. 2. – С. 201-209.
69.
Бредихин С.Н. Декодирование смысла в философском дискурсе:
основные
типы
трансформаций
суперструктуры
/
С.Н.
Бредихин
//
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 9 (27), в 2-х ч.
– Ч. 1.– Тамбов: Издательство Грамота, 2013.– С. 28-32.
70.
Бредихин С.Н. Иерархическая ноэматическая суперструктура vs. фрейм в
смыслопорождении концептуальных понятий [электронный ресурс] / С.Н.
Бредихин // Гуманитарные и социальные науки. – 2013. – № 2 – Режим
доступа:http://hses-online.ru/2013/02/10_02_19/ 13.pdf.
71.
Бредихин С.Н. К вопросу о феномене «языковой игры» философов и
писателей (Введение в теорию «Языковых игр» Л. Витгенштейна и
практические исследования на материале философских текстов М. Хайдеггера)
/ С.Н. Бредихин. – Ставрополь: Издательство СевКавГТУ, 2005. – 246 с.
72.
Бредихин С.Н. Общие принципы смыслопорождения окказиональных
образований
философского
дискурса
//
Вестник
Ставропольского
государственного университета. – Вып. 67 (2). – 2010. – С.128–134.
73.
Бредихин С.Н. Пролегомены к общей тории смысла философского
дискурса (введение в иерархическую ноэматику смысловых структур) / С.Н.
Бредихин. – Ставрополь: Ставропольское Издательство «Параграф», 2012. – 176
с.
412
74.
Бредихин С.Н. Трансформации в речевом потоке: производство смыслов
и управление деривационными моделями / С.Н. Бредихин // Вопросы
когнитивной лингвистики. – 2014. –№ 1 (038). – С. 115-124.
75.
Бредихин С.Н. Смыслотворчество как определяющая трансформация
суперструктуры смысла при рецепции философского дискурса / С.Н. Бредихин
//Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. –
2013. – № 3. – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2013. – С. 118-122.
76.
Бредихин С.Н. Феноменологическая рефлексия как основа понимания
многомерного смысла / С.Н. Бредихин // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – № 12 (30), в 2-х ч. Ч. 2. – Тамбов: Издательство Грамота,
2013. – С. 34-37.
77.
Бредихин С.Н. Этимологическое переразложение и синтез как базовые
механизмы дифракции и модификации суперструктуры смысла / С.Н. Бредихин
// Фундаментальные исследования. – № 6 (часть 2). – 2013. – Пенза: ИД
«Академия Естествознания», 2013. – С. 490-494.
78.
Бредихин С.Н., Карагёзиду Д.Г. Герменевтический круг в философском
тексте: методология и стратегия / С.Н. Бредихин, Д.Г. Карагёзиду // Сб.
материалов международной научно-практической конференции «Моральноэтические аспекты и темпорально-экологические императивы инвенционного
процесса генерации новых научно-технических знаний». – Ставрополь: РИО
ИДНК, 2014. – С.589-593.
79.
Брудный А. Бессознательные компоненты процесса понимания / А.
Брудный // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. – Т. 3. –
Тбилиси, 1978. – С. 98-102.
80.
Брунер Д. Психология познания / Д. Брунер. – М.: Прогресс, 1977. – 404 с.
81.
Бубер М. Я и Ты / М. Бубер. – М.: Высшая школа, 1993. – 177 с.
82.
Бурдье П. Практический смысл: пер. с фр. / П. Бурдье; общ.ред. пер. и
послесл. Н. А. Шматко. – СПб.: Алетейя; М.: Изд-во Ин-та эксперим.
социологии, 2001. – 562 с.
413
83.
Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа / Й.Л. Вайсгербер
пер. с немецкого вступительная статья и комментарии О.А. Радченко. – М.:
Едиториал УРСС, 2004. – 232 с.
84.
Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С.А.
Васильев. – Киев, 1988. – 237 с.
85.
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / А.
Вежбицкая; пер. с англ. А. Д. Шмелева под ред. Т. В. Булыгиной. – М.: Языки
русской культуры,1999. – 443 с.
86.
Вежбицкая
А.
Японские
культурные
сценарии:
психология
и
«грамматика» культуры / А. Вежбицкая // Сопоставление культур через
посредство лексики и грамматики. – М.: Языки славянской культуры. 2001. – С.
123-158.
87.
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов /А.
Вежбицкая; пер. с англ. А. Д. Шмелева. – М.: Яз. славян. культуры, 2001. – 288
с.
88.
Вейн А.М., Голубев В.Л. Проблема «смысла» и «значения» в
современной психотерапии / А.М. Вейн, В.Л. Голубев // Научно-техническая
революция и медицина. – М., 1973.
89.
Верещагин Е. М. Лингвострановедческая теория слова. /Е.М. Верещагин,
В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с.
90.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн. пер. с
нем. Добронравова и Лахути Д.; общ. ред. и предисл. Асмуса В. Ф. – М.: Наука,
1958 (2009). – 133 с.
91.
Витгенштейн Л. О достоверности (фрагменты) / Л. Витгенштейн // под
ред. А. Ф. Грязнова. – Вопросы философии. – 1984. –№ 8. –С. 142-149.
92.
Витгенштейн Л. О достоверности/ Л. Витгенштейн // пер. Асеева Ю.А.,
Козловой М.С. – Вопросы философии. – 1991. – № 2. – С. 67-120.
93.
Витгенштейн Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Новое в
зарубежной лингвистике. – Вып. XVI. – М., 1985. – С. 79-128.
414
94.
Власенко Н.И. К вопросу о необходимости учета прагматических
компонентов при переводе / Н.И. Власенко // III Международная научная
конференция по переводоведению «Федоровские чтения» 26-28 октября 2001 г.
– Тезисы докладов. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. – С. 15.
95.
Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления / Е.К. Войшвилло. – М.:
Изд-во МГУ, 1989. – 238 с.
96.
Вольский А.Л. Шлейермахер и его герменевтическая теория / А.Л.
Вольский. Герменевтика Фр. Шлейермахера и его герменевтическая теория.
/предесловие к переводу книги «Герменевтика». – СПб., 2004.– С. 5-40.
97.
Вольский А.Л. Об аллегорическом методе толкования текста/ А.Л.
Вольский // Текст-Дискурс-Стиль: сборник научных статей. – СПб: Изд. Санкт
Петербургского государственного ун-та экономики и финансов, 2004.– С.162171.
98.
Вольский А.Л. Философия языкотворчества/ А.Л. Вольский // Труды
высшей
религиозно-философской
школы.IV
Богословие.
Философия.
Культурология. – СПб.: ВРФШ, 1997. – С.174-180.
99.
Вольский А.Л. Философия М. Хайдеггера как языкотворческий процесс/
А.Л. Вольский // Мартин Хайдеггер и философия ХХ века. – Минск, 1997. –
С.115-122.
100. Вольский А.Л. Герменевтика поэтического текста/ А.Л. Вольский //
Понимание и существование. – Минск, 2000. – C.125-132.
101. Вольский
А.Л.
Герменевтика
поэтико-философского
текста/
А.Л.
Вольский // Герценовские чтения. Иностранные языки. – СПб.: изд. РГПУ им.
А.И.Герцена, 2005. – С.137-138.
102. Воркачев С.Г. Лингвокультурный концепт: типология и области
бытования: монография / С.Г. Воркачев. – Волгоград: Изд-во Волгоградского
гос. ун-та, 2007. – 399 с.
103. Воркачев С.Г. Наполнение концептосферы. Лингвокультурный концепт:
типология и области бытования: монография / С.Г. Воркачев. – Волгоград: издво ВолГУ, 2007. – С.8-93.
415
104. Вяткина Н.Б. Смысл и онтология в логике / Н.Б. Вяткина. – К.: Наукова
думка, 1991. – 122 с.
105. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.-Г.
Гадамер. пер. с нем./ общ.ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс,
1988. – 704 с.
106. Гак В.Г. Семиотические основы сопоставления двух культур / В.Г. Гак //
Вестник Московского университета. – Сер. 19. – 1998. – №2. – С. 117-126.
107. Галеева H.Л.
Понимание
текста
деятельности переводчика художественной
оригинала
литературы:
как
компонент
автореф.
дис.
...
канд. филол. наук: 10.02.19 / Наталья леонидовна Галеева. – Л., 1991. – 16 с.
108. Галеева Н.Л. Параметры художественного текста и перевод: Монография
/ Н.Л. Галеева. – Тверь: ТвГУ, 1999. – 155 с.
109. Галеева Н.Л.
Параметры
типологии
художественных
текстов
в
деятельностной теории перевода: автореф. дис. ... докт.филол.наук: 10.02.19 /
Наталья Леонидовна Галеева. – Екатеринбург, 1999. – 35 с.
110. Галеева Н.Л.
Художественность
текста
как
способ
пробуждения
рефлексии читателя / Н.Л. Галеева // Языковые подсистемы: стабильность и
динамика: Сб. науч. тр. Тверь: ТвГУ, 2002. - с. 88–92.
111. Ганжа Р. Трансцендентальный генезис смысла и теория значения / Р.
Ганжа // Вестник Московского университа. – Сер. 7. Философия. – 1998.–№ 1. –
С. 90-92.
112. Гегель Г.В.Ф. Сочинения / Г.В.Ф. Гегель – М., 1959. – Т.4: Система наук.
– Ч.1: Феноменология духа. – 444 с.
113. Гейвин Х. Когнитивная психология / Х. Гейвин – СПб.: Питер, 2003. –
272 с.
114. Герасимов В.И., Петров В.В. На пути к когнитивной модели языка / В.И.
Герасимов, В.В. Петров // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. –
М.:Прогресс,1988. – С.5-11.
115. Гильберт Д. Основания геометрии / Д. Гильберт – М.-Л.: Гостехиздат,
1948. – 491 с.
416
116. Гречко В.А. Семантическая терминология А.А. Потебни как система /
В.А. Гречко // Наукова спадщина О.О. Потебнi i сучасна фiлологiя. – Киiв,
1985. – С. 167-168.
117. Григорьева Т.В. Свет и тьма: языковая жизнь концептов: монография / Т.
В. Григорьева. – Уфа: БашГУ, 2006. – 140 с.
118. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т.А. Гридина –
Екатеринбург, 1996. – 215 с.
119. Грязнов А.Ф. Как возможна правилосообразная деятельность? / А.Ф.
Грязнов// Философские идеи Людвига Витгенштейна. – М.: ИФРАН, 1996. – C.
25-37.
120. Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт
– М., Прогресс, 1984. – 397 с.
121. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт –М.:
Прогресс, 1998. – 451с.
122. Гуревич Т.М. Представление о душе в японской лингвокультуре / Т.М.
Гуревич. – М.: Издательство ЦОП «Центр», 2001. 276 с.
123. Гурочкина А.Г. Понятия «скрипт» и «сценарий» и их роль в процессе
восприятия и интерпретации текста / А.Г. Гурочкина // Studia Linguistica-9.
Когнитивно-прагматические и художественные функции языка: сб. ст. – СПб.:
Тригон, 2000. – С. 235-239.
124. Гусев С.С. Значение и смысл языковых выражений с точки зрения
логико-прагматического подхода / С.С. Гусев // Современная логика: проблемы
теории, истории и применения в науке. – СПб. 2000. – С. 305-307
125. Гусейнов А.А. О чем мы говорим, когда говорим о диалоге цивилизаций
А.А. Гусейнов // Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире: VII
Междунар. Лихачевские науч. чтения, 24-25 мая 2007 г. – СПб.: СПбГУП, 2007.
– С. 57-62.
126. Гучинская
Н.О.
Hermeneutica
in
nuce.Очерк
филологической
герменевтики / Н.О. Гучинская – Спб.: Церковь и культура, 2002. – 128 с.
417
127. Дадамян Г.Г., Дондурей Д.Б. Опыт теоретического построения типов
зрительского восприятия и понимания изобразительного искусства / Г.Г.
Дадамян, Д.Б. Дондурей // Советское искусствознание. – 1978. – Вып.1. – М.,
1979. – С.41-72.
128. Дёгтев С.В. Концепт «слово» в истории русского языка / С.В. Дёгтев,
И.И. Макеева // Язык о языке; под общ. рук. и ред. Н.Д. Арутюновой. – М. :
Языки рус. культуры, 2000. – С. 156-171.
129. Дейк Т.А. ван. К определению дискурса [электронный ресурс] / Т.А. ван
Дейк. – Режим доступа http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.html
130. Дейк Т.А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк //
Новое в Зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. – Вып. 13. – М.:
Прогресс, 1998. – С.153-211.
131. Декатова
К.И.
Смыслообразование
знаков
косвенно-производной
номинации русского языка: Когнитивно-семиологический аспект исследования
/ К.И. Декатова – Волгоград: Перемена, 2009. – 287 с.
132. Делёз Ж. Логика смысла / Ж. Делёз. – Deleuze, J. Logique du sens. P. 1969.
Пер. с фр. – М.: «Раритет», 1998. – 480 с.
133. Демина JI.А. К вопросу о традиционной точке зрения в анализе проблемы
смысла / Л.А. Демина // Современная логика: проблемы теории, истории и
применения в науке. – СПб. 2000. – С. 447-448.
134. Демьяненко М.А. «Дух языка» и «дух народа» как лингвофилософские
понятия немецкого языкознания / М.А. Демина // Новые научные и
образовательные стратегии многоуровневой подготовки педагога-филолога.
Межвузовский сборник научных трудов. Гумбольдтовские чтения. – М.: СТИ
МГУС, 2004. – С. 33-49.
135. Демьяненко М.А. Язык в философии символических форм Э.Кассирер /
М.А. Демьяненко // Новая парадигма Российского языкового образования и
пути
ее
реализации.
Материалы
Международной
научно-практической
конференции. Гумбольдтовские чтения.; научный редактор А.В.Щепилова.
Ответственный редактор Горлова Н.А. – М.: МГПУ, 2005. – С.78-97.
418
136. Демьянков
В.З.
Когнитивная
лингвистика
как
разновидность
интерпретационного подхода / В.З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1994.
– № 4. – С. 17-33.
137. Деррида Ж.
Письмо
японскому
другу
/
Ж.
Деррида
//
Вопросы философии. – № 4. – 1992. – С. 53-57.
138. Дильтей В. Сила поэтического воображения / В. Дильтей // Начала
поэтики. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. – М., 1987б.
– С. 135-142.
139. Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических
системах / В. Дильтей // Новые идеи в философии. сб. 1. Философия и ее
проблемы. – СПб., 1912. – С.119-181.
140. Дурст-Андерсен
П.В.
Ментальная
грамматика
и
лингвистические
супертипы / П.В. Дурст-Андерсен // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6. – С.
30-42.
141. Есперсен О. Философия грамматики / О. Есперсен.; пер. с англ. под ред. и
с предислов. Ильина Б.А. – 2-е изд., стер. – М.: УРСС, 2002. – 408 с.
142. Ефремов Н.Н. Языковая картина мира / Н.Н. Ефремов // Наука и
образование. – 1998. – №2.– Якутск, 1998. – С.14-20.
143. Ешкенази А. За парадоксите в логиката / А. Ешкенази – София: Изд-во на
Бълг. акад. на науките, 1977. – 154 с.
144. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин – М.:
Наука, 1982. – 156 с.
145. Зайченко М.А. Взаимосуществование альтернатив конструируемой
языком реальности / М.А. Зайченко – Объединенный научный журнал. – 2002. –
№ 27. – С. 72-84.
146. Иванов Д. Логика смысла и обыденный язык / Д. Иванов // Вестник
Московского университета. – Сер 7. Философия. – 2000. – № 1. – С. 69-73.
147. Ильин В.В. Язык – Понимание – Культура / В. В. Ильин // Язык и
культура. Факты и ценности: К 70-летию Ю.С. Степанова; отв. ред. Е.С.
Кубрякова, Т.Е. Янко. – М.: Языки слав, культуры, 2001 – С. 267-272.
419
148. Инукаи К. Хито то нару (Становление человека). Исследования по
Японии / Инукаи К. 1991. – № 4. – 164 с.
149. Истодин К. Основы теории самоприменимости [электронный ресурс] / К.
Итодин // Эмерджентность и метасистемный переход. – Режим доступа:
http://www.aicommunity. org/reports/ysto/ emerg/ emerg2.php
150. Истодин К. Формализм самоорганизации и автокреативные процессы.
Метафизика Золотой Пропорции как частный случай. [электронный ресурс]
/www.trinitas.ru/rus/doc/0232/010a/02322002.htm/
151. Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О.Л. Каменская – М.: Высш. шк.,
1990. – 151 с.
152. Карасик В.И. Языковая матрица культуры / В.И. Карасик – М.,: ГНОЗИС,
2013. – 319 с.
153. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И.
Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
154. Карасик В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность:
институциональный и персональный дискурс: сб. научн. тр. – Волгоград, 2000.
– С. 3-15.
155. Карасик В.И. Языковые ключи: монография / В.И. Карасик – Волгоград:
Парадигма, 2007. – 520 с.
156. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов.; отв.
ред. Д.Н. Шмелев. – М.: Наука, 1987. – 263 с.
157. Карнап Р. Значение и необходимость. Исследования по семантике и
модальной логике / Р. Карнап. – М.: Из-во иностр. лит-ры, 1959. – 382 с.
158. Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея / Л.П. Карсавин // Русская
идея. – Сборник произведений русских мыслителей / составление: Е.А.
Васильев; предисл.: А.В. Гулыга. – Москва: Айрис Пресс, 2004. – С. 318-351.
159. Катречко С.Л. Философия как «языковая игра» / С.Л. Катречко //
Материалы
XI
Международной
конференции
«Логика,
философия науки». – М.-Обнинск, 1995. – Т. 5. – С. 44-48.
методология,
420
160. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу / А.А. Кибрик //
Вопросы языкознания. – 1994. – № 5. – С . 126-139.
161. Киров Е.Ф. Теоретические проблемы моделирования языка / Е.Ф. Киров –
Казань, 1989. – 256 с.
162. Киров Е.Ф. Язык и речь в модели коммуникации / Е.Ф. Киров // Вопросы
филологии. – Спецвыпуск: VI Международная научная конференция «Язык,
культура, общество» (Москва, 22-25 сентября 2011 г.): тезисы докладов. – 2011.
– С. 40-41.
163.
Кобозева И.M. Лингвистическая семантика / И.М. Кобозева – М.:
Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.
164. Кожинов В.В. Происхождение романа / В.В. Кожинов – М.: Советский
писатель, 1963. – 440 с.
165. Козлова М.С. Идея языковых игр / М.С. Козлова // Философские идеи Л.
Витгенштейна. – М. 1996. – С. 5-24.
166. Козлова М.С. Вера и знание. Проблема границы (Вступит. ст. к
публикации работы Л. Витгенштейна «О достоверности») / М.С. Козлова //
Вопросы философии. – 1991. – № 2. – С. 58-66.
167. Козлова М.С. Разрозненные заметки Людвига Витгенштейна / М.С.
Козлова // Человек. – М., 1991. № – 5-6 (вступит. ст. и коммент. к публ.
фрагментов из кн. Л.Витгенштейна «Культура и ценность»).
168. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Г. В.
Колшанский. Изд. 3-е, стереотип. – М.: КомКнига, 2006. – 128 с.
169. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных
менталитетов / О.А. Корнилов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
170. Косериу Э. Контрастивная Лингвистика и перевод: их соотношение / Э.
Косериу // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XXV. Контрастивная
лингвистика: переводы; сост. В.П. Нерознака; общ. ред. и вступ. ст. В.Г. Гака. –
М.: Прогресс, 1989. – 440 с.
421
171. Косихин А.В. Речевой акт как выражение интенциональности / А.В.
Косихин
//
Материалы
XXIX
Всесоюзной
научной
конференции.
–
Новосибирск: Философия, 1991. – С. 41-46.
172. Кравец А.С. Структура смысла: от слова к предложению / А.С. Кравец //
Вестник Воронежского государственного университета. – сер. 1. Гуманитарные
науки. – Вып. 1. – Воронеж, 2001. – С. 60-84.
173. Кравченко А.В. Знак, значение, знание: очерк когнитивной философии
языка Текст. / А.В. Кравченко. – Иркутск, 2001. – 260 с.
174. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части
речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова.
– М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
175. Кубрякова
Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных
проблемах когнитивной лингвистики / Е.С. Кубрякова // В поисках сущности
языка. Когнитивные исследования. – М.: изд-во «Знак», 2012. – C.13-35.
176. Кузьмина Н.А. Феномен художественного перевода в свете теории
интертекста [электронный ресурс] / Н.А. Кузьмина – Режим доступа: http://
www. irlras-cfrl.rema.ru:8101/publications/reports/ perevod-2.htm.
177. Кузнецов
В.Г.
Герменевтическая
феноменология
в
контексте
философских воззрений Густава Густавовича Шпета / В.Г. Кузнецов // Логос. –
1991. – № 2. Феноменология. – М.: Издательство «Дом интеллектуальной
книги», 1991. – С. 199-214.
178. Кулешов Л.В. Искусство кино (Мой опыт) / Л.В. Кулешов – М.: Теа-кинопечать, 1929. – 153 с.
179. Кустова Г. И. Когнитивные модели в семантической деривации и система
производных значений / Г. И. Кустова // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4. –
С. 85-109.
180. Ладов В.А. Иллюзия значения: Проблема следования правилу в
аналитической философии / В.А. Ладов. – Томск: Изд-во Томского
университета, 2008. – 326 с.
422
181. Ладов В.А. Дискуссия об индивидуальном языке: лингвист против
философа / В.А. Ладов // Вестник Томского государственного университета. –
2008. – № 313, Август. – С. 48–54.
182. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // перев.
с англ. Р. И. Розиной. – Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. – М.:
Прогресс, 1988. – С.12-51.
183. Лебедев М.В. Проблема следования правилу в философии математики
Л.Витгенштейна /
М.В. Лебедев // Стили в математике: социокультурная
философия математики.; под.ред. А.Г. Барабашева. – СПб.: РХГИ, 1999. – 552 с.
184. Леонтьев А.А. Формы существования значения / А.А. Леонтьев //
Психолингвистические проблемы семантики. – М.: Наука, 1983. – С. 5-20.
185. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика
смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. – изд. 2-е, испр. – М.: Смысл, 2003. –
487 с.
186. Литвин Ф.А. Многозначность слова в языке и речи / Ф.А. Литвин. – 2-е
изд., стер. – М.: КомКнига., 2005. – 120 с.
187. Литвинов В.П. Технический подход к языковому средству в текстах М.
Хайдеггера (предварительнаые результаты исследования) / В.П. Литвинов //
Реализация языковых единиц в тексте: сб. науч. тр. – Свердловск, 1986. – С. 8287.
188. Лихачев Д.С. О филологии / Д.С. Лихачев – М.: Высш. школа. 1989. –
208с.
189. Лихачев Д.С. Русская культура Нового времени и Древняя Русь / Д.С.
Лихачев. Избранные труды по русской и мировой культуре. – СПб.: СПбГУП,
2006. – 416 с.
190. Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических
концептов: сб. ст.; отв. ред. Н. Д. Арутюнова – АН СССР, Ин-т языкознания. –
М.: Наука, 1989. – 286 с.
191. Логический анализ языка: Язык речевых действий. Материалы конф., май
1993 г.; отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева. – М.: Наука, 1994. – 185 с.
423
192. Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке: сб. ст.; отв.
ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина – АН СССР, Ин-т языкознания. – М.:
Индрик, 1999. – 422 с.
193. Лосев А.Ф. Хаос и структура / А.Ф. Лосев. - Общ. ред. А.А. Тахо-Годи,
В.П. Троицкого. – М.: Мысль, 1998. – 831 с.
194. Лотман Ю.М. За текстом: заметки о философском фоне тартуской
семиотики [электронный ресурс] / Ю.М. Лотман // Лотмановский сборник. – Т.
1. – М., 1995. – Режим доступа http://www.ruthenia.ru/lotman/txt/ mlotman95.
html#T14
195. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек текст – семиосфера –
история / Ю.М. Лотман – М.: Яз.рус. культуры, 1999. – 464 с.
196. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман – СПб: Искусство-СПБ, 2000. –
704 с.
197. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия – изд. 2-е. – М.: Изд-во
Московского ун-та, 1998. – 335 с.
198. Лучинская Е.Н. Постмодернистский дискурс: Семиологический и
лингвокультурологический аспекты интерпретации: дис. ... докт. филол. наук:
10.02.19. / Лучинская Елена Николаевна – Краснодар, 2002. – 329 с.
199. Макаров М.Л. Основы теории дискурса: монография / М.Л. Макаров –
М.: Гнозис, 2003. – 280 с.
200. Мамардашвили
М.К.,
Пятигорский
А.М.
Символ
и
сознание.
Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / М.К.
Мамардашвили, А.М. Макаров / под общей редакцией Ю.П.Сенокосова. – М.:
Школа «Языки русской культуры», 1997. – 224 с.
201. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / М.К. Мамардашвили –
М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
202. Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» / Н.
Малкольм // Философия, логика, язык. – М.: Прогресс, 1987. – С. 234-263.
203. Марков Б.В. Знаки Бытия / Б.В. Марков – СПб.: Наука, 2001. – 566 с.
424
204. Мелерович А.М. Факторы, мотивирующие смысловое содержание
фразеологизмов в тексте. / А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко // Культурные
аспекты в языке и тексте: сб. науч. тр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С.
127-135.
205. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский //
Чтения по истории и теории культуры. – Вып. 4. – М.: РГГУ, 1994. – 133 с.
206. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «смысл – текст» /
И.А. Мельчук – М.: Языки русской культуры, 1999. – 345 с.
207. Мечковская Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: учеб. Пособие /
Н.Б. Мечковская – М.: Академия, 2004. – 432 с.
208. Мещанинов И.И. Соотношение логических и грамматических категорий /
И.И. Мещанинов // Язык и мышление. – М., 1967. – C.7-16.
209. Микиртумов, И.Б. Интенсиональная характеристика функции в логике
смысла и денотата / И.Б. Микиртумов // Логические исследования. – Вып. 6. –
М.: 1999. – С. 153-162.
210. Милованова Г.Н. Концептуализация понятий «язык» и «родной язык» в
языковой картине мира (на материале русской, немецкой и японской
лингвокультур): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.19. / Милованова Галина
Николаевна – Нальчик, 2005. – 181 с.
211. Милостивая А.И. К вопросу о роли когнитивных параметров текста в его
прагмалингвистической интерпретации / А.И. Милостивая // Германистика:
состояние
и
перспективы
развития.
Тезисы
докладов
международной
конференции, посвященной памяти профессора О.И. Москальской (24-25 мая
2004). – М.: МГЛУ, 2004. – С. 29-31.
212. Мироненко С.А. Выразительные возможности игры слов в русском и
немецком языках (сопоставительный аспект) / С.А. Мироненко – Краснодар,
2006. – 172 с.
213. Моррис Ч. Значение и означивание / Ч. Моррис // Семиотика. – М., 1983.
– С. 118-132.
425
214. Моррис Ч. Основания теории знаков / Ч. Моррис // Семиотика. – М.,
1983. – С. 37-89.
215. Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия феноменологической
философии / Н.В. Мотрошилова – М.: Высш.школа, 1968. – 128 с.
216. Мурясов Р.З. Сопоставительная морфология немецкого и башкирского
языков. Глагол / Р.З. Мурясов – Уфа: Баш ГУ, 2002. – 172 с.
217. Мыркин В.Я. Язык речь – контекст – смысл: учеб.пособие / В.Я. Мыркин
– Архангельск: Изд-во Поморского междунар. пед. унта, 1994. – 97 с.
218. Наер В.Л. Понимание и интерпретация (к основам интерпретации текста
как аналитической деятельности) / В.Л. Наер // Сборник научных трудов
МГЛУ. – Вып. 459. Проблемы современной стилистики. – М.: 2001. – С. 3-13.
219. Наумов В.Г. Мотивационные отношения слов и их роль в решении
проблемы разграничения языковых и речевых функций, языковой и речевой
картин мира (на материале русского и словацкого языков) / В.Г. Наумов //
Сибирская локальноэтническая культурная ситуация в конце ХХ века.
Материалы вторых праславянских чтений. – Красноярск: КГУ, 1999. – С. 86-89.
220. Никитин М.В. Знак – значение – язык / М.В. Никитин – СПб.: Изд-во
РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – 226 с.
221. Николаева О.В. Теория взаимодействия концептуальных картин мира.
Языковая
актуализация
(на
материале
новозеландского
варианта английского языка и языка маори): автореф. дис. ... докт.филол.наук:
10.02.20 / Николаева Ольга Васильевна. – М., 2011. – 32 с.
222. Николаева Т.М. Речевые, коммуникативные и ментальные стереотипы:
социолингвистическая дистрибуция / Т.М. Николаева // Язык как средство
трансляции культуры. – М.: Наука, 2000. – С. 112-132.
223. Новиков А.И. Смысл: семь дихотомических признаков / А.И. Новиков //
Теория и практика речевых исследований. – М.: МГУ, 1999. – С. 132-144.
224. Новиков А.И. Смысл как особый способ членения мира в сознании / А.И.
Новиков // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000. – С. 33-38.
426
225. Ноути Р. Рэторикку то нинсики. (Красноречие и познание) / Р. Ноути. –
Токио, 2000.
226. Оломская Н.Н. Проблема декодирования информационных кодов в
дискурсе РR / Н.Н. Оломская // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. – Тамбов: Грамота. – 2010. – № 1 (5): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 158-160.
227. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса: монография / А.В.
Олянич – М.: Гнозис, 2007. – 407 с.
228. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет – М., 1991.
– 486 с.
229. Павиленис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский
анализ языка / Р.И. Павиленис – М.: Мысль, 1983. – 286 с.
230. Парахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания (Ценностнокоммуникативный аспект) / Б.А. Парахонский – К.: Наукова думка, 1988. – 211
с.
231. Парахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания (ценностнокоммуникативный аспект): автореф. дис. ... докт.филос.наук: 10.02.20 /
Парахонский Борис Александрович – АН УССР, Ин-т философии. Киев, 1989. –
32 с.
232. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система / А.А. Пелипенко,
И.Г. Яковенко – М.: Изд-во «Языки русской культуры», 1998. 376 с.
233. Пелюшенко А.В. Смысл. Диалог. Понимание / А.В. Пелюшенко //
Проблемы социально-гуманитарного образования. – Волгоград, 1997. – С. 178182.
234. Петров М.К. Язык, знак, культура / М.К. Петров – вступ. ст. С.С.
Неретиной; АН СССР, Ин-т философии. – М.: Наука, 1991. – 328 с.
235. Пинкер С. Язык как инстинкт / С. Пинкер. – М.: Едиториал УРСС, 2004. –
456 с.
236. Пищальникова В.А. Содержание понятия картина мира в современной
лингвистике / В.А. Пищальникова // Язык и культура. Факты и ценности. – М.:
Языки славянской культуры, 2001. – С. 484-489.
427
237. Пономаренко Е.В. Функциональная системность дискурса (на материале
английского языка): монография / Е.В. Пономаренко – М.: МГУ, 2004. – 328 с.
238. Попова З.Д. Методологические проблемы когнитивной лингвистики / З.Д.
Попова; под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: ВГУ, 2001. – 182 с.
239. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания / К.Р. Поппер; избр. работы;
пер. с англ. – М.: Прогресс, 1983. – 605 с.
240. Постовалова В.И. Мировоззренческое значение понятия «языковая
картина мира» / В.И. Постовалова // Анализ знаковых систем. История логики и
методологии науки. – Киев: Наук.думка, 1986. – С. 35-46.
241. Потебня А.А. Слово и миф / А.А. Потебня – М.: Изд-во «Правда», 1989. –
624 с.
242. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов – М.: Рефл-бук,
2003. – 651 с.
243. Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные
основы межкультурной коммуникации): монография / И.В. Привалова – М.:
Гнозис, 2005. – 472 с.
244. Псурцев Д.В. Смыслоформирующий аспект образно-ассоциативных
компонентов
художественного
текста
(на
материале
англоязычной
художественной литературы): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Псурцев
Дмитрий Владимирович – М., 2001. – 187 с.
245. Псурцев Д.В. К проблеме перевода и интерпретации художественного
текста: об одном критерии адекватности / Д.В. Псурцев // Вестник МГЛУ. –
Выпуск 463, Перевод и дискурс. – М.: 2002. – С. 16-26.
246. Пучинский В.М. Смысл внутренний и смысл внешний (значение) / В.М.
Пучинский // Философские исследования. – 1997. – № 2. – С.86-103.
247. Пятигорский А.М. Краткие заметки о философском и его отношении к
филологическому / А.М. Пятигорский // Philologica. Bilingual Journal for the
Study of Russian and Theoretical Philology. – Moscow, 1995. – Vol. 2. – № 3/4; ed.
by Igor Pilscikov and Maksim Sapir. – С. 127-134.
428
248. Радченко О.А. Язык как миросозидание: лингвофилософская концепция
неогумбольдтианства / О.А. Радченко; изд. 3-е, стер. – М.: КомКнига, 2006. –
310 с.
249. Радченко О.А. Лингвофилософский неоромантизм Й. Л. Вайсгербера /
О.А. Радченко // Вопросы языкознания. 1993. – № 2. – С. 107-114.
250. Радченко О.А. Язык как медиум символического познания в философской
концепции В. фон Гумбольдта / О.А. Радченко // Актуальные вопросы романогерманской филологии и методики преподавания иностанных языков. Сборник
научных трудов. – М., МГПУ, 1997.
251. Радченко О.А. Проблема языкового сообщества в немецкой философии
языка первой половины XX века / О.А. Радченко // Вопросы языкознания
(отдельный оттиск). – 2000. – № 4. – С. 110-138.
252. Радченко О.А., Аликаева Л.С. Й.Г. Гаман в лингвистическом дискурсе
XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаева // Вопросы языкознания. – 2011.
– № 1. – С. 82-102.
253. Растаргуева Г.В. О неоднозначности интерпретации вербализованного
смысла / Г.В. Растаргуева // Язык как функциональная система. – Тамбов, 2001.
– С. 71-85.
254. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: От сочетаемости к
семантике: дисс. … докт. филол. наук: 10.02.04 / Рахилина Екатерина
Владимировна – М., 1999. – 433 с.
255. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика
и сочетаемость / Е.В. Рахилина – М.: Русские словари, 2000. – 414 с.
256. Руденко Д.И. Лингвофилософские парадигмы: границы языка и границы
культуры / Д.И. Руденко // Философия языка: в границах и вне границ:
междунар. сер. монографий. – Харьков: Око, 1993. – Т. 1. – С. 101-173.
257. Рузин Н.Г. Возможности и пределы концептуального объяснения
языковых фактов / Н.Г. Рузин // Вопросы языкознания. – 1996. – № 5. – С. 3950.
429
258. Рузин Н.Г. Философские аспекты лингвистического исследования / Н.Г.
Рузин // Вестник Московского университета. – Сер 7. Философия. – 1993. – №
3. – С. 46-55.
259. Рябцева Н.К. Ментальные перформативы в научном дискурсе / Н.К.
Рябцева // Вопросы языкознания. – 1992. – № 4. – С. 12-28.
260. Сакаия Т. Нихон то ва нани-ка? (Что такое Япония?) / Т. Сакаия – Токио,
1991.
261. Сараджева Л.А. Славянское bolgo «благо» (к соотношению смысловой
структуры) / Л.А. Сараджева // Языковая деятельность: переходность и
синкретизм. – Вып. 7. – Москва-Ставрополь: Из-во СГУ, 2001. – 486 с.
262. Сарна А. Визуальная метафора в дискурсе идеологии / А. Сарна //
Палiтычная сфера. – 2005. – № 4. – С. 55-60.
263. Семакина И.А. Предел смысла и смысл предела / И.А. Семакина //
Вестник Удмуртского университета. – 1997. – № 5. – С. 17-23.
264. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э Сепир –
М.: Прогресс, 1993. – 656 с.
265. Серебренников Б.А. Как происходит отражение картины мира в языке? /
Б.А. Серебренников // Роль человеческого фактора в языке: Языковая картина
мира. – М., 1988. – С. 87-107.
266.
Сиротинина О.Б. Национальные языковые и индивидуальные речевые
картины мира / О.Б. Сиротинина, М.А. Кормилицына // Дом бытия. Альманах
по антропологической лингвистике. – Сарат. гос. пед. ин-т. – Саратов, 1995. –
Вып.2. – С.15-18.
267. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: дисс. …
докт. филол. наук: 10.02.19 / Солнышкин Геннадий Геннадьевич – Волгоград,
2004. – 323 с.
268. Снитко
Т.Н.
Предельные
понятия
в
Западной
и
Восточной
лингвокультурах: монография / Т.Н. Снитко – Пятигорск: ПГЛУ, 1999. – 156 с.
430
269. Современная аналитическая философия: сб. обзоров. – АН СССР.
ИНИОН, Ин-т философии. – М., 1991. – Вып. 3: Сознание и деятельность. – 190
c.
270. Сокулер
З.А.
Проблема
обоснования
знания
(Гносеологические
концепции Л. Витгенштейна и К. Поппера) / З.А. Сокулер – М.: Наука, 1988. –
177 с.
271. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование / В.М.
Солнцев – М.: Наука, 1983. – 301 с.
272. Степанов С.C. Разум в поисках целостности [электронный ресурс] / С.С.
Степанов – Режим доступа: http://psyjournals.ru/authors/a1155.shtml.
273. Степанов Ю.С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип
причинности / Ю.С. Степанов // Язык и наука конца ХХ века: сб. ст. – М., 1995.
– С. 35-73.
274. Степанов
Ю.С.
Константы:
Словарь
русской
культуры:
Опыт
исследования / Ю.С. Степанов – М.: Языки русской культуры, 1997. – 824 с.
275. Степанов Ю.С. Пространство и миры «новый», «воображаемый»,
«ментальный» и прочие / Ю.С. Степанов // Философия языка: в границах и вне
границ: междунар. сер. монографий. – Харьков: Око, 1994. – Т.2. – С. 3-18.
276. Стернин
И.А.
Когнитивная
интерпретация
в
лингвокогнитивных
исследованиях / И.А. Стернин // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. –
№ 1. – С. 65-69.
277. Стеценко А.П. Понятие «образ мира» и некоторые проблемы онтогенеза
сознания / А.П. Стеценко // Вестник Московского ун-та. – Серия 14:
Психология. – М.: 1987. – С. 27-33.
278. Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах / П.Ф. Стросон //
Философия языка; ред.-сост. Дж. Р. Серл: пер. с англ.– М.: Едиториал УРСС,
2004. – С. 35-55.
279. Султанов А.X. Слово как вещь, явления в смысле / А.Х. Султанов //
Проблемы прикладной лингвистики. – М., 2002. – С. 79-93.
431
280. Сусыкин А.А. Когнитивная детерминированность символа / А.А.
Сусыкин
//
Материалы
второй
международной
школы-семинара
по
когнитивной лингвистике. – Тамбов, 2000. – Ч. 1. – С. 88-89.
281. Тарланов З.К. Язык. Этнос. Время. Очерки по русскому и общему
языкознанию / З.К. Тарланов – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского
государственного университета, 1993. – 220 с.
282. Тармаева В.И. Когнитивная природа фразеологического парадокса в
английском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Тармаева
Виктория Ивановна – Иркутск, 1997. – 21 с.
283. Тармаева В.И. Когнитивная гармония как механизм интерпретации
текста: автореферат дис. ... доктора филологические наук: 10.02.19 / Тармаева
Виктория Ивановна. – Кемерово, 2011. – 47 с.
284. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивнооценочная функция / В.Н. Телия // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука,1988.
– С.79-93.
285. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия – М.: Школа «Языки русской
культуры», 1996. – 288 с.
286. Телия В.Н. О специфике отображения мира психики и знания в языке /
В.Н. Телия // Сущность, развитие и функции языка: сб. ст.; отв. ред. Г. В.
Степанов. – М.: Наука, 1987. – С. 67-75.
287. Темнова Е.В. Современные подходы к изучению дискурса / Е.В. Темнова
// Язык, сознание, коммуникация: сб. ст.; отв. ред.: В. В. Красных, А. И. Изотов.
– М., 2004. – Вып. 26. – С. 24-32.
288. Теория СИМО (единая многоуровневая система средств формального
описания). [электронный ресурс] / сборник статей под ред. Н. В. Целковой. –
Режим доступа: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160033.htm.
289. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. ТерМинасова – М.: Слово, 2000. – 624 с.
432
290. Тильман Ю.Д. Культурные концепты в языковой картине мира (поэзия Ф.
И. Тютчева): дис. ...канд. филол. наук: 10.02.19 / Тильман Юлия Давидовна –
М., 1999. – 232 с.
291. Топорова В.М. Концептуализация пространства в художественной
картине мира / В.М. Топорова // Культурные аспекты в языке и тексте: сб. науч.
тр. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – С. 93-101.
292. Торчинов Е.А. Культура как сакральное (категория «вэнь» в китайской
традиции) / Е.А. Торчинов // Сакральное в культуре. Материалы III
международных Санкт Петербургских религиоведческих чтений. – СПб, 1995. –
С. 92–94.
293. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык / Н.С. Трубецкой. – М.:
Прогресс, 1995. – 798 с.
294. Тумаркин П.С. Лексика фразеология жест в японской разговорной речи /
П.С. Тусаркин. – М.: Восток-Запад, 2004. – 248 с.
295. Турнаев В.И. Логос, или Искусство поиска смысла / В.И. Турнаев. –
Томск: ИНТЭК, 1995. – 1 ч. (Проблема метода). – 95 с.
296. Тэрасава М. Нихондзин-но сэйсин когдзо: (Структура духа японцев) /
Тэрасава М. – Токио, 2002.
297. Ухтомский А.А. Доминанта / А.А. Ухтомский – СПб.: Питер, 2002. – 448
с.
298. Ушакова Т.Н. Языковое сознание и принципы его исследования / Т.Н.
Ушакова. – М.: Институт языкознания РАН, 2000. – С. 13-24.
299. Фаритов В.Т. Философия как псевдодискурс [электронный ресурс] / В.Т.
Фаритов – Режим доступа: http://phil.ulstu.ru/files/stat/faritov_psevdodiskurs.pdf.
300. Фархутдинова Ф. «Взглянуть на мир сквозь призму слова» / Ф.
Фархутдинова – Иваново: Изд-во ИГУ, 2000. – 204 с.
301. Фатеева
Н.А.
Интертекст
в
мире
текстов.
интертекстуальности / Н.А. Фатеева – М.: КомКнига, 2007. – 282 с.
Контрапункт
433
302. Феоктистова В.В. Проблема смысла – основная проблема анализа
естественного языка / В.В. Феоктистова – Саранск: Мордовский гос. пед. ин-т,
1996. – 10 с.
303. Филиппович А. Проблема смысла в работах Э. Гуссерля и Л.
Витгенштейна / А. Филиппович – Философия и философы: взгляд молодых. –
Минск, 1997. – С. 39-52.
304. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики / Ч. Филлмор //
Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 12. – М.: Прогресс, 1983. – С.74-122
305. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор // Новое в
зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. 23. – С. 52-92.
306. Фоллесдаль Д. Понятие ноэмы в феноменологии Гуссерля / Д.
Фоллесдаль // Методологический анализ оснований математики. – М.: Наука,
1988. – С. 62-68.
307. Фрумкина Р.М. Проблема «язык и «мышление» в свете ценностных
ориентаций / Р.М. Фрумкина // Язык и когнитивная деятельность. – М., 1989. –
С. 59-71.
308. Фрумкина Р.М. Категоризация и концептуальные классы. / Р. М.
Фрумкина, А. В. Михеев // Семантика и категоризация; отв. ред. Ю. А.
Шрейдер; Ин-т языкознания РАН. – М.: Наука, 1991. – С. 45-60.
309. Фрумкина Р.М. Смысл и сходство / Р.М. Фрумкина // Вопросы
языкознания. – М., 1985. – №1. – С. 22-31.
310. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас – М.:
Издательство «Весь Мир», 2003. – 416 с.
311. Хага Т. Хонъяку то нихонбунка (Перевод и японская культура) / Хага Т. –
Токио, 2000.
312. Хайдеггер М. Европейский нигилизм / М. Хайдеггер // Проблема
человека в западной философии. Сборник переводов; общая ред. Попова Ю.Н.
– М.:Прогресс,1988. – 547 с.
313. Хайруллина P.X. Фразеологическая картина мира: от мировидения к
миропониманию / Р.Х. Хайруллина – Уфа: Изд-во БГПУ, 2000. – 285 с.
434
314. Худяков А.А. Концепт и значение / А.А. Худяков // Языковая личность:
культурные концепты. – Волгоград-Архангельск, 1996. – С. 97-103.
315. Чернейко
Л.О. Оценка в знаке и знак в оценке / Л.О. Чернейко //
Филологические науки. – 1992. – № 2. – С. 111-117.
316. Черняк А.З. Знание и референция. Что значит знать? / А.З. Черняк – М.,
1999. – С. 184-204.
317. Чесноков П.В. О взаимодействии формальных типов языковых и
логических построений / П.В. Чесноков // Язык и мышление. – М., 1967. – С.
88-102.
318. Шаховский В.И. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы
(межкультурное понимание и лингвоэкология). /В. И. Шаховский, Ю.
А. Сорокин, И. В. Томашева/. – Волгоград: Перемена, 1998. – 149 с.
319. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А.Д.
Швейцер – М.: Наука, 1988. – 215 с.
320. Шевченко А.А. «Когнитивный поворот»: исследования языка как
исследования сознания / А.А. Шевченко // Проблемы сознания и ноосферы в
отечественной и зарубежной философии XX в. – Ч. 1. – Иваново, 2000. – С. 260262.
321. Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа (обзор
литературы) / Е.В. Шелестюк // Вопросы языкознания. – 1997. – №4. – С. 125142.
322. Шестак Л.А. Русская языковая личность: коды образной вербализации
тезауруса: монография / Л.А. Шестак – Волгоград: Перемена, 2003. – 312 с.
323. Шмелёв А.Д. В поисках мира и лада / А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А.
Д. Шмелёв / Ключевые идеи русской языковой картины мира: сб. статей. – М.:
Языки славянской культуры, 2005. – С. 110-129.
324. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию / Г.Г. Шпет. Сочинения. –
М., 1989. – С. 475-574.
325. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы
Гумбольдта) / Г.Г. Шпет – М.: КомКнигаж, 2006. – 214 с.
435
326. Шпет Г.Г. История как проблема логики / Г.Г. Шпет // Критические и
методологические исследования. Материалы: В 2 ч. – М.: Памятники
исторической мысли, 2002. – 1168 с.
327. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии / Г.Г. Шпет. – Ч. 1. – Пг.:
Колос, 1922. – 347 с.
328. Шпет Г.Г. Работы по философии / Г.Г. Шпет // Вестник Московского
университета. Философия. – М., 1995. – № 5. – С. 22-36.
329. Шпет, Г.Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее
проблемы / Г.Г. Шпет – Москва: Гермес, 1914. – 219 с.
330. Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы / Г.Г. Шпет. Архив Шпета,
ОРГБЛ ф. 718.1. II, л. 58.
331. Шпет Г.Г. Что такое методология наук? / Г.Г. Шпет. ОР РГБ. Ф. 718. К.
22. Ед. хр. 14.
332. Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Г.П. Щедровицкий – М.: Шк.
Культ. Полит., 1995. – 800с.
333. Щедровицкий Г.П. (1986) Понимание и интерпретация схемы знания
(доклад на «внутреннем» семинаре) [электронный ресурс] / Г.П. Щедровицкий.
– Кентавр. – 1993. – № 1. – Режим доступа: http://www.circle.ru/kentavr/
TEXTS/008GPS(2).ZIP
334. Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: Проблемы и методы. На пути к теории
научного знания / Г.П. Щедровицкий – М., 1984. – 132 с.
335. Щедровицкий Г.П. Смысл и значение / Г.П. Щедровицкий. Избранные
труды. – М.: Шк. культ. полит., 1995а. – 800 с.
336. Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности – системно-структурное
строение, смысл и содержание [электронный ресурс] / Г.П. Щедровицкий. –
Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1986
[Перепечатано в: [6]]. – М., 1987. – Режим доступа: http://www.fondgp.ru/gp/
biblio/rus/57.
337. Щедровицкий
Г.П.
Языковое
мышление
и
его
анализ
/
Г.П.
Щедровицкий. Избранные труды. – М.: Шк. Культ. Полит., 1995 b. – C. 449-465.
436
338. Эко У.Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко; пер. с
итал. В. Резник и А. Погоняйло. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с..
339. Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г Юнг – М.: Ренессанс, 1991. – 297 с.
340. Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение / Р. Якобсон.
Избранные труды. – М.: Прогресс, 1985. – 456 с.
341. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода / Р. Якобсон // Вопросы
теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 16-24.
342. Яковлева Е.С. О понятии «культурная память» в применении к семантике
слова / Е.С. Яковлева // Вопросы языкознания. – 1998. – № 3. – С. 44-58.
343. Ямада Р. Котоба-но катати (Образ слов) / Р. Ямада. – Токио, 1998.
344. Янко-Триницкая Н.А. Продуктивные способы и образцы окказионального
словообразования / Н.А. Янко-Триницкая // Актуальные проблемы русского
словообразования. – Ташкент, 1975. – С. 413-418.
345. Янушкевич И.Ф. Лингвосемиотика англосаксонской культуры.: дис. ... дра филол. наук: 10.02.04. / Янушкевич Ирина Федоровна. – Волгоград, 2009. –
492 с.
346. Ясперс К. Философская вера. Смысл и назначение истории / К. Ясперс –
М.: Политиздат, 1991. – 460 с.
347. Ackerman F., Moore J. Syntagmatic and paradigmatic dimensions of causee
encodings / F. Ackerman, J. Moore // Linguistics and Philosophy 22 – 1999. – pp.1–
44.
348. Aitchison J. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon / J.
Aitchison. – Oxford: Basil Blackwell Publisher Ltd., 2003. – 352 p.
349. Allan K. Natural Language Semantics / K. Allan. – Oxford: Basil Blackwell
Publisher Ltd., 2001. – 544 p.
350. Bach K. Intentions and demonstrations / K. Bach // Analysis. – Oxford. – 1992.
– Vol. 52. – № 3. – рp. 140-146.
351. Baker G.P., Hacker P.M.S., Language, Sense and Nonsense, A Critical
Investigation into Modern Theories of Language / G.P. Baker, P.M.S. Hacker. –
Oxford: Basil Blackwell Publisher Ltd., 1984. – 392 p.
437
352. Baker G.R., Hacker P.M.S. Scepticism, Rules and Language / G.P. Baker,
P.M.S. Hacker. – Oxford: Basil Blackwell Publisher Ltd., 1984. – 135 p.
353. Beckermann A. Can there be a language of thought / A. Beckermann //
Philosophy and the cognitive science. – Vienne. 1994. – pр. 207-219.
354. Beavers J.T. Argument/Oblique alternations and the structure of lexical
meaning / J.T. Beavers. – Stanford on Avon. 2006. – 305 р.
355. Bergson H. L’évolution créatrice / H. Bergson. – Une édition électronique
réalisée à partir du livre L’évolution créatrice. Originalement publié en 1907. –
Paris :Les Presses universitaires de France, 1959, 86e edition. – 372 p.
356. Berlin B., Kay P. Basic color terms: their universality and evolution / B. Berlin,
P. Kay. – Berkley; Los Angeles: University of California Press, 1969. – 110 p.
357. Bierwisch M. Formal and lexical semantics / M. Bierwisch // Proc. of the XIIIth International Congress of Linguistics. – Tokyo, 1982.; Tokyo, 1983. – pp. 122131.
358. Bresnan J., Kanerva J. Locative Inversion in Chicheˆwa: A Case Study of
Factorization in Grammar / J. Bresnan, J. Kanerva // Linguistic Inquiry. – 1989. – 20.
– рр. 1-50.
359. Church A. A revised formulation of the logic of sense and denotation / A.
Church // Alternative. Nous. Bloomington. – 1993. – Vol. 27. – № 2. – pр. 141-157.
360. Crimmins M. Hespoerus and Phosphorus / M. Crimmins // Sense, pretense and
reference. Philosophic review. – Ithaca, NY. 1998. – Vol. 107. – № 1. – pр. 135-157.
361. Cruse D.A. Some thoughts on agentivity / D.A. Crouse // Journal of Linguistics
9. – 1973. – pp.11–23.
362. Cruse A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics /
A. Cruse. Second Edition. – New York: Oxford University Press, 2004. – 137 p.
363. Davidson D. What Metaphors Mean / D. Davidson // Pragmatics. New YorkOxford; Oxford University Press, 1991. – pp. 495-506.
364. Davis W.A. Cogitative and cognitive speaker meaning / W.A. Davis //
Philosophic studies. – Dordrecht. – 1992. – Vol. 67. – № 1. – pр. 71-88.
438
365. Davis A.R., Koenig J.-P. Linking as Constraints on Word Classes in a
Hierarchical Lexicon / A.R. Davis, J.-P. Koenig // Language. – 2000. – 76. – рр. 5691.
366. Davis A.R., Koenig J.-P. Sublexical Modality and The Structure of Lexical
Semantic Representations / A.R. Davis, J.-P. Koenig // Linguistics and Philosophy. –
2001. – 24. – рр. 71-124.
367. Dennett D. The intentional stance / D. Dennet. – Cambridge. Mass. MIT Press.
Bradfordbooks. 1987. – 212 p.
368. Derrida J. Speech and phenomena and other essays on Husserl’s theory of
signs / J. Derrida. – Evanston, 1973. – XIII. – 166 p.
369. DeLancey S. Notes and agentivity and causation / S. DeLancey // Studies in
Linguistics 8. – 1984. – pp.181–213.
370. Deleuze G., Guattari F. Qu'est-ce que la philosophie? / G. Deleuze, F. Guattari
LES EDITIONS DE MINUIT Перевод с французского С. Н. Зенкина «Институт
экспериментальной социологии». – М.: Издательство «АЛЕТЕИЯ», 1998. – 296
с.
371.
Fillmore C.J. Frame semantics / C.J. Fillmore. – Seoul: SPH, 1982. – рр. 111-
137.
372. Frederiksen C.H. Semantic-Processing Units in Understanding / C.H.
Frederiksen // Discourse Processes. – Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1977. – рр. 259-284.
373. Edwards J. The universal quantifier and Dummet's verificationist theory of
sense / J. Edwards // Analysis. – Oxford. – 1995. – Vol. 55. – № 2. – pр. 90-97.
374. Fabri A. Der rote Faden. Essays / A. Fabri. – München: P.List, 1958. – 119 S.
375. Feibleman, J.K. An introduction to the philosophy of Charles S. Pierce / J.K.
Feibleman. – Cambr. Mass. MIT Press, 1970. – 483 p.
376. Frege G. Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische
Untersuchung über den Begriff der Zahl / G. Frege.; mit erg. Texten kritisch hrsg.
von Thiel Ch. Centenarausg. – Hamburg: Meiner, 1986. – XVII. – 119 S.
377. Fülleborn G.G. Beiträge zur Geschichte der Philosophie / G.G. Fülleborn. – V.
1,2. – М.: Оникс, 2012. – 819 с.
439
378. Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode / H.-G. Gadamer. – 1. Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. – 495
S.
379. Gärdenfors P. Conceptual Spaces: The Geometry of Thought / P. Gärdenfors. –
Cambridge. Mass. MIT Press, 2000. – 307 p.
380. Goldfarb W. Kripke on Wittgenstein on Rules / W. Goldfarb // The Journal of
Philosophy. – 1985. – Vol. 82. – № 9. – pp. 471-488.
381. Groos K. Einleitung in die Ästhetik [электронный ресурс] / K. Groos Digitale
Kopie: Max Plank Institute für Geschichte der Wissenschaft. – Режим доступа:
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/
WQ0A40CY/pageimg&pn=1&mode=imagepath
382. Hannay A.To see a mental image / A. Hannay // Mind. – 1973. – Vol. 82. – №
326. – pp. 161-182.
383. Harris J. Hermes or a philosophical inquiry concerning universal grammar / J.
Harris. – London: Nourse&Vaillan, 1971. – 442 p.
384. Heidegger M. Die Zeit des Weltbildes / Heidegger M. Holzwege. – Frankfurt
am M. – S. 69-104. /Рус. пер. В. В. Бибихина см.: Хайдеггер М. Время картины
мира. В кн.: Новая технократическая волна на Западе. М., 1986, С.93-118./
385. Heidegger M. Identität und Differenz / M. Heidegger. Gesamtausgabe. – I
Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Hrsg.: Friedrich-Wilhelm von
Herrmann. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1991. – XVIII. –
Band 11. – 168 S.
386. Heidegger M. Wesen der Wahrheit / M. Heidegger. – Stuttgart: Verlag Günter
Neske, 1959. – 270 S.
387. Heidegger M. Vom Wesen des Grundes / M. Heidegger. Wegmarken:
Gesamtausgabe. – Frankfurt am Main, 1929; 1976. – Bd. 9. – S. 123-176.
388. Herrmann Fr.-W. Hermeneutische Phaenomenologie des Daseins. Eine
Erlaeuterung von "Sein und Zeit" / Fr.-W. Herrmann. Bd. I. "Einleitung: die
Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein". – Frankfurt am M.: Vittorio
Klostermann, 1987. – 104 S.
440
389. Hochberg H. On nonsense on reference / H. Hochberg // Philosophy and the
cognitive science. – Vienne. 1994. – pp. 193-205.
390. Horwich P. The composition of meanings / P. Horwich // Philosophic, review.
– Ithaca. NY, 1997. – Vol.106. – № 4. – pр. 503-532.
391. Hughes G. Aspects of listening comprehension / G. Hughes // Audio-Visual
Language Journal. – 1974. – Vol. 12. – № 2.
392. Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie / E. Husserl. Husserliana: Edmund Husserl. Gesammelte Werke.
Springer, 1995. – S. 536.
393. Husserl E. Phenomenology and the crisis of philosophy / E. Husserl. – New
York: Harper & Row, 1965. – 192 р.
394. Husserl E. Experience and Judgement / E. Husserl. – Hamburg, 1973. – 445 p.
395. Sandstrom S. Intuitive formation of meaning: Symposium held in Stockholm /
Ed.: S. Sandstrom – Stockholm: KVHAA, 2000.
396. Koenig J.-P., Davis А. The KEY to lexical semantic representations / J.-P.
Koenig, A. Davis // Journal of Linguistics. – 42. – 2006. – pp. 71-108.
397. Jackendoff, R. Languages of the Mind / R. Jackendoff. Essays on Mental
Representation. – Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996. – 200 p.
398. Jacob, P. The problems of meaning in the philosophy of mind / P. Jacob
Synthesis philosophic. – Zagreb. – 2000. – Vol. 15, fasc. 1-2. – pр. 77-84.
399. Jaszczolt K.M., Semantics and Pragmatics: Meaning in Language and
Discourse / K.M. Jaszczolt. – London: Pearson Education, 2002. – 424 p.
400. Izutsu T., Izutsu T. Poetry and philosophy in Japan / Toshihiko Izutsu, Toyo
Izutsu. – Contemporary philosophy, ed.R. Klibansky. – Firenze, 1971. – 572 p.
401. Kintsch W. Memory and cognition / W. Kintsch. – New York: John Wiley and
Sons, 1977. – 490 p.
402. Koestler A. Beyond atomism and holism – the concept of the holon / A.
Koestler // Beyond Reductionism. – London: Hutchinson, 1969. – pp. 192-232.
441
403. Labov W . The Boundaries of words and their meanings / W. Labow.; in C.-J.
N. Bailey and R.W. Shuy (editors). New ways of analyzing variation of English. –
Georgetown Press, 1973. – pp. 340-373.
404. Lakoff G. Linguistic gestalts / G. Lakoff. – Chicago: Chicago university press,
1977. – Vol. 13. – рр. 236-287.
405. Lakoff G. Women, fire, and dangerous things. What Categories Reveal about
the Mind / G. Lakoff. – Chicago: The University of Chicago Press, 1987. – 614 p.
406. Laurer Q. Philosophy as Rigorous Science / Q. Laurer.; in Husserl E.
Phenomenology and the crisis of philosophy. – New York: Harper & Row, 1965. –
pp. 71-147.
407. Leisegang H. Die Gnosis / H. Leisegang – Lpz., 1924. – S. 247-248.
408. Levin B., Rappaport Hovav M. Argument Realization / B. Levin, M.
Rappaport Hovav. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – pp. 57-149.
409. Levin B., Rappaport Hovav M. Morphology and lexical semantics / B. Levin,
M. Rappaport Hovav.; in A. Spencer and A. Zwicky (editors)., The Handbook of
Morphology. – Oxford, UK: Blackwell. 1998. – pp. 248-271
410. Levin B., Rappaport Hovav M. What to do with θ-roles / B. Levin, M.
Rappaport Hovav.; Thematic Relations. W. Wilkins (editor). – San Diego, CA:
Academic Press.1988. – pp. 7-36.
411. Levine J. Aquaintance, denoting concepts and sense / J. Levine // Philosophic
review. – Ithaca. NY. – 1998. – Vol.107. – № 3. – pр. 415-445.
412. Lipps, H. Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik / H. Lipps. Werke.
4 Aufl. – Frankfurt am M.: Vittorio Klostermann, 1976. – Bd. II. – 142 S.
413. Luhmann N. Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität / N. Luhmann –
Fr./M.: SuhrkampVerlag, 1982. – 232 S.
414. Lynge J. Rules, language games and the autonomy of understanding / J. Lynge.
– Oslo. Univ. of Oslo. 1994. – p.148.
415. Makin G. Making sense of "On denoting" / G. Makin // Synthese. – Dordrecht.
– 1995. – Vol. 24. – №3. – pр. 383-412.
442
416. McCabe H. Sense and sensibility / H. McCabe // International philosophic
quarterly. – Bronx, NY. – 2001. – Vol. 41. – № 4. – pр. 411-420.
417. McGinn C. Wittgenstein on Meaning / C. McGinn. – Oxford: Blackwell, 1984.
418. Meier R.P., Aristar-Dry H., Destruel E. Text, Time, and Context / R.P.
Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel. – Selected papers of Carlota S. Smith. / Studies
in linguistics and philosophy 87. Dordrecht: Springer, 2009
419. Miller R.A. Japans’modern myth. The language and beyond / R.A. Miller. –
New York&Tokyo: Weatherhill, 1982. – p. 298.
420. Milostivaja A. Text als pragmasynergetische Kommunikationsform / A.
Milostivaja // Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. – 18.
Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. – Hamburg, Verlag Dr.
Kovač, 2010. – S. 191-201.
421. Morier H. La psychologie des styles / H. Morier. – Geneve, 1959. – 374 p.
422. Naciscione A. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse / A.
Naciscione. – Amsterdam/Philadelphia, 2010. – 236 p.
423. Nakamura H. Ways of thinking of Eastern Peoples / H. Nakamura. – Honolulu:
The Univ. Press of Hawaii, 1981. – 712 p.
424. Natanson M. Literature, philosophy and the social sciences / M. Natanson. –
The Hague, 1968. – 232 p.
425. Nesher D. Wittgenstein, meaning and use / D. Nesher // International
philosophic quarterly. – Bronx, NY. 1992. – Vol. 32. – № 1. – рp. 55-78.
426. Obayashi, Taryo. The Conception of the Soul... / Taryo Obayashi. – Tokyo,
1994. – 304 p.
427. Osherson D.N., Smith E. E. On the adequacy of prototype theory as a theory of
concepts / D.N. Osherson, E. E. Smith // Cognition. – Amsterdam, 1981. – Vol. 9. –
pp. 35-58.
428. Palmer K.D. Making Sense of Meaning in Deleuze [электронный ресурс] /
K.D. Palmer // From Hyper and Wild Being to Ultra Being. – Orange CA, 2004. –
Режим доступа: http://archonic.net/dlz01a03.pdf.
443
429. Parret H., Bouveresse, J. Meaning and Understanding / H. Parret, J. Bouveresse
(editors). – Berlin-New York: W. de Gruyter, 1981. – X. – 442 p.
430. Pears D.F. The Origin and Development of Wittgenstein's Treatment of RuleFollowing / D.F. Pears // The Tasks of Contemporary Philosophy. Proceedings of the
10th Wittgenstein Symposium. – Vienna, 1986. – Part 1. – pp. 410-457.
431. Pearson P.D. Toward a Theory of Reading Comprehension Instruction / P.D.
Pearson & etc. Topics in Language Disorders. – 1980. – Vоl. 1. – № 1. – рр. 71-88.
432. Pietroski P. The UndeXated Domain of Semantics / P. Pietroski // Sats, Nordic
Journal of Philosophy. – № 1. – 2000b. – pp. 161-176
433. Prawitz D. Meaning and objectivity. Meaning and interpretation / D. Prawitz. –
Stockholm. 2002. – p. 274.
434. Putnam H. The meaning of «meaning» / H. Putnam // K. Gunderson (editor),
Language, Mind and Knowledge. – Vol. VII of Minnesota Studies in the Philosophy
of Science. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975. – pp. 131-193.
435. Rosch E.H. Cognitive Representations of Semantic Categories / E.H. Rosh //
Journal of Experimental Psychology: General. – Vol. 104. – 1975. – №3. – pp. 192233.
436. Rosch E.H. Natural Categories / E.H. Rosh // Cognitive Psychology. – Vol. 4.
1973. – № 3. – pp. 328-350.
437. Rosch E.H., Mervis, C.B. Family resemblances: Studies in the internal
structure of categories / E.H. Rosh, C.B. Mervis // Cognitive Psychology. – 1975.
Vol. 7. – pp. 573-605.
438. Ross P.W. Qualia and the senses / P.W. Ross // Philosophic quarterly. – St.
Andrews, 2001. – Vol. 51. – № 205. – pр. 495-511.
439. Russel B. «On Denoting» in The Philosophy of Language / B.Russel. The
philosophy of language. 3d edition; Martinich A. P. (editor). – Oxford: Oxford
University Press, 1996. – p. 640.
440. Saul J.M. Speaker meaning, what is said and what is implicated / J.M. Saul //
Nous. – Bloomington. 2002. – Vol. 36. – № 2. – pр. 228-248.
444
441. Schiffer S. Meanings and their nature / S. Schiffer // From the logical point of
view. – Prague. 1993. – Vol. 2. – № 2. – pр. 12-26.
442. Schiffer S. A paradox of meaning / S. Schiffer // Nous. – Bloomington. 1994. –
Vol. 28. – № 3. – pр. 279-323.
443. Schiffer S. The language-of-thought relation and its implications/ S. Schiffer //
Philosophic studies. – Dordrecht. 1994. – Vol. 76. – № 2/3. – pр. 263-285.
444. Schleiermacher Fr.D.E. Hermeneutik / Fr.D.E. Schleiermacher.; nach den
Handschriften neu hrsg. und eingeleitet von H. Kimmerle. – Heidelberg: Carl Winter
Universitätsverlag, 1959. – 176 S.
445. Schöfer E. Die Sprache Heideggers / E. Schöfer. – Pfullingen: Günther Neske,
1962. – 312 S.
446. Schwab M. Philosophy of Deleuze Fall / M. Schwab. – UCI, 2004.
447. Schweppenhäuser H. Studien über die Heideggersche Sprachtheorie / H.
Schweppenhäuser.
Stuttgart,
1957
(Aus:
Archiv
für
Philosophie.
7.
8)
S.279324,11644.
448. Shanker, S.G. Sceptical Confusions About Rule-Following / S.G. Shanker. in
Wittgenstein L. Critical Assessments. – London, 1986. – Vol. 2. – pp. 423-429.
449. Smith B. Zur Nichtübersetzbarkeit der deutschen Philosophie / B. Smith.;
Dietrich Papenfuß und Otto Poggeler (hrsg.) Zur philosophischen Aktualität
Heideggers. – Band 3. – Frankfurt am M.: Vittorio Klostermann 1992. – S. 125-147.
450. Smith D.W., McIntyre R. Husserl and Intentionality: A Study of Mind,
Meaning, and Language / D.W. Smith, R. McIntyre. Synthese Library; V. 154. –
Dordrecht, Holland: D. Reidel Pub. Co., 1982. – Chapter 3. – pp.94-103.
451. Stainton R.J. The meaning of sentences / R.J. Stainton // Nous. – Bloomington,
2000. – Vol. 34. – №3. – pр. 441-454.
452. Stanley J. Context and Logical Form / J. Stanley // Linguistics and Philosophy.
– № 23. – 2000. – рр. 391-424.
453. Tragesser R.S. Phenomenology and logic / R.S. Tragesser. – Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1977. – 138 p.
445
454. Tait W.W. Wittgenstein and the "Sceptical Paradoxes" / W.W. Tait // The
Journal of Philosophy. – 1986. – Vol. 83. – № 9. – pp. 475-488.
455. Travis C. On what is Strictly Speaking True / C. Travis // Canadian Journal of
Philosophy. – № 15. – 1985. – рр. 187-229.
456. Trier J. Sprachliche Felder / J. Trier // Zeitschrift fur deutsche Bildung 8. – H.
9, 1932. – S. 417–427.
457. Ueda M. Literary and art theories in Japan / Makoto Ueda. – Cleveland, Ohio:
The Press of Western Reserve Univ., 1967. – 274 p.
458. Van Valin R.D., Wilkins, D.P. (1996) The Case for ‘Effector’: Case Roles,
Agents, and Agency Revisited / R.D. Van Valin, D.P. Wilkins // Grammatical
Constructions. M. Shibatani and S.A. Thompson, (editors). – Oxford: Clarendon
Press, 1996. – pp. 289-322.
459. Waissman F. The Principles of Linguistic Philosophy / F. Waissman.; R. Harré
(editor). – London: Macmillan, 1965.
460. Wetzer H. ‘Nouny’ and ‘verby’ adjectivals: a typology of predicative adjectival
constructions / H. Wetzer // F. Kiefer, J. van der Auwera (eds.), Meaning and
grammar: crosslinguistic perspectives. – Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. pp. 224263.
461. Wittgenstein L. On Certainty / L. Wittgenstein. – Oxford, 1969. – VII. – 90 p.
462. Wittgenstein L. Philosophical investigations / L. Wittgenstein. –
Oxford,
1953. –X. – 232 p.
463. Wunderlich D. Argument extension by lexical adjunction / D. Wunderlich //
Journal of Semantics. – 14. – 1997a. – pp. 95-142.
464. Wunderlich D. Cause and the structure of verbs / D. Wunderlich // Linguistic
Inquiry. – 28. – 1997b. – pp. 27-68.
Словари
1.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э.
Бенвенист; пер. с фр. – М.: Прогресс-Универс, 1995. – 456 с.
2.
1970.
БЯРС – Большой японско-русский словарь. Под. ред. Н.И. Конрада. – М.,
446
3.
Васильева Н.В. Краткий словарь лингвистических терминов / Н.В.
Васильева, В. А. Виноградов, А. М. Шахнарович /. – М.: Рус. яз., 1995 – 175 с.
4.
Керлот X.Э. Словарь символов / Хуан Эдуардо Керлот – М.: «REEL-
book», 1994. – 608 с.
5.
Кого дзитэн (Словарь старояпонского языка). / Под ред. Сато Кэндзо и др.
/ Кэндзо Сато. Токио, 1994.
6.
Кубрякова Е.С., Демьянков В.3., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий
словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова. под общей редакцией Е.С.
Кубряковой. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
7.
Лингвистический энциклопедический словарь [электронный ресурс]; под
ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1990. – 682 с. – Режим доступа: http://lingvisticheskiyslovar.ru.
8.
Новый русско-японский словарь. Изд. 2-е. / cост. Кимура С., Сато Д. и др.
– Токио, 1995.
9.
Первый толковый большой энциклопедический словарь – М.: Рипол
Классик, 2006. – 2144 с.
10.
Apel M. Philosophisches Wörterbuch / M. Apel – Berlin, 1958. – S.110.
11.
Brugger W. Philosophisches Wörterbuch / W. Brugger – Fraiburg u. and.,
1964. – S.116.
12.
Duden-Grammatik. 5 völlig und neu bearb. u. erw. Auflage. – Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich, 1995.
13.
Garrison J., Kimiya K., Wallace G., Goshi M. Kodansha's Dictionary of Basic
Japanese Idioms. – Tokyo-N.Y.-London, 2002.
14.
Glосkner H. Hegel-Lexikon / H. Glockner. – Bd 1-4. – Stuttgart: Verlag
Günter Neske, 1934.
15.
Japanisch – Deutsches Zeichenlexikon. Leipzig: VEB Verlag, 1980. – 736 s.
16.
KLUGE Etymologisches Wörterbuch [электронный ресурс] / 24. Auflage auf
CD-ROM. 2002 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.
447
17.
Frauenstädt J. Schopenhauer-Lexikon: Ein Philosophisches Wörterbuch / J.
Frauenstädt. – Volume 1 (German Edition). – М.: Книга потребованию, 2011. – S.
406.
18.
Masuda K. Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary / K. Masuda. –
Tokyo, 1974.
19.
Nelson. The Modern Reader’s Japanese-English charakter Dictionary. Rutland,
Vermont. Tokyo, Japan. 1991. – 1110 р.
20.
Schischkoff G. Philosophisches Wörterbuch / G. Schischkoff – Wasserburg,
1978. S.222.
21.
Wagner R. Philosophisches Wörterbuch / R. Wagner – Münch.-В., 1923.
22.
, 2002.
23.
, 2000.
24.
, 2000.
Источники
1.
Heidegger M. Identität und Differenz / M. Heidegger. Gesamtausgabe. – I
Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Hrsg.: Friedrich-Wilhelm von
Herrmann. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1991. XVIII. – Band
11. – 168 S.
2.
Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik (1929) / M. Heidegger.
Gesamtausgabe. – I Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976. Hrsg.:
Friedrich-Wilhelm von Herrmann. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann
Verlag, 1991. XVIII, – Band 3. – 318 S.
3.
Heidegger M. Sein und Zeit / M. Heidegger – Tübingen: Max Niemeyer
Verlag. – Elfte, unveränderte Auflage, 1967. – 450 S.
4.
Heidegger M. Was heißt Denken? / M. Heidegger – Tübingen: Max Niemeyer
Verlag, 1971. – 110 S.
5.
Heidegger M. Wesen der Wahrheit / M. Heidegger – Stuttgart: Verlag Günter
Neske, 1959. – 270 S.
448
6.
Heidegger M. Was ist Metaphysik? / M. Heidegger – Tübingen: Max
Niemeyer Verlag, 1971. – 110 S.
7.
Heidegger M. Vom Wesen des Grundes / M. Heidegger. Wegmarken:
Gesamtausgabe. – Frankfurt am Main, 1929; 1976. – Bd. 9. – S. 123-176.
8.
Luhmann N. Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität / N. Luhmann –
Fr./M.: SuhrkampVerlag, 1982. – 232 S.
9.
Seidel J. Muß man unbedingt modern sein? Zur Signatur der Moderne
[электронный ресурс] / J. Seidel. im Werk Stefan Georges «Muß man unbedingt
modern sein?» – Режим доступа: http://seidel.jaiden.de/george.php
10.
Wittgenstein L. Logisch-Philosophische Abhandlung / L. Wittgenstein //
Annalen der Naturphilosophie, 14 (1921). – Ostwald, 1921. – S. 128
11.
Wittgenstein L. On Certainty / L. Wittgenstein – Oxford, 1969. VII. – 90 p.
12.
Wittgenstein L. Philosophical investigations / L. Wittgenstein – Oxford, 1953.
X. – 232 p.
13.
14.
[электронный ресурс] CASIO, 2001.
, 2001.