Репрезентация культурной травмы: музеефикация Холокоста
advertisement
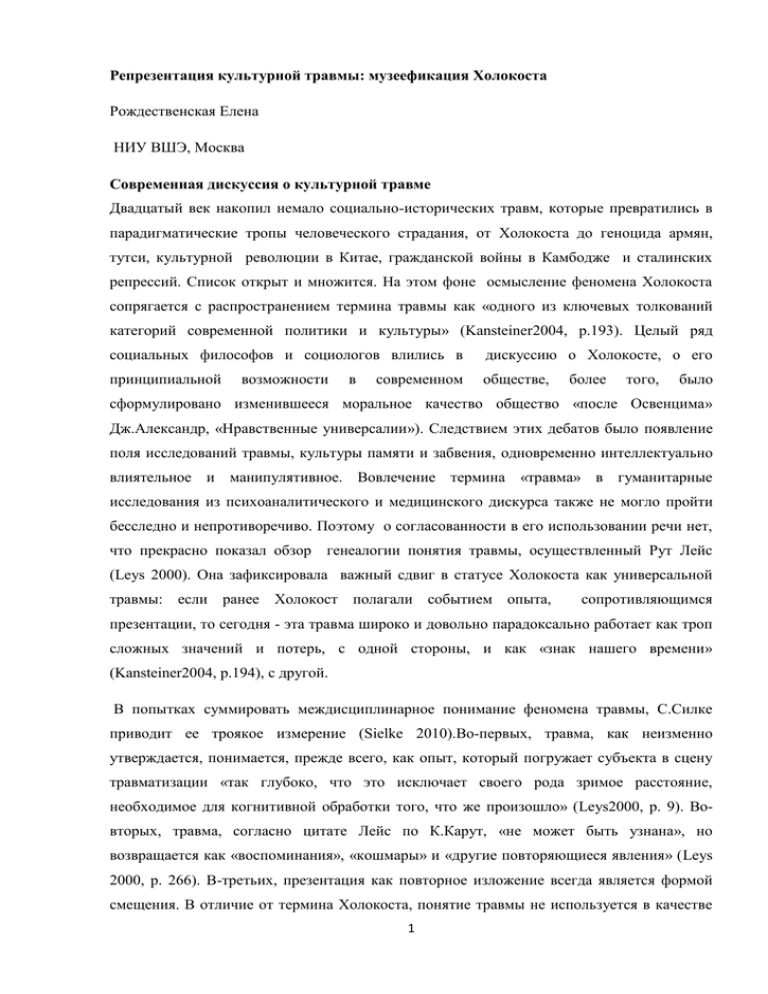
Репрезентация культурной травмы: музеефикация Холокоста
Рождественская Елена
НИУ ВШЭ, Москва
Современная дискуссия о культурной травме
Двадцатый век накопил немало социально-исторических травм, которые превратились в
парадигматические тропы человеческого страдания, от Холокоста до геноцида армян,
тутси, культурной революции в Китае, гражданской войны в Камбодже и сталинских
репрессий. Список открыт и множится. На этом фоне осмысление феномена Холокоста
сопрягается с распространением термина травмы как «одного из ключевых толкований
категорий современной политики и культуры» (Kansteiner2004, p.193). Целый ряд
социальных философов и социологов влились в
дискуссию о Холокосте, о его
принципиальной
обществе,
возможности
в
современном
более
того,
было
сформулировано изменившееся моральное качество общество «после Освенцима»
Дж.Александр, «Нравственные универсалии»). Следствием этих дебатов было появление
поля исследований травмы, культуры памяти и забвения, одновременно интеллектуально
влиятельное и манипулятивное. Вовлечение термина «травма» в гуманитарные
исследования из психоаналитического и медицинского дискурса также не могло пройти
бесследно и непротиворечиво. Поэтому о согласованности в его использовании речи нет,
что прекрасно показал обзор генеалогии понятия травмы, осуществленный Рут Лейс
(Leys 2000). Она зафиксировала важный сдвиг в статусе Холокоста как универсальной
травмы: если ранее Холокост полагали событием опыта,
сопротивляющимся
презентации, то сегодня - эта травма широко и довольно парадоксально работает как троп
сложных значений и потерь, с одной стороны, и как «знак нашего времени»
(Kansteiner2004, p.194), с другой.
В попытках суммировать междисциплинарное понимание феномена травмы, С.Силке
приводит ее троякое измерение (Sielke 2010).Во-первых, травма, как неизменно
утверждается, понимается, прежде всего, как опыт, который погружает субъекта в сцену
травматизации «так глубоко, что это исключает своего рода зримое расстояние,
необходимое для когнитивной обработки того, что же произошло» (Leys2000, p. 9). Вовторых, травма, согласно цитате Лейс по К.Карут, «не может быть узнана», но
возвращается как «воспоминания», «кошмары» и «другие повторяющиеся явления» (Leys
2000, p. 266). В-третьих, презентация как повторное изложение всегда является формой
смещения. В отличие от термина Холокоста, понятие травмы не используется в качестве
1
тропа воспоминания, забывания и признания, но в качестве режима повторения и
пересмотра, что приводит к тому, что травмирующий импульс не может даже припомнен,
тем самым «посрамляя обыденные формы понимания» (Belau2001). Таким образом,
травма является феноменом par excellence, который позволяет нам многократно
воспроизвести процесс выявления того, что скрыто, фундаментальный процесс
производства любых знаний, и в то же время фрустрирует наше желание ее опознать.
В отличие от этого, культурная травма сегодня – в фокусе переоткрытия, рассказывания
и визуализации всеми возможными способами. Более того, в этой связи Дж. А. Нидей
говорит о «риторике травмы» (Niday 2011, p.59), а Дж. Александер даже полагает травму
«новым образцовым нарративом», утверждая, что «культурная травма возникает, когда
члены коллектива чувствуют, что они были подвергнуты ужасающему событию, которое
оставляет неизгладимый след в их групповом сознании, навсегда запечатлеваясь в их
памяти и меняя их будущую идентичность фундаментальным и бесповоротным образом»
(Alexander 2004 etal, p.10).Александер также отметил, что событие, которое будет
представлено в виде культурной травмы, должно быть культурно классифицировано
коллективом
как
образцовый
нарратив,
который
составит
ядро
коллективной
идентичности.
Таким образом, исследовательское поле травмы мало сказать разнообразно и обширно.
Оно содержит внутреннее противоречие, на которое указывают многие исследователи,
например, Сабина Сиелке, Карин Балл, Мария Цетинник. Это противоречие заложено, с
одной стороны, идеей, пришедшей из психоанализа о невыразимости травмы ( Т.Адорно,
Ж.-Ф. Лиотар, Ш.Фельман, Д. Лауб, К. Карут и др.), а, с другой, мнением о глобализации
и медиатизации травмы (В.Канштайнер, Э.Каплан, Дж.Александер, А.Хьюссен). Как
полагает Дж. Александер, «ужасающая травма евреев стал травма всего человечества»
(Alexander2004, p. 231). Можно говорить о глобализации дискурса о Холокосте, поскольку
феномен Холокоста используется «как универсальный троп для исторической травмы»
(Huyssen2000, p.23), что близко позиции упоминавшихся выше Эдмунса и Тернера. Но
если, согласно А.Хьюссен, Холокост «стал шифром для ХХ века в целом и для проекта
просвещения в частности», то память конкретных жертв Холокоста «заперта на
определенных локальных условиях» травматичного события. Таким образом,
в
транснациональном движении дискурсов памяти, Холокост утратил свое качество как
индекс конкретного исторического события и функционирует в качестве метафоры для
других травматических историй и воспоминаний (Huyssen2000, p. 24).
2
Более подробно о перспективах медиатизации травмы высказался Дж.Александер. Прежде
всего, автор теории культурной травмы утверждал, что травма является социально
опосредованной атрибуцией (Alexander 2004, p. 8). По словам Александера, социальный
процесс культурной травмы заполняет разрыв между событием и представлением,
коллективные агенты процесса травмы выносят суждения о социальной реальности,
подразумевают причины и ответственность за действия
(Alexander
2004, p.11).
Александер уподобляет этот процесс речевому акту, направленному на «убедительное
предъявление претензий по травме к общественной аудитории» (Alexander 2004, p.12) и
формирование «нового автора повествования о социальных страданиях» (Alexander 2004,
p.15), который обеспечивает «императивные ответы» на вопросы, касающиеся «природы
боли», «характера жертвы», «отношения травмированной жертвы и более широкой
аудитории»,
«атрибуции
ответственности»
(Alexander
2004,
p.15).Обозначая
институциональные арены «этого репрезентативного процесса» как «религиозные»,
«эстетические»,
«правовые»,
бюрократические»
(Alexander
«научные»,
2004,
«массмедийные»
p.15-20),
и
Александер
«государственно-
отделяет
моменты
посредничества («эстетические», «массмедийные») от таких институтов, как наука, право
и государство. Но поскольку им обойдены вопросы о том, как культурная травма может
быть эстетически представлена и опосредована в различных институтах, ряд теоретиков
остается неудовлетворенным предложенной Александером перспективой того, как же
культурная травма становится «социально опосредованной атрибуцией» (например, Sielke
2010). Таким образом, теоретический вопрос совмещения значения травмы и эстетической
формы репрезентации остается открытым, как минимум парадоксальным, но практически
представляет интереснейшее поле эстетических репрезентаций, как, например, комиксы
Шпигельмана о лагерном опыте отца.
Таким
образом,
социально-историческая
травма
стала
предметом
культурного
пересмотра, что явствует на примере Холокоста, память о котором была долгое время
табуирована.Но из длительно замалчиваемого события-травмы, претендующего на
исключительность, этот феномен был преобразован и инкорпорирован в универсальный
человеческий опыт.
Музеефикация Холокоста
Музеи еврейской истории и культуры в Берлине, Лондоне, Вашингтоне, Яд-Вашем, Праге
и других городах создали определенный социальный жанр музея, важным подтекстом
которого является Холокост, как моральный урок мирового значения, как пример крайней
формы
нетерпимости.
Безусловно,
их
объединяет
3
важная
социальная
функция
увековечивания и назидания, но каждый музей контекстуален и создает свою форму
репрезентации, риторики и меру перформанса памяти о событиях еврейской истории.
«Описание и понимание специфических жанров как социальных действий в особом
социальном и политическом контексте» позволяет исследователям изучить такие
нетекстовые жанры, как музеи, более эффективно (Freedman, Medway 1994, р.3).
Возможно, перформанс как приглашение к активному взаимодействию с артефактами и
пространством музея является отражением важных тенденций в memory-studies. Важным
аспектом эффективности стратегии коммеморации, воплощенной в современных
интерактивных и перформативных музейных практиках, является термин резонанса– как
отклик на связность содержания и формы коммеморативной практики (Snowetal.1986,
p.477; Wagner-Pacifici 1996).Таким образом, посетитель музея еврейской истории является
не только объектом направленного нарратива, имеющего социальные и риторикоморализирующие
задачи,
но
и
субъектом,
резонирующим
в
формате
перформансакоммеморации, а проще, – откликающимся и переживающим участником
взаимодействия.
Музеи, посвященные Еврейской истории и Холокосту, как мы отметили, существуют во
многих городах и странах. Их в основном делят на две большие категории. Первые
устраивают
там,
где
имело
место
коллективное
насилие.
К
ним
относятся
концентрационные лагеря, принудительно-трудовые лагеря, места массовых захоронений,
тюрьмы, где содержались политические заключенные. Аура подлинности здесь
фактически заменяет собой экспозицию. Вторые - это музеи, которые воссоздают
исторические места насилия в своих стенах (Crysler2006). Многие ключевые музеи такого
типа были построены в течение последних двух десятилетий, например, Музей
толерантности в Лос-Анджелесе (1993) и Государственный Мемориальный музей
Холокоста США в Вашингтоне (1994). В обоих случаях используются сложные системы
презентации Холокоста, чтобы передать полноту его значения согражданам. И здесь
имеет место объединение с концепцией толерантного поведения,
в данном случае -
интеграция с правоохранительной системой, поскольку на экскурсии в музей
привлекаются осужденные на почве расовой ненависти, а также сотрудники полиции,
судьи и другие лица, участвующих в правоохранительных органах. Отличительная
особенность этих музеев (Crysler 2006) – в нацеленности на чувственную работу с
прошлым, призыв к
обмену опытом и эмоциями в дополнение к рациональному
познанию. Если исторически именно познавательный нарратив структурирует музей, то
современные
музейные
формы
провоцируют
на
идентификацию
посетителя
с
коллективным субъектом истории через моделируемый опыт страдания других, что
4
невозможно без разбуженных эмоций сочувствия и работы памяти. Как отмечает
Хартман, эмпатия, сопереживание стремится противодействовать глухоте к страданиям
других, помещая тело зрителя в тела жертв 1997, p.19.).
Поэтому современные
социальные технологии памяти в пространстве музея связаны с терапевтически
моделируемой травмой, «нанесение» которой оправдывается в свете общественно
признаваемых
ценностей.
Музей
рассматривает
разнообразных
посетителей
как
коллективного субъекта социально-травматической истории, а затем предоставляет им
способ преодолеть травму, отработать критически ее содержание, влияя, таким образом,
на гражданское сознание. Посетителям предлагают пережить эмоциональный опыт в
целях идентификации с морально означенной историей, в которой расставлены акценты,
что нужно помнить, что осудить, что увековечить. Однако, акт эмоционального
потребления важно сопроводить именно морализирующим повествованием, в противном
случае сложно ожидать эффект повышения толерантности. Более того, тогда посетителю
сложно и преодолеть моделируемую травму знакомства с объемом примененного в
истории насилия.
Но посетители музея вовсе не пассивные зрители, на что мы указывали в связи с
концепцией резонанса на коммеморацию. На активность зрителя ссылается и известный
специалист в концептуализации музееведения Тони Бенетт (Bennett 1995). Он отмечал,
что выставочные условия благодаря визуальности порождают род линзы, сквозь которую
зритель/посетитель определенным образом воспринимает себя по отношению к остальной
массе посетителей. В музейном пространстве зритель находится в режиме культурного
потребления, а также демонстрирует себя, вписывая себя в рамки социально ожидаемого
поведения. Беннетт называет это педагогикой потребления. Таким образом, в
обсуждаемого типах музеев мы обнаруживаем парадоксальную ситуацию объединения
моделируемой травмы и потребления, моральные потрясения и режимы социально
приемлемого поведения посетителей. Поэтому не случайно реализованные проекты
меморизации Холокоста вызывали неоднозначную реакцию и критику общественности –
как экспертов, так и посетителей. Ниже мы рассмотрим развернутую экспертизу
меморизации в известных западных музеях, а также осуществим плотное, по Гиртцу,
этнографическое описание Еврейского музея и центра толерантности в Москве.
Еврейский музей в Берлине (ЕМБ)и Мемориальный музей Холокоста (ММХ) в
Вашингтоне
5
Чамецкий в своем анализе опыта ЕМБ подчеркивает, что, при том, что Холокост – часть
опыта многих посетителей, евреи и еврейские вещи можно рассматривать в качестве
положительного компонента «постнациональной» версии немецкого национального
нарратива (Chametzky 2008).Автор описывает и анализирует опыт ЕМБ, как он
существует, как был устроен его сотрудниками и экспертами, публицистами. Этот опыт
включает сам феномен Холокоста, и само здание музея, построенное по проекту
архитектора Д.Либескинда, но не ограничивается ими и нефокусируется исключительно
на них. Предваряющая Холокост история евреев в Германии представлена здесь вовсе не
как телеологическая траектория, завершающаяся геноцидом или обнаруживающая свою
окончательную метафору в «void» (Пустота, одно из архитектурных пространств ЕМБ
Либескинда). Роль ЕМБ на фоне усилий по музеефикации преступлений нацизма в
Германии,
по
мнению
Чамецкого,
заключается
в
«представлении
немецкого
национального нарратива в постнациональной форме, в результате чего он может
cодержать еврейские феномены как положительные и в дальнейшем присутствующие,
даже в их очевидном отсутствии» (Chametzky 2008, p.240).
В отличие от П. Чамецкого, вписывающего представленную в ЕМБ версию меморизации
Холокоста в постнациональный немецкий нарратив, другая исследовательница этой же
темы Лиза Костелло рассматривает содержание и форму меморизации Холокоста в ЕМБ
сквозь призму перформативной памяти. Так, она полагает,
прежде всего, что
интерпретация социального эффекта, или функции этих музейных пространств, требует,
чтобы их анализировали как риторические жанры, которые, по определению, социальны и
перформативны. И эта социальная функция в Еврейском музее Берлина (ЕМБ) может
быть рассмотрена как стимуляция интерактивного и висцерального опыта через
теоретический объектив риторического перформанса, чтобы понять, как ЕМБ вовлекает
свою аудиторию. В современных музейных практиках выставочное пространство
подвижно, благодаря чему пассивность зрителя провоцируется и трансформируется.
Опрокидывая «типичную» музейную тенденцию, основанную на пассивном восприятии
посетителями музейного нарратива, ЕМБ имеет потенциал к трансформации посетителя в
активного свидетеля. То есть, Л.Костелло полагает, что посетители могут сознательно
действовать в этом пространстве, вспоминают события заново и применяют эти знания к
актуальному настоящему. В ЕМБ фрейм фрагментированного описанного времени между
прошлым, настоящим и будущим постоянно взаимодействует с субъективностью
архитектурного пространства, а цитаты и называния имен и чисел в экспонатах создают
таких свидетелей посредством активного диалога; это риторическое пространство
6
становится перформативным текстом, который имеет последствия в виде побуждения к
действию. Активный же отклик видоизменяет позицию аудитории в отношении
прошлого, соответственно, надо признать, что память и мемориальные произведения
являются процессами социального конструирования, которые запущены в настоящем.
Они могут быть приняты или испытывать сопротивление. Акт свидетельства обусловлен
перформативной памятью - сдвигом перспектив, расширением горизонта знаний и
усложнением категории прошлого, разрушающих бессознательную перформативность
настоящего.
Раш
утверждает,
что
сущность
перформативности
–
в
его
непосредственности, и по завершении перформанса он исчезает (Rush 1999, p.1). Если,
однако, перформанс является социальным и политическим вмешательством, в котором
посетители становятся участниками, как полагает Роч (Roach 1995, p.46), тогда ЕМБ
является перформативным текстом, который «ставит» (правит) память и приглашает к
участию, размещая «зрителя и окружающую среду в качестве витально важных элементов
в создании художественного объекта» (Casey2005, р.80). Презентируя содержание, дизайн
и хронологию, которые опрокидывают ожидания аудитории в отношении истории и
памяти о Холокосте, ЕМБ содействует интерактивному диалогу.
В целях триангуляции рассмотрим позицию еще одной исследовательницы ЕМБ,
более того, осуществившей сравнение ЕМБ с Мемориальным Музеем Холокоста (ММХ) в
Вашингтоне. Так, Джоанна Лэйдлер задалась вопросом, какое влияние эти музеи
оказывают на наше понимание Холокоста (Laidler 2009). Оба музея, и ЕМБ, и ММХ,
используют современные технологии, материалы, методики, но их выставочные площади
и социальный эффект отличаются. Оба музея используют «модель эксперимента» (Young
1999, p.77), отвечая потребностям поколения next. В Берлине компьютеры с сенсорным
экраном иллюстрируют, как Нюрнбергские законы ущемили еврейских граждан и задают
эмоциональные вопросы, такие как «Что бы вы взяли с собой, если пришлось покинуть
дом?», поощряя посетителей представить себя немецкими гражданами еврейской
национальности во времена нацизма. Вспомним сами персональный опыт посещения:
восходящий
уклон
дорожек-маршрутов,
заставляющий
посетителей
приложить
физическое усилие по преодолению, рифмуется с эмоциональным усилием по освоению
еврейской истории гонений. В Вашингтоне, «удостоверение личности жертвы» раздавали
всем посетителям в залах музея, предлагая воплотиться вреальных личностей, которые
пострадали во время Холокоста, и чьи истории жизни становятся на время вновь
воплощены. Таким образом, аудиальные и цифровые технологии, интерактивные дисплеи
используются,
чтобы
развернуть
повествование
в
музее
глазами
универсализировать страдания, с которыми столкнулись меньшинства.
7
жертв
и
В своем исследовании Лейдлер ставит важный вопрос о роли музеев в презентации
Холокоста, уточняя его до вопроса о цели, природе и форме изображений
катастрофических событий периода нацистских преследований. Презентации Холокоста,
по ее мнению, часто терпят неудачу в их попытках ассимилировать или осмыслить эти
события, или же, напротив, критикуются за банальность или эксплуатацию сюжета
убийства миллионов. Основная проблема, с которой сталкивается куратор подобного
музея, -
в «моральном и эстетическом конфликте» (Langer 2006, p.123), который
сформулировал еще Адорно, задаваясь вопросом о принципиальной возможности поэзии
после Аушвица, когда, в связи с характером предмета, стоит задача разграничения
искусства и жестокости.
Рассматриваемые
Лейдлер
музеи
Холокоста
отражают
границы
презентации
в
соответствии с обществом и контекстами, в которых они функционируют. Например,
вопрос о том, как адекватно отразить ужас «окончательного решения», не проявляя
неуважения к его человеческим жертвам, решен по-разному. В Освенциме посетители
проходят мимо огромных по масштабу экспонатов, состоящих, например, из человеческих
волос. В то время как в Вашингтонском ММХ кураторы приняли решение не
демонстрировать человеческие волосы и вместо этого использовать фотографии волос,
сделанные в Освенциме. И это локальное решение, по мнению Лейдлер, иллюстрирует
силу «выживших» повлиять на публичную репрезентацию Холокоста. Моральный ресурс
такого музейного решения Лейдлер связывает с общеизвестным утверждением вне
авторства о том, что «правила Холокоста гласят, что любой оставшийся в живых, как бы
невнятен он ни был, превосходит самого великого историка Холокоста, не обладающего
этим опытом» (Laidler 2009, p. 8). Таким образом, субъективные и коммеморативные
черты памяти о Холокосте иногда важнее, чем исторический анализ и кураторские цели,
когда возникает моральный конфликт по поводу его презентации. Холокост превзошел
все прежние ожидания и понимание гуманности, именно поэтому представления о
Холокосте часто являются неадекватной имитацией. Рассмотренные Лейдер музеи
Холокоста пытались передать грандиозность, значение и последствия Холокоста теми
способами, которые одновременно являются коммеморативными и образовательными.
Тем не менее, их выбор неизбежно обусловлен целями, влиянием и социальнополитическим контекстом конкретного музея. И ЕМБ, и ММХ – музеи, созданные и
финансируемые государством. Исходя из этого, логично предположить, что их
интерпретации
и
презентации
Холокоста
были
опосредованы
политическими
потребностями и культурными настроениями того социального времени, когда они были
8
спроектированы и построены. Поэтому немецкий культурный контекст востребовал не
музей Холокоста, а музей, посвященный истории немецких евреев.
Еврейский музей и центр толерантности в Москве
Еврейский музей в Москве создавался в рамках уже сложившейся культуры еврейской
коммеморации. На фоне предыдущего обзора практик презентации Холокоста в музеях
нас, безусловно, интересует вопрос специфики российского музея еврейской истории,
решающего сходные задачи коммеморации, все той же работы с культурной травмой, но с
учетом обстоятельств истории советского и постсоветского периодов. Далее мы опишем
историю возникновения музея в национальном социально-политическом контексте,
рассмотрим
позиции
ключевых
фигур,
имеющих
отношение
к
созданию
и
функционированию музея, а также реакцию средств массовой коммуникации. Кроме того,
к анализу будут привлечены отклики посетителей музея. В заключение мы попытаемся
дать оценки дизайну коммеморации в еврейском музее и аффилированном с ним центре
толерантности.
1. Из истории музея
Еврейский музей и центр толерантности в Москве - крупнейший в мире еврейский музей
и крупнейшая в Европе крытая выставочная площадка: площадь экспозиции 4 500 м²,
общая площадь 8 500 м². Он расположился в Москве на улице Образцова в историческом
здании бывшего Бахметьевского гаража, памятнике советского конструктивизма,
построенного в 1925—1927 годах по проекту архитектора Константина Мельникова и
инженера Владимира Шухова.Это здание действительно функционировало как гараж
московского автобусного парка до 1999 года, затем в 2001 году оно было передано в
безвозмездное временное пользование «Московской Марьинорощинской Еврейской
Общине», а также взято на баланс Главного управления по охране памятников гор.
Москвы. Последнее обстоятельство означает, что государство несет ответственность за
текущий уход и содержание территории означенного памятника архитектуры г.Москвы.
То есть, при частном статусе Еврейского музея и центра толерантности, он
расквартирован в здании, имеющем статус государственно охраняемого памятника
архитектуры. С 2002 г. стартовала разработка концепции музея, которую воплотила
выигравшая в 2004 г. тендер американская компания RalphAppelbaumAssociates,
9
создавшая множество ведущих современных музеев мира, в том числе по еврейской
истории. Стоимость музея составила около 50 миллионов долларов, собранные на
пожертвования.Еврейский музей и центр толерантности открылся в Москве 8 ноября 2012
г. В торжественной церемонии по случаю открытия приняли участие президент Израиля
Шимон Перес и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Инициатором создания
музея выступили главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР (Федерации
еврейских общин России) Александр Борода, который также является сегодня директором
музея.
2. Политический и культурный контекст Еврейского музея
Создание Еврейского музея, при долгих дебатах о его необходимости, стало возможным
благодаря политической воле «сверху». Как и Еврейский музей в Берлине или
Вашингтонский мемориальный музей Холокоста, московский ЕМЦТ вырастает в
определенном социально-политическом контексте. Из речи президента В.Путина на
встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских
общин Александром Бородой явствует линия официального дискурса, задающего
смысловой формат Еврейского музея в России1.
Итак, в основу идеологии музея
еврейской общиной изначально закладывалась идея меморизации погибших евреев, по
примеру Яд Вашема, но государство поддержало концепцию меморизации вкупе с
комфортным центром для семейного «времяпрепровождения». Поэтому становится
понятным, почему в режиме экспонирования возобладала развлекающая составляющая в
духе edutainment, обучение с развлечением.
Специфика российского еврейского музея, прежде всего, заключается в том, что
этот музей не стал государственным, это частный музей. Но и как частный музей Москве,
он вряд ли был сформирован вне государственного одобрения. Из интервью с В.В.
Путиным следует, что решение о его открытии имеет причиной дипломатический жест
ответа на открытие памятника Красной Армии в Израиле. Поэтому вероятно следует
сформулировать политику государства в отношении этого музея как дискурс позволения.
Но политикой меморизации на уровне государственной позиции
этот случай не
исчерпывается. Очевидно, спрос, социальный заказ на музейную интерпретацию
прошлого формулируется и другими социальными акторами, мобилизуя ресурсы памяти в
той ситуации, когда становится все ограниченнее число непосредственных носителей
1
http://www.kremlin.ru/transcripts/16768
10
аутентичного исторического опыта, обращение к ним реализует стремление понять, «как
это было» из первых рук. Доминирующая массовидная культура воспоминания,
коренящаяся
в
этнической
социальной
нише,
уступает
со
временем
место
маргинализирующейся культуре уходящего поколения. То есть, возникает временная
поколенческая дистанция по отношению к завершенному историческому событию, и эту
позицию, пространство стремится занять музейно-медийная структура как привносящая
новые (скорее ревитализирующая прежние, работавшие)
социально-политические
значения на языке новых поколений. Здесь уместно вспомнить о понятии post-memory
(после-память), введенным в научный оборот Марион Хирш для описания феномена
наследия памяти и идентификации через воспоминания предыдущего поколения (Hirsh..).
Сигналы, порождаемые властью, были услышаны теми, кто взял на себя колоссальный
труд по реализации этого культурного проекта, - Федерацией еврейских общин России. И
прежде всего среди них те, кто реализовал ЕМЦТ как девелопер музейного проекта. Из
интервью с Ральфом Аппельбаумом2, следует, если кратко выделить основные смысловые
линии рассказа, что он сделал музей, прежде всего, о России, «на которую мы смотрим
сквозь призму еврейского опыта», опираясь впервые содержательно на идеи, а не вещи, а
формально - на медиа, стремясь представить историю увлекательной, то есть, через опыт.
Если привлечь описанные выше характеристики государственного заказа, озвученные в
речи В.В.Путина, то, скорее, Р. Аппельбаум реализовал социально-исторический взгляд на
еврейское сообщество сквозь призму российского опыта. Контрапункт всей экспозиции –
Великая Отечественная война и Холокост – оставляют впечатление «взятия в скобки»
темы Холокоста и преследования евреев во время Второй мировой войны.
Переходя от создания музея к его функционированию, важно услышать описание
трудовых будней музея из компетентных уст. Из интервью с бывшим исполнительным
директором Еврейского музея Леонидом Агроном3 вытекает, что непосредственные
разработчики
технологии музейной экспозиции, а также проводники содержательной
политики музея делают акцент на интерактивной мультимедийности, на концепции музея
не артефактов, не вещей, а социальных идей, на производстве смысла того, что значит
быть евреем в России. История евреев сопряжена пространственно и в смысловом
отношении с темой толерантности, и это решение организаторов несет дополнительные
дидактические значения. Очевидно, только музейная экспозиция вне деятельности Центра
2
http://gorod.afisha.ru/archive/ralph-appelbaum-interview/
http://www.evreyskaya.de/archive/artikel_1450.html
3
11
толерантности терпимости не научает, скорее, наоборот. Поэтому в организационном
плане возникает отдельная институциональная единица, нацеленная на молодежную
обучающуюся аудиторию, взгляды которой надлежит формировать в направлении
терпимого отношения к различным этническим группам, подвергаемым дискриминации.
3. Медийный отклик
Отклики
представителей
масс-медиа,
в
целом,
ограничивающиеся
описательно-
информационным дискурсом, имеют в подавляющем большинстве положительную
направленность, но изредка демонстрируют и критическую настроенность – как в
интервью шеф-редактора «Артгида» Марии Кравцовой (М.К.) и художника Хаима Сокола
(Х.С.)4.
Критические
голоса
обозначили
в
экспозиции
Еврейского
музея
ряд
«нетолерантных» моментов. Они связаны с категорией различий: евреев от не евреев,
нуждающихся в большем объеме пояснительной информации по экспозиции; одних
евреев (ашкенази)от других евреев (горских, сефардов, грузинских евреев); американских
евреев,
которые
выступили
спонсорами
музея,
от
российских
евреев;
одних
дискриминируемых меньшинств от других, например, секс-меньшинств.Но в отношении
ограничений в спектре толерантности такая позиция ЕМЦТ кажется вписанной в
отечественные конвенции, ведь сотрудничество, по словам упомянутого выше Л.Агрона с
министерством культуры, образования и разработка программ для школьников, требует
учета социально-политического дискурса, весьма неласково относящегося к ЛГБТ.
4. Реакция посетителей Еврейского музея5
Как упоминал Л.Агрон, посетительская политика Еврейского музея - расширять
аудиторию музея за счет интерактивности, актуальности и прогрессивности. В этой связи
важно обратиться к аудитории музея, откликам посетителей, которые бы отметили
наиболее важные для себя опыты восприятия экспозиции музея.
Из 119 откликов - 98 откликов с оценкой отлично, то есть музей воспринимается
позитивно. Но что же выделяется в качестве позитива в восприятии посетителей?
Восприятие
музея
посетителями
акцентирует,
в
основном,
на
интерактивной
мультимедийности и технологичности экспозиции, второй по упоминанию момент связан
с этнографичностью экспозиции - культура, быт, история и религия евреев. Очень важный
4
http://www.artguide.com/ru/articles/muziei-v-protsiessie-kalibrovki-276.html
5
http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d3671557-Reviews-or10Jewish_Museum_and_Tolerance_Center-Moscow_Central_Russia.html#REVIEWS
12
сюжет меморизации погибших евреев нам встретился лишь 4 раза, хотя это была
первичная идея, заложенная в основу концепции Еврейского музея.
Заключение
Итак, посетитель Еврейского музея в Москве явно не перегружен эмоциональной работой,
зато он высоко оценивает качество полученного развлечения, отмечая интерактивность,
познавательность, все еще редкие для музейной среды технологические возможности.
Если сравнить на примере Еврейского музея в Москве баланс эмоционального
потребления и развлечения, предоставляемого мультимедийными интерактивными
возможностями экспозиции музея, то, судя по откликам посетителей, он явно склоняется в
пользу интерактивности и современных технологий. Резонанс с главным подтекстом
музея – Холокостом – смикширован самими устроителями музея. И здесь впору привлечь
мнение Робина Отри, предлагающего полит-экономический подход к анализу памяти о
травматических событиях. С его точки зрения, решения музейных сотрудников о формате
изображения травматичных историй зависят не только от борьбы за историческую правду,
но связаны и с более прозаическими вопросами финансирования, посещаемости и
институционального потенциала (Autry 2013, р.62). Мы уже отметили ограничения
примененного здесь концепта толерантности. Если мы также примем во внимание
описанный выше институциональный и социально-политический контекст создания
Еврейского музея, то становится очевидным, что крен в сторону edutainment был заложен
изначально.
Осуществляя сравнение различных Еврейских музеев и центров Холокоста, в том числе и
российского ЕМЦТ, мы подчеркивали особенность этих музеев в нацеленности на
чувственную работу с прошлым, призыв к обмену опытом и эмоциями в дополнение к
рациональному познанию, приглашение к идентификации. В этом сравнении становится
очевидным, что современные музейные экспозиции и перформансы провоцируют, хотя и
в очень разной степени, на идентификацию посетителя с коллективным субъектом
истории через моделируемый опыт страдания других, что невозможно без разбуженных
эмоций сочувствия и работы памяти. Но также стало очевидным и то, что «нанесение»
терапевтически моделируемой травмы через знакомство с феноменом Холокоста
оправдывается далеко не в любом социально-политическом и культурном контексте.Ведь
способ преодоления культурной травмы и критическая «переработка» ее содержания
влияют на гражданское сознание, поскольку следствием такой эмоциональной работы
13
следует идентификация с морально означенной историей. Может быть, Москве нужен
новый музей о Холокосте?
Библиография
Alexander, Jeffrey C. et al., eds. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University
of California, 2004.
Alexander, Jeffrey C. "On the Social Construction of Moral Universals: The 'Holocaust' from
War Crime to Trauma Drama." // Alexander, Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley:
University of California, 2004, pp. 196-263.
Alexander, Jeffrey C.."Toward a Theory of Cultural Trauma." // Alexander, Cultural Trauma and
Collective Identity. Berkeley: University of California, 2004, pp. 1-30.
Assmann, Aleida. Three Stabilizers of Memory: Affect-Symbol-Trauma. // Ed. Udo J. Hebel.
Sites of Memory in American Literatures and Cultures. Heidelberg: Winter, 2003. P.15-30.
Autry R. The political economy of memory: the challenges of representing national conflict
at ‘identity-driven’ museums // Theory and Society January 2013, Volume 42, Issue 1, pp 57-80.
Ball, Karyn. "Introduction: Trauma and Its Institutional Destinies." // Cultural Critique 46
(2000). P.1-44.
Belau, Linda. "Trauma and the Material Signifier." Trauma: Essays on the Limit of Knowledge
and Experience. // Spec. issue of Postmodern Culture 11.2 (2001): n. pag. Web. 16 Jan. 2011.
<http://pmc.iath.virginia.edu/text-only/issue. 101/11.2belau.txt
Bennett, T. (1995). The birth of the museum: History, theory, politics. London: Routledge.
Blumner, N. The Holocaust as stark reminder: Ethno-national identity, Diaspora and the
ideological process(es) of Memory. Paper presented at the annual meeting of the American
Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada, Aug. 10,
2006.
Caruth, Cathy, ed., Trauma: Explorations in Memory. Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1995.
Caruth, Cathy .Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1996.
Casey, Valerie. “Staging Meaning: Performance in the Modern Museum.” // The Drama Review
49.3 (T-187) Fall 2005. P. 78-95.
Cetinic, Marija. Sympathetic Conditions: Toward a New Ontology of Trauma // Discourse, Vol.
32, No. 3, Lugubrious Games (Fall 2010). P. 285-301.
Chametzky,Peter. Not what we expected: the Jewish Museum Berlin in practice // Museum and
society, Nov. 2008. 6(3) 196.Pp.216-245.
Costello, Lisa A. Performative Memory: Form and Content in the Jewish Museum Berlin
//Liminalities: A Journal of Performance StudiesVol. 9, No. 4, November 2013
<http://liminalities.net/9-4/costello.pdf>
Crysler C.G. Violence and Empathy: National Museums and the Spectacle of Society //
Тraditional Dwellings and Settlements Review, Vol. 17, No. 2 (Spring 2006). P. 19-38.
Crysler, Greig, &Kusno, Abidin, ‘Angels in the Temple: The Aesthetic Construction of
Citizenship at the United States Holocaust Memorial Museum’// Art Journal, Vol. 56, No. 1
(1997). P.52-64.
Edmunds, J., & Turner, B. S. Global generations: Social change in the twentieth century. // The
British Journal of Sociology, 56{4), 2005. P.559-577.
Felman, Shoshana and Laub, Dori, Crises Of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and
History. New York: Routledge, 1992.
Freedman A., Medway Р. “Introduction: New Views of Genre and Their Implications
for Education.” Learning and Teaching Genre. Aviva Freedman and Peter Medway eds.
14
Portsmouth: Boyton/Cook Publishers, 1994. 1-24.
Gross, Andrew S. "Holocaust Tourism in Berlin: Global Memory, Trauma and the 'Negative
Sublime.'"// Journeys7.2 (2006). P.73-100.
Hartman S. Scenes of Subjection: Terror, Slavery and Self-Making in Nineteenth Century
America. New York: Oxford University Press, 1997.
Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the
Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.
Hirsch, Marianne. “Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory.”//
Visual Culture and the Holocaust.Ed. Barbie Zelizer. New Brunswick: Rutgers UP, 2001.P.215246.
Huyssen, Andreas. "Of Mice and Mimesis: Reading Spiegelman with Adorno." // New German
Critique 81 (2000).P. 65-82.
Young, James, ‘America’s Holocaust: Memory and the Politics of Identity’, in The
Americanization of the Holocaust, Baltimore, (ed.) Flanzbaum, Hilene, The John Hopkins
University Press, (1999).P.68-83.
Kaplan, Ann. Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. New
Brunswick, NJ: Rutgers UP, 2005.
Kansteiner, Wulf. "Genealogy of a Category Mistake: A Critical Intellectual History of the
Cultural Trauma Metaphor." // Rethinking History 8.2 (2004). P.193- 221.
Laidler, Joanna. What roles do Museums play in shaping our understanding
of the holocaust?El.resourcehttp://www.phansw.org.au/wpcontent/uploads/2012/09/JoannaLaidler2009.pdf
Langer, Lawrence. Using and Abusing the Holocaust, Indiana, Indiana University Press,
2006.
Leys, Ruth. Trauma: A Genealogy. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Linethal, Edward, ‘The Boundaries of Memory: The United Holocaust Memorial Museum’,//
American Quarterly, Vol. 46, No. 3, (1994).P.406-433.
Marcuse, H. Legacies of Dachau: The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 19332001, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2001.
Niday, Jackson A. A Rhetoric of Trauma in 9-11 Stories: A Critical Reading of Ulrich Baer's
110 Stories." War, Literature, and the Arts 16.1-2 (2004): 59-77. Web. 16 Jan. 2011.
<http://wlajournal.com/vol/16_l-2/WLA%2059-77.pdf>.
Radstone, Susannah. "Trauma and Screen Studies: Opening the Debate." // Screen 42.2 (2001).
P.188-93.
Roach, Joseph. “Culture and Performance in the Circum-Atlantic World.” //Performativity and
Performance.Ed. Andrew Parker and Eve Kosofsky Sedgwick. New York: Routledge, 1995.
P.45-63.
Rush, Michael. “A Noisy Silence.”Exhibition Review. // PAJ: A Journal of Performance and Art
21.1 (1999). P.1-10.
Seltzer, Mark. "Wound Culture: Trauma in the Pathological Public Sphere." // October ,80
(1997) P. 3-26.
Sielke, Sabine. Troping Trauma Why "9/11 is [not] unique," or: Troping Trauma //
Amerikastudien / American Studies, Vol. 55, No. 3, Trauma's Continuum-September11th
Reconsidered (2010), pp. 385-408.
Smelser, Neil J. "September 11, 2001, as Cultural Trauma." Cultural Trauma and Collective
Identity. Ed. Jeffrey C. Alexander et al. Berkeley: U of California P, 2004. P.264-97.
Snow D., Burke E., Rochford Jr., Worden S.K., Benford R. Frame Alignment Processes,
Micromobilization and Movement Participation // American Sociological Review 1986, 51.
P.464-481.
Stamm, Β. Η., Stamm, Η. Ε., Hudnall, Α. C, & Higson- Smith, C. Considering a theory of
cultural trauma and loss.// Journal of Trauma and Loss, 9(1). 2003.P.89-111.
15
Wagner-Pacifici R. 1996. Memories in the Making: The Shapes of Things that Went //
Qualitative Sociology, 1996, 19. P.301–322.
Werbner, P. The place which is Diaspora: Citizenship, religion and gender in the making of
chaordic transnationalism. // Journal of Ethnic and Migration Studies, 28('), 2002. P. 119-133.
Электронные ресурсы
http://www.jewish-museum.ru/
http://www.jewish-museum.ru/ru/timeline
http://www.kremlin.ru/transcripts/16768
http://www.evreyskaya.de/archive/artikel_1450.html
http://gorod.afisha.ru/archive/ralph-appelbaum-interview/
http://www.artguide.com/ru/articles/muziei-v-protsiessie-kalibrovki-276.html
http://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298484-d3671557-Reviews-or10Jewish_Museum_and_Tolerance_Center-Moscow_Central_Russia.html#REVIEWS
16