Философские проблемы математики
advertisement
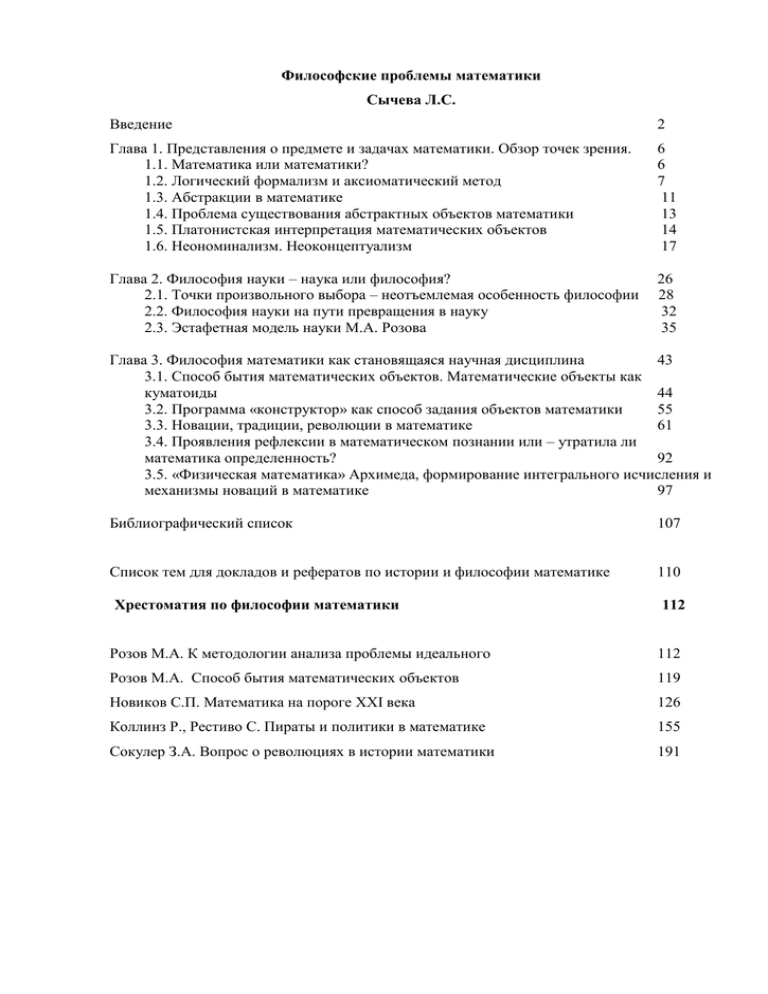
Философские проблемы математики Сычева Л.С. Введение 2 Глава 1. Представления о предмете и задачах математики. Обзор точек зрения. 1.1. Математика или математики? 1.2. Логический формализм и аксиоматический метод 1.3. Абстракции в математике 1.4. Проблема существования абстрактных объектов математики 1.5. Платонистская интерпретация математических объектов 1.6. Неономинализм. Неоконцептуализм 6 6 7 11 13 14 17 Глава 2. Философия науки – наука или философия? 2.1. Точки произвольного выбора – неотъемлемая особенность философии 2.2. Философия науки на пути превращения в науку 2.3. Эстафетная модель науки М.А. Розова 26 28 32 35 Глава 3. Философия математики как становящаяся научная дисциплина 43 3.1. Способ бытия математических объектов. Математические объекты как куматоиды 44 3.2. Программа «конструктор» как способ задания объектов математики 55 3.3. Новации, традиции, революции в математике 61 3.4. Проявления рефлексии в математическом познании или – утратила ли математика определенность? 92 3.5. «Физическая математика» Архимеда, формирование интегрального исчисления и механизмы новаций в математике 97 Библиографический список 107 Список тем для докладов и рефератов по истории и философии математике 110 Хрестоматия по философии математики 112 Розов М.А. К методологии анализа проблемы идеального 112 Розов М.А. Способ бытия математических объектов 119 Новиков С.П. Математика на пороге XXI века 126 Коллинз Р., Рестиво С. Пираты и политики в математике 155 Сокулер З.А. Вопрос о революциях в истории математики 191 Введение Философские проблемы математики обсуждаются уже в Древней Греции, когда Платон «помещает» числа, треугольники и т.п. математические объекты, как и идеи вообще, в особый мир. Элементы этого мира – вечны и неизменны, с одной стороны, а с другой – именно идеи обусловливают само существование вещей. Обсуждению подвергаются вопросы о том, где и как существуют числа, какова их природа, чем обусловлен всеобщий характер математического знания, когда в самых разных культурах, возникающих в значительной степени независимо одна от другой, люди складывают и умножают числа одинаково (техника счета различается, а результаты – одинаковы)? Трудности, которые обнаружили уже древние греки, хорошо моделирует «Диалог о сущности математики» венгерского математика Альфреда Реньи: С о к р а т. … считаешь ли ты, что звезды на небе будут появляться, если никто их не станет наблюдать, а рыбы будут продолжать плавать, если никто не станет ловить их? Г и п п о к р а т. Конечно. Как могли бы мы говорить о них, если бы их не было? С о к р а т. Тогда скажи, если бы не было математики, были бы простые числа, и если да, то где? Г и п п о к р а т. Не знаю, что и ответить. Ясно, что если математики думают о простых числах, значит они существуют в их сознании, но если бы не было математиков, не могло бы быть и простых чисел. С о к р а т. Значит, ты считаешь, что математики изучают несуществующие понятия? Г п п о к р а т. Пожалуй, мы должны допустить это. С о к р а т. Если я скажу, что математики занимаются тем, что или вовсе не существует или существует, но не так, как существуют звезды или рыбы, то буду ли я прав? Г п п о к р а т. Вполне. С о к р а т. Теперь рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения. Я написал на восковой табличке число 37. Ты видишь его? Г и п п о к р а т. Да. С о к р а т. И можешь дотронуться до него рукой? Г и п п о к р а т. Конечно. С о к р а т. Значит, числа существуют? Г и п п о к р а т. Ты смеешься надо мной, Сократ. Послушай! Я нарисовал на такой же табличке дракона с семью головами. Разве это означает, что он существует? … С о к р а т. Ты прав, Гиппократ, я с тобой согласен. Значит, хотя мы говорим о числах и даже можем написать их, на самом деле они не существуют? (Реньи, 1969. С. 2526). К числу философских проблем математики относится широкий круг проблем, достаточно разнородных. Обсуждается, как мы видели, прежде всего, вопрос о сущности и статусе математических объектов, где и как они существуют. «Отражают» ли эти объекты какие-то реалии внешнего мира, или эти объекты - чистые творения разума? Кронекер писал, что «целые числа создал господь Бог, а все остальное – творение человека». Существенно, что начиная с 19 века, споры о природе чисел и множеств не ограничиваются областью философии, а философские установки отдельных школ и направлений обоснования математики оказывают существенное влияние на решение специальных логико-математических вопросов. Тесно связан с вопросом о статусе математических объектов и вопрос о математике как науке. Н. Бурбаки спрашивает – существует ли одна математика, или – много? Имеет место очень большой разброс мнений о том, что такое математика – от слов Канта о том, что только та область является наукой, которая использует математику, до слов Фейнмана о том, что математика – не наука: «Математика, с нашей точки зрения, не наука в том смысле, что она не относится к естественным наукам. Ведь мерило ее справедливости отнюдь не опыт. Кстати, не все то, что не наука, уж обязательно плохо. Любовь, например, тоже не наука. Словом, когда какую-то вещь называют не наукой, это не значит, что с нею что-то неладно: просто не наука она, и всё» (Фейнман 1965. С.55). Сюда же примыкают такие метафоры для описания математики и ее места среди других наук, как вопрос В.А. Успенского – математика и физика – сестры или – мать и дочь? Широко известны слова Гиббса о том, что математика – это не наука, а язык, с этими словами солидаризируются одни математики и активно не согласны другие. О причинах разногласий пишет, например, Р.Курант: «На вопрос, что такое математика?» невозможно дать обстоятельный ответ на основе одних лишь только философских обобщений, семантических определений или с помощью обтекаемого газетно-журнального многословия. Так же нельзя дать общее определение музыке или живописи: никто не может оценить эти виды искусства, не понимая, что такое ритм, гармония и строй в музыке или форма, цвет и композиция в живописи. Для понимания же сути математики еще в большей степени необходимо подлинное проникновение в составляющие ее элементы» (Курант 1967. С. 16). Чем обусловлен всепроникающий характер математического знания? Возникнув из простого счета и чертежей, математика распространилась в самые разные сферы природы и социальной жизни людей, без нее не могут обойтись не только механика и другие разделы физики, но и астрономия, экономика, электронно-счетные машины и многие другие области науки и жизни. Спорными являются буквально все вопросы, касающиеся того, что такое математика, как она возникает и развивается. Так, с появлением книги Т.Куна «Структура научных революций» разгорелся спор о том, имеют ли место научные революции в математике. Многие авторы пришли к выводу, как М. Кроу, автор статьи о законах в математике, что «революции никогда не встречаются в математике» (закон 10). Идут споры о том, что такое чистая и прикладная математика, каковы между ними отношения, чему надо уделять больше внимания как в ходе научных исследований, так и в процессе преподавании. Появление многотомного курса Н. Бурбаки одними оценивается как значительное явление в математике, другие же видят существенные негативные последствия «бурбакизма» математики (Новиков 2002). Не внесло единства в обсуждение философских проблем математики и развитие исследований по ее основаниям, где в начале 20 века сложились школы логицизма, интуиционизма, формализма. опубликовавшем статью Теперь многие соглашаются с Х. Патнэмом, «Почему ничего из этого не работает» (имея в виду традиционно главные направления в философии математики) (См.: Целищев, 2007. С. 29). Однако, рассматривая философские проблемы математики, нельзя обойти вопросы формирования этих школ, а также причины, в силу которых в каждой из школ обнаружились узкие места, настолько, что У. Харт стал говорить об эпистемологическом повороте в философии математики: «Платонизм кажется ясным, когда вы думаете о математической истине, но невозможным, когда вы думаете о математическом познании. И конечно, эпистемология не умерла в нашем веке; она просто изменилась. Причинность, холизм и натурализация вытеснили чувственные данные и аналитичность. Так что надо приветствовать переформулировку основных положений эпистемологии математики. Интеллектуальным долгом является не только прогресс в области математической логики, но прогресс в эпистемологии математики» (Цит. По Целищев 2007. С. 46-47). Относятся к философии математики и вопросы о том, под влиянием каких факторов развивается математика. Даже если признать, что в математике нет научных революций, никто не сомневается, что в этой науке все время появляются новые разделы, возникают новые понятия и теории. Что этому способствует? Внешние факторы – потребности других наук, потребности практики, или – только внутренние факторы? Иначе говоря, спорят, какой идеологии следовать – идеологии интернализма (математика развивается благодаря внутренним причинам), или – идеологии экстернализма – на развитие математики существенное влияние оказывают внешние факторы – развитие материального производства, которое «направляет» свои запросы математике, социальная структура общества, традиции и т.п. Последнее важно, в частности, при ответе на вопрос – почему доказательство и вообще «чистая» математика сложилась только в Греции (в древности), а затем – в Европе, и уже оттуда распространялась в другие географические (и культурные) регионы? Является ли математика наукой о природе? Если нет, то могут спросить – зачем же она тогда существует? Благодаря тесной взаимосвязи математики, природы и общества, формируются программно-предметные комплексы (Розов 2006-1). Математика – наука о природе и обществе, если единицей исследования считать не отдельную математическую науку (теория вероятностей, теория графов и т.п.), а программно-предметные комплексы. Для данной работы важно, что многие вопросы из названных выше можно решить, если обратиться к одной из современных концепций научного знания – теории социальных эстафет М.А. Розова (Розов 2006-1). Эта теория возникла в рамках решения важнейшей задачи эпистемологии – что такое знание. Отсутствие ответа именно на этот вопрос тормозит анализ математики как науки, ибо ее объекты действительно, заключают в себе тайну – в рамках традиционных представлений невозможно ответить на вопрос – что такое число, в чем причина всеобщности и необходимости математического знания и т.д. Задачи работы вытекают из сказанного выше. Книга имеет три раздела. 1. Как понимают предмет и задачи математики в традиции. 2. Средства исследования – теория социальных эстафет, основные положения – эстафетная модель науки, идея куматоида как волноподобной структуры. Будет показано, что философия математики находится на пути превращения в эмпирическую науку. 3. Анализ выделенных в 1 части проблем в рамках теории социальных эстафет. Построение философии математики как эмпирической науки основывается на том, что: а) числа и другие математические объекты – это куматоиды, т.е. относительно постоянные программы и постоянно изменяющийся материал; б) математические объекты не находятся в природе, а конструируются человеком; в) ответ на вопрос о существовании научных революций в математике зависит от определения научной революции. При понимании научной революции как существенного изменения в развитии конкретной науки, революции есть и в математике – прежде всего – появление нового конструктора. г) Математические дисциплины, при всей их разнородности, тесно связаны друг с другом, а также с физическими науками, астрономией, биологией, географией, экономикой и многими другими. Связи фиксируются идеей программно- предметных комплексов, суть которых состоит в том, что научные дисциплины нерационально изучать как изолированные «образования», ибо, как правило, предметные науки ставят задачи, а математические – дифференциальное и интегральное исчисление, теория дифференциальных уравнений, математическая статистика, теория вероятностей, линейное программирование и т.д. – разрабатывают средства. Можно даже вообще сформулировать тезис – говоря о развитии науки, следует изучать не изолированные дисциплины, а их комплексы. В этом случае и не будет вопросов – какую реальность изучает математика. Она разрабатывает средства для предметных наук. Вероятно, все математические дисциплины входят в какие-либо комплексы. д) в математике, как совершенно справедливо считает В.А.Успенский, далеко не все определяется и доказывается, или выводится из аксиом. В математике, как и в других науках, действуют по образцам, прибегают в аналогиям, используют не строго введенные, но работающие понятия (такие, как бесконечно малые в анализе). Глава 1. Представления о предмете и задачах математики. Обзор точек зрения 1.1. Математика или математики? Рассмотрим подробнее, какие проблемы обсуждаются в рамках философии математики. В статье «Архитектура математики» Н. Бурбаки пишет, что дать в настоящее время общее представление о математической науке – значит заняться делом, которое наталкивается на почти непреодолимые трудности. Материал исследований по математике – обширен и разнообразен. Статьи по чистой математике, публикуемые во всем мире в среднем в течение одного года, охватывают многие тысячи страниц. Не все они имеют одинаковую ценность. Тем не менее, после очистки оказывается, что каждый год математическая наука обогащается массой новых результатов, приобретает все более разнообразное содержание и постоянно дает ответвления в виде теорий, которые беспрестанно видоизменяются, перестраиваются, сопоставляются и комбинируются друг с другом. Ни один математик не в состоянии проследить это развитие во всех подробностях. Однако можно спросить себя, продолжает Бурбаки, «является ли это обширное разрастание развитием крепко сложенного организма, который с каждым днем приобретает все больше и больше согласованности и единства между своими вновь возникающими частями, или, напротив, оно является только внешним признаком тенденции к идущему все дальше и дальше распаду, обусловленному самой природой математики; не находится ли эта последняя на пути превращения в Вавилонскую башню, в скопление автономных дисциплин, изолированных друг от друга как по своим методам, так и по своим целям и даже по языку? Одним словом, существуют в настоящее время одна математика или несколько математик?» (Бурбаки 1963. С. 246). 1.2. Логический формализм и аксиоматический метод Вот ответ Бурбаки: «…внутренняя эволюция математической науки вопреки видимости … упрочила единство ее различных частей и создала своего рода центральное ядро, которое является гораздо более связным целым, чем когда бы то ни было. Существенное в этой эволюции заключается в систематизации отношений, существующих между различными математическими теориями; ее итогом явилось направление, которое обычно называют «аксиоматическим методом» (Бурбаки, 1963. С. 247). То, что аксиоматика ставит перед собой в качестве основной цели – уразумение существа математики, именно этого не может дать логический формализм, взятый сам по себе. Там, где поверхностный наблюдатель видит лишь две или несколько теорий, совершенно отличных друг от друга по своему внешнему виду, и где вмешательство гениального математика приводит к обнаружению совершенно «неожиданной помощи», которую одна из них может оказать другой, там аксиоматический метод учит нас искать глубокие причины этого открытия, находить общие идеи, скрывающиеся за деталями, присущими каждой из рассматриваемых теорий, извлекать эти идеи и подвергать их исследованию» (Бурбаки. 1963. С. 248) Для того, чтобы показать, что математика – это нечто целостное, Бурбаки вводит понятие структуры и говорит, что «построить аксиоматическую теорию данной структуры – это значит вывести логические следствия из аксиом структуры, отказавшись от какихлибо других предположений относительно рассматриваемых элементов (в частности, от всяких гипотез относительно их «природы»)» (Бурбаки 1963. С. 251). Разъясняя свой ответ, он пишет, что становится здесь на «наивную» точку зрения и не касается щекотливых вопросов, полуфилософских, полуматематических, возникших в связи с проблемой «природы» математических «объектов». Ограничивается замечанием, что первоначальный плюрализм в наших представлениях этих «объектов», мыслимых сначала как идеализированные «абстракции» чувственного опыта и сохраняющих всю разнородность этих последних, в результате аксиоматических исследований XIX- XX вв. был заменен единой концепцией, посредством последовательного сведения всех математических понятий сначала к понятию целого числа, затем на втором этапе к понятию множества. Последнее, рассматриваемое долгое время как «первоначальное» и «неопределимое», было объектом многочисленных споров, вызванных характером его исключительной общности и весьма туманной природой представлений, которую оно у нас вызывает. Трудности исчезли только тогда, когда исчезло само понятие множества (и с ним все метафизические псевдопроблемы относительно математических «объектов») в результате недавних исследований о логическом формализме. С точки зрения этой концепции единственными математическими объектами становятся, собственно говоря, математические структуры. Бурбаки описывает следующие типы математических структур: алгебраические (это такое отношение между тремя элементами, которое определяет однозначно третий элемент как функцию двух первых), структуры, определенные отношением порядка (отношение между двумя элементами x, y, которое чаще всего мы выражаем словами «меньше» или «равно»), топологические (в них находят абстрактную математическую формулировку интуитивные понятия окрестности, предела и непрерывности, к которым нас приводит наше представление о пространстве). Он формулирует тезис, что структуры являются орудиями математика и показывает, как они «работают»: каждый раз, когда он замечает, что между изучаемыми им элементами имеют место отношения, удовлетворяющие аксиомам структуры определенного типа, он сразу может воспользоваться всем арсеналом общих теорем, относящихся к структурам этого типа, тогда как раньше он должен был бы мучительно трудиться, выковывая сам средства, необходимые для того, чтобы штурмовать рассматриваемую проблему, причем их мощность зависела бы от его личного таланта, и они были бы отягчены часто излишне стеснительными предположениями, обусловленными особенностями изучаемой проблемы» (Бурбаки 1963 С. 253). Но это сравнение - недостаточное. … Каждая структура сохраняет в своем языке интуитивные отзвуки той специфической теории, откуда ее извлек аксиоматический анализ. И когда исследователь неожиданно открывает эту структуру в изученных им явлениях, это для него является как бы толчком, который сразу направляет интуитивный поток его мыслей в неожиданном направлении, и в результате этого математический ландшафт, по которому он движется, получает новое освещение. Чтобы ограничиться старым примером, вспомним прогресс, осуществленный в начале XIX в. благодаря геометрической интерпретации мнимых величин; с нашей точки зрения это было обнаружение в множестве комплексных чисел хорошо известной топологической структуры – структуры евклидовой плоскости - … открытие, которое в руках Гаусса, Абеля, Коши и Римана менее чем за одно столетие обновило весь анализ. (Бурбаки 1963 С. 253-254). Это говорит о том, что в настоящее время математика менее, чем когда-либо, сводится к чисто механической игре с изолированными формулами, более чем когда-либо интуиция безраздельно господствует в генезисе открытий; но теперь и в дальнейшем в ее распоряжении находятся могущественные рычаги, предоставленные ей теорией наиболее важных структур, и она окидывает единым взглядом унифицированные аксиоматикой огромные области, в которых некогда, как казалось, царил самый бесформенный хаос. (Там же). «Что касается возражений со стороны философов, то они относятся к области, где мы не решаемся всерьез выступать из-за отсутствия компетентности; основная проблема состоит во взаимоотношении мира экспериментального и мира математического. То, что между экспериментальными явлениями и математическими структурами существует тесная связь, - это, как кажется, было совершенно неожиданным образом подтверждено недавними открытиями современной физики, но нам совершенно неизвестны глубокие причины этого (если только этим словам можно приписать какой-либо смысл) и, быть может, мы их никогда и не узнаем» (Бурбаки 1963. С. 258). Бурбаки отмечает, что при создании квантовой физики, оказалось, что работают такие математические структуры, которые были изобретены вовсе не для описания явлений микромира. Он делает вывод: «В своей аксиоматической форме математика представляется скоплением абстрактных форм – математических структур, и оказывается, (хотя по существу и неизвестно, почему), что некоторые аспекты экспериментальной действительности как будто в результате предопределения укладываются в некоторые из этих форм. Конечно, нельзя отрицать, что большинство этих форм имело при своем возникновении имело вполне определенное интуитивное содержание; но как раз сознательно лишая их этого содержания, им сумели придать всю их действенность, которая и составляет их силу, и сделали для них возможным приобрести новые интерпретации и полностью выполнить свою роль в обработке данных» (Там же).. Если Бурбаки видит специфику математики в аксиоматическом методе, в формализмах, то В.А. Успенский подходит к осознанию математики практически с «противоположной» стороны (Успенский 2010). Он спрашивает – действительно ли в математике все определяется и доказывается? Можно ли определить понятие натурального числа и т.д. Он пишет: «Математики, как правило, очень гордятся тем, что они математики. Источник гордости они видят в своей науке – причем не столько в той пользе, которую приносит математика, сколько в том, что это такая уникальная, ни на какую другую не похожая область знания. И с этой исключительностью согласны и нематематики. … В самом деле, считается общепризнанным, что математика имеет, по крайней мере, три присущие только ей черты. Во-первых, в математике, в отличие от других наук, все понятия строго определяются. Во-вторых, в математике – опять-таки в отличие от других наук – все строго доказывается из аксиом. В-третьих, математика непонятна» (Успенский 2010. С. 391). Поставив эти вопросы, Успенский говорит, что определить все математические понятия невозможно, ибо одно определяется через другое, другое – через третье и т.д. И где-то мы должны остановиться. Действительно, слов в любом языке конечное число, поэтому при определении одних слов через другие неизбежно возникает круг (т.е. ситуация, в которой слово определяется в конечном случае через само себя). Избежать такого круга можно лишь одним способом: оставить некоторые слова без определения. На вопрос – как же могут быть усвоены эти понятия, дается ответ: из непосредственного наблюдения, из опыта, из интуиции. Успенский обращает наше внимание на то, что «формирование общих, абстрактных понятий в мозгу человека – сложный процесс, принадлежащий более психологии, чем логике. Эти понятия, усваиваемые не из словесного определения, а из непосредственного личного опыта, естественно называть первичными понятиями, или категориями, математики. К числу таких категорий относятся, например, понятия точки, прямой, множества, натурального числа» (Успенский 2010. С. 393). Второй миф – о том, что в математике все доказывается из аксиом, Успенский разрушает путем обращения к учебникам по арифметике или к любому втузовскому учебнику математического анализа, или к университетскому учебнику по теории чисел. В этих учебниках доказываются теоремы, но вряд ли мы найдем там какие-либо аксиомы. Отвечая на вопрос, на основе чего происходит, например, доказательство теорем теории чисел, Успенский говорит – на основе здравого смысла и неких представлений об основных свойствах натурального ряда, которые не сформулированы явно в виде списка аксиом. Необходима честная констатация того наблюдения, что в реальной математике сплошь и рядом встречаются теоремы, доказываемые без опоры на какие бы то ни было аксиомы. Успенский здесь указывает на то, что в математике, как и вообще в познании и реальной жизни человек знает основные понятия и действия не из определений, письменных инструкций и тому подобных источников, а знает из образцов, знает на базе действий, которые происходят в поле его восприятия, что подробно будет рассмотрено дальше, в теории социальных эстафет. 1.3. Абстракции в математике Наряду с вопросами о том, что такое математика как наука, в книгах и статьях по философии математики рассматривается такая особенность математического знания, как достижение высшей степени абстрактности, поскольку математик работает не с предметами природы, а с их мысленными идеализациями (в реальном мире нет идеальных окружностей, треугольников, квадратов). Так, А.Н. Нысанбаев, например, пишет: «Математическая наука непосредственно не изучает самое действительность, она ее исследует опосредованно, через призму абстрактных объектов». Последние являются «идеальными моделями, образами реальных объектов». Поэтому «любая математическая теория непосредственно соотносится с абстрактными объектами, изучаемыми в ней», а не с самой действительностью. «В этом, - заключает Нысанбаев, - состоит специфика математического познания» (Абдильдин Ж., Нысанбаев А. 1973 С.222). А.К. Сухотин говорит, что это правильно, но это еще не вся правда о математике, ибо сказанное характерно не только для математики. Каждая наука, если она желает быть теоретическим обобщением, оперирует не непосредственно с чувственно данными предметами, а с их абстрактными отображениями, добытыми логической реконструкцией действительности и составляющими особый надприродный мир (систему мысленных образований). Так, в классической механике материальные тела были представлены идеализированными образами материальных точек и абсолютно твердых тел. Специфика математики не в том, что она имеет дело с абстракциями, а в характере абстракции, не в степени отвлеченности, но в самой природе отвлечения (Сухотин. 1977 С. 25). Математические объекты представляют абстракцию от абстракции, или – «обобщающую абстракцию». Так, конкретное число есть определенное свойство класса. Но сам этот класс уже есть свойство. Это означает, что количественная характеристика фиксирует свойство свойства, т.е. конкретное число есть предикат от предиката. А число вообще дает абстракцию еще более высокого порядка – свойство свойства свойств. Абстракция от абстракции имеет место и в других науках. Но это не означает, что у математики нет никакой специфики. В случае с числами математик не анализирует свойства объектов, составляющих совокупности (числа). И, тем не менее, математика все же что-то оставляет своим объектам, в противном случае она не могла бы описывать реальность. Пуанкаре писал: «Математик изучает не предметы, но лишь отношения между предметами, следовательно, для него вполне безразлично, будут ли данные предметы замещены какими-нибудь другими, лишь бы только не изменились при этом их отношения» (Цит. по: Сухотин 1977 С. 28). Природа объектов, таким образом, не существенна для математики, ей важны лишь отношения между ними. Этой точки зрения придерживаются С. Клини, Н. Бурбаки, Р. Фейнман. Рассмотрим, как математик познает свои объекты. Сухотин пишет, что «физик, химик и т.д., создавая свои абстракции, подсматривает их у природы, «прослушивая» и «прощупывая» ее. Математик идет отличным от других наук путем. На высших этажах современной науки математики уже не обращаются каждый раз за советами к реальности, соотнося с нею свои утверждения. Часто ситуация такова, что необходимо отвлечься от наличных данных, которые способны помешать, как например, при создании неэвклидовых геометрий, когда земной опыт «восстанавливал» против новых концепций пространства. Так, выясняя, какая геометрия истинна в окружающем нас пространстве, К. Гаусс измеряет сумму углов в треугольнике, образованном вершинами гор Большой Гаген, Брокен и Инзельберг в окрестностях Геттингена, а Н.И. Лобачевский предпринимает «выход» в космос – измеряет углы в звездном треугольнике. Не обнаружив отступлений от эвклидовой геометрии, Лобачевский вначале даже делает вывод, что положения эвклидовой геометрии надо почитать как строго доказанные. Сухотин делает вывод, что собственно математическим является открытие, сделанное на кончике пера ученого, т.е. независимо от имеющегося опыта. В итоге Сухотин называет следующие особенности математического знания – отвлеченность математических независимость операций с понятий от абстракциями вещественной от наличного природы опыта; объектов; возможность предвосхищать физическую реальность. Однако сколь бы абстрактным ни было математическое знание, корнями оно уходит в практическую деятельность. Кроме того, математическое построение, будучи законченным, тоже рано или поздно находит (если оно обладает достоинством истинности) путь к реальности. Это достигается через интерпретации, приложения, благодаря выявлению прикладных аспектов и т.д. «Вместе с тем, - пишет Сухотин, - хотя математическая теория детерминирована – рядом переходов и опосредований – реальной действительностью, в известных границах, на определенном отрезке творчество математика протекает независимо от внешнего мира. Именно здесь берет начало «принцип свободы» как эвристический прием, широко используемый в математическом исследовании» (Сухотин 1977 С. 30). 1.4. Проблема существования абстрактных объектов математики Во многих работах по философии математики обсуждается вопрос о существования объектов математики. Эти вопросы рассматривают Б. Рассел, А. Френкель и И. БарХиллел, М.А. Розов, В.В. Целищев, Коллинз Р., Н.С. Розов, Г.И. Рузавин, А.К. Сухотин и многие другие. Так или иначе, они выделяют, прежде всего, три пути решения этого вопроса – платонизм, номинализм, концептуализм. Рассмотрим, как этот вопрос обсуждается в работе Г.И. Рузавина. Сам этот вопрос о том, где и как существуют математические объекты (число, множество и т.п.), обусловлен тем, что объекты, которые возникают «в процессе абстрагирования и идеализации в математике, весьма сильно отличаются их прообразов. Точно так же утверждения, которые относятся к абстрактным объектам, нельзя непосредственно проверить на опыте. … Такое резкое расхождение между абстрактными и эмпирическими объектами и соответствующими истинами заставило уже античных ученых задуматься над проблемой существования математических объектов» (Рузавин 1983 С. 44). Мы уже говорили, что в античной Греции существовало два основных подхода к решению проблемы существования математических объектов. Платон и его сторонники рассматривали эти объекты как особые сущности, принадлежащие к сверхчувственному миру, а математическое познание – как воспоминание тех идей, которые душа некогда созерцала в трансцендентном мире. Аристотель же считал, что математические объекты возникают в результате абстрагирования от всех чувственно воспринимаемых свойств вещей и сохранения только их «количественной определенности и непрерывности». Концепция Аристотеля подчеркивала, во-первых, специфический характер существования математических объектов. Она не уподобляла эти объекты предметам реального мира, но в то же время не приписывала им отдельного существования, как это делал Платон. Вовторых, рассматривая математические объекты как абстракции от реальных предметов, концепция Аристотеля давала возможность в принципе объяснить, почему математика применяется для изучения окружающего нас мира. Противостоящие друг другу подходы к проблеме существования математических объектов, представленные концепциями Платона и Аристотеля, можно проследить и в современных дискуссиях по философии математики. Платонизм обычно характеризуется при этом как концепция, приписывающая некоторую общность существования как реальным предметам, так и абстрактным объектам. Подход, восходящий к Аристотелю, отрицает какую бы то ни было общность бытия для реальных и абстрактных объектов. Поэтому о существовании абстрактных объектов с этой точки зрения можно говорить только «по сходству и аналогии» с реальным бытием. Вторая отличительная черта современных дискуссий о существовании абстрактных объектов состоит в том, что сейчас споры не ограничиваются областью философии. Философские установки отдельных школ и направлений обоснования математики оказывают существенное влияние на решение специальных логико-математических вопросов. 1.5. Платонистская интерпретация математических объектов Рузавин пишет, что попытка Платона представить математические объекты существующими в особом трансцендентном мире, который впоследствии стали называть миром универсалий, была первой наивной попыткой объяснить, почему абстрактные объекты так сильно отличаются от эмпирических. Для Платона мир идей предшествует миру вещей и определяет последний. Вещи возникают, изменяются и уничтожаются, тогда как идеи остаются неизменными, определенными и совершенными. Чувственно воспринимаемые воплощением предметы вечных идей. являются лишь Математические отблеском, объекты тенью, несовершенным принадлежат к особому сверхчувственному миру. Хотя математик и пользуется чувственно воспринимаемыми фигурами, но доказываемые им истины относятся к идеям, но не к фигурам, которые начерчены человеком. В современной версии платонизма спор идет о том, приписать ли самостоятельное бытие таким объектам, как число, функция, множество и т.п., или же эти слова служат в качестве терминов языка, употребляемых в собирательном значении. (Рузавин 1983 С. 4647). Если раньше дискуссии по этому поводу ограничивались рамками философии, то теперь выбор той или иной позиции влияет на построение оснований математики. Кантор, например, считал, что множество – это любое объединение в одно целое объектов нашего восприятия и мысли. Он считал, что любому множеству можно соотнести некий объект, или идеальную сущность, которая придает единство элементам множества. Общепризнанно, что само понятие множества онтологически может быть истолковано в трех различных смыслах: во-первых, его можно рассматривать как общий термин для обозначения некоторой совокупности конкретных объектов. Во-вторых, его можно трактовать как концепцию, создаваемую исключительно нашей мыслью. Втретьих, множество можно связать с абстрактным объектом, или идеальной субстанцией, как это делает Кантор и его последователи. Сторонников первой точки зрения называют номиналистами – они считают общие термины простыми именами, которые не обозначают какой-либо идеальной субстанции или абстрактного объекта. В противовес этому платонисты наделяют универсалии самостоятельным существованием. Общие понятия для них – не просто термины языка, общие понятия обозначают особые объекты идеальной природы. Платонизм в математике может принимать различные формы. Например, известный специалист по основаниям математики П. Бернайс связывает с платонизмом такой подход к математическим объектам, при котором они рассматриваются независимо от какой-либо связи с мыслящим субъектом. (Цит по Рузавин, 1983. С.48). Эта независимость, по его мнению, выражается в том, что числа, фигуры, функции, множества и т.п. математические объекты постулируются существующими до их построения, вычисления и определения. Такая позиция, постулирующая существование математических объектов, в частности, таких, как бесконечные множества различной мощности, приводит в теории множеств Кантора к парадоксам, ибо она (теория) в неявном виде предполагает использование принципа свертывания, суть которого состоит в следующем: (1) математические объекты, обладающие некоторым общим свойством, составляют множество; (2) это множество, в свою очередь, может рассматриваться как новый математический объект и, следовательно, может выступать в качестве элемента другого, более обширного множества; (3) множества, содержащие одни и те же элементы, считаются тождественными (Цит. по Рузавин 1983 С. 50). Процесс образования все более обширных множеств и «свертывания» множеств в элемент ничем не ограничивается. Это приводит к парадоксу Рассела-Цермело, в котором речь идет о множестве всех множеств, которые не содержат себя в качестве собственных элементов. Таким образом, принцип свертывания при неограниченном его использовании может привести к парадоксам. Поэтому большинство попыток устранения парадоксов теории множеств связано с отказом от платонистской ее интерпретации. Это выражается в том, что либо ограничивают объем вновь образованных множеств определенными рамками, либо отказываются от экзистенциальной точки зрения целиком, и занимают позицию интуиционизма и конструктивизма. Еще один важный момент, связанный с платонистской точкой зрения. Платонизм часто связывается с таким критерием существования математических объектов, как непротиворечивость. Кантор полагал, что существование математического объекта есть следствие непротиворечивости его свойств. Он писал: «Математика целиком свободна в своем развитии и ограничена только самоочевидным требованием, чтобы ее понятия не противоречили себе и также стояли в фиксированном отношении, упорядоченном определениями, к тем понятиям, которые образованы раньше, уже представлены и изучены… Поскольку число или любое другое понятие удовлетворяет всем этим условиям, оно может и должно рассматриваться как существующее и реальное в математике…» (Цит. по Рузавин, 1983. С. 51). Точку зрения Кантора на зависимость существования математических объектов от их непротиворечивости поддерживал А. Пуанкаре, который писал: «Математика не зависит от существования материальных вещей; в математике слово существовать может иметь только один смысл, - оно означает устранение от противоречия» (Цит. по Рузавин 1983. С. 51). Пуанкаре полагал, что критерий непротиворечивости служит хорошим противоядием для избавления от парадоксов и платонизма в математике. Для обоснования того, что критерий непротиворечивости достаточен для утверждений о существовании математических объектов, часто обращаются к доказательствам непротиворечивости аксиоматических теорий на основании существования соответствующих моделей. Так, Бельтрами показал, что планиметрия Лобачевского реализуется на псевдосферических поверхностях (См.: Каган 1955. С. 135-136). Однако вопрос о непротиворечивости неевклидовой геометрии Лобачевского был сведен к непротиворечивости привычной геометрии Евклида. Само это доказательство, следовательно, носит относительный характер. «Все доказательства (относительной) непротиворечивости одних аксиоматических теорий с помощью моделей, построенных из объектов других теорий, ясно показывают, что в них существование не выводится из непротиворечивости, а, наоборот, непротиворечивость вытекает из наличия определенных математических объектов. Если формальным аксиоматическим системам удается найти интерпретацию, или модель, из ранее известных и поэтому более привычных математических объектов, тогда такие системы считаются непротиворечивыми» (Рузавин, 1983. С. 53). Все это убеждает нас в том, что критерий непротиворечивости, хотя и является необходимым условием для допустимости абстрактных объектов и теорий математики, но он недостаточен для признания их существования. Именно это подчеркивал П. Бернайс, говоря, что в математике утверждения о существовании обыкновенно следуют не из установления непротиворечивости, а. наоборот, установление непротиворечивости происходит путем представления модели (Цит. по Рузавин, 1983. С. 53). 1.6. Неономинализм. Неоконцепткализм Рассмотрим, как ставят вопрос о природе математических объектов А Френкель и И. Бар-Хиллел в классической работе «Основания теории множеств» (М.: Мир, 1966), вышедшей на языке оригинала в 1958 г. Основное, что их интересует - это онтологический статус множеств, не того или иного конкретного множества, а множества вообще. «Под словом «множество» обычно понимают то, что философы называют универсалиями. Таким образом, интересующая нас сейчас проблема есть частный случай давно известной и широко обсуждавшейся классической проблемы об онтологическом статусе универсалий. Три основных ответа на общую проблему универсалий, идущие еще от средневековых дискуссий, известны под именами реализма, номинализма и неоконцептуализма. Мы будем здесь рассматривать их современные аналоги – платонизм, неономинализм и неоконцептуализм (приставку нео будем опускать)» (А.А. Френкель, И. Бар-Хиллел 2007 С.5) . Авторы этой работы пишут, что платонисты убеждены, что для каждого правильно определенного одноместного условия существует … соответствующее множество (или класс), состоящее из всех тех и только тех предметов, которые удовлетворяют этому условию, и что это множество само является предметом с таким же полноправным онтологическим статусом, как и его члены. Пример позиции платонистов – идеальное исчисление K. Его главная особенность – ничем не ограниченная схема аксиом свертывания. Будучи вынужденными считаться с реальной ситуацией, платонисты заявляют о своей готовности наложить на употребление схемы аксиом свертывания некоторые ограничения, вроде тех, что приняты в теории типов или в теории множеств цермеловского типа. Однако в глубине души они надеются, что рано или поздно кому-нибудь удастся показать достаточность гораздо менее радикальных мер предосторожностей. «Может, конечно, случиться, что некоторые платонисты придут к убеждению (или другие сумеют убедить их) в том, что в мире, в котором они живут, предметы действительно расслоены на типы и порядки, тогда они примут теорию типов не в качестве удобного соглашения, а в качестве описания реальной ситуации». (Там же). Неономиналисты заявляют, что они вообще не могут понять, что имеют в виду те, кто говорит о множествах, — такие разговоры для них могут представлять собой лишь facon de parler (манера выражаться). Единственный язык, на понимание которого они претендуют,— это исчисление индивидов (calculus of individuals), построенное как прикладное функциональное исчисление первого порядка. Многие обороты, используемые как в научном, так и в повседневном языке, зависящие, prima facie (на первый взгляд), от термина 'множество', номиналисты без особого труда точно переводят на свой ограниченный язык. Такое, скажем, обычное выражение как «множество предметов а есть подмножество предметов b» они переводят как «для всех x, если х есть а, то х есть b». Некоторые другие обороты и выражения представляют большие трудности для такого перевода. На языке теории множеств легко выразить тот общепринятый способ образования понятий, посредством которого какое-либо асимметричное и интранзитивное отношение порождает новое отношение наследственности (the ancestral), (которое оказывается уже транзитивным). Например, исходя из допущения, что в области целых чисел уже имеется отношение 'быть на единицу больше’ (но пока не просто 'быть больше'), определяют: х больше, чем у, если и только если х отлично от у и х принадлежит всем множествам, содержащим у и все целые числа, на единицу большие любого их члена. Воспроизведение такого способа образования понятий в исчислении индивидов часто требует больших ухищрений, в ряде же случаев эта задача, по-видимому, вообще невыполнима. Известно, что выражения типа «кардинальное число множества а есть 17» (или «... не более 17», или «... не менее 17», или «... лежит между 12 и 21» и т. п.) легко выразимы в функциональном исчислении первого порядка с равенством. Однако такое выражение, как «кошек больше, чем собак» уже вызывает значительные трудности, и хотя в данном и любых других конкретных случаях эти трудности все же преодолимы, нет общего метода номиналистического истолкования выражения «предметов а больше, чем предметов b». Трудности, возникающие при попытках выразить всю классическую математику в номиналистических терминах, производят впечатление непреодолимых — и так оно, по всей вероятности, и есть. Поскольку речь идет о канторовской теории множеств, теории трансфинитных кардинальных чисел и подобных им теориях, то номиналисты только рады избавиться от этих теорий и с равнодушием относятся к понесенным «потерям». Зато к тем разделам математики, которые находят применение в других науках, номиналисты относятся со здоровым уважением, и многие из них готовы скорее подвергнуть сомнению собственную философскую интуицию, нежели принести в жертву хотя бы часть такой рабочей математики. Есть только два заслуживающих внимания выхода из возникающих затруднений: либо продолжать пользоваться всеми нужными частями математики в надежде, по-видимому, не слишком обоснованной, что, в конце концов, удастся получить их адекватную переформулировку в номиналистических терминах, либо объявить всю высшую математику неинтерпретируемым исчислением, пользование которым, несмотря на отсутствие интерпретации, оказывается возможным благодаря тому обстоятельству, что его синтаксис формулируется (или может быть сформулирован) на вполне понятном номиналистическом метаязыке. Насколько успешно неинтерпретированное (и непосредственно не интерпретируемое) исчисление может выполнять возлагаемую на него задачу согласования интерпретированных предложений эмпирического характера — вопрос пока еще далеко не ясный, несмотря на большие усилия, потраченные на его решение многими учеными, занимавшимися проблемами философии науки. Здесь явственно усматривается близость к формалистической (гильбертовской) позиции, согласно которой определенная часть основном рекурсивная арифметика, математики, считается интерпретируемой, а в остальная часть — неинтерпретированным исчислением, используемым в качестве средства преобразования осмысленных предложений в другие осмысленные утверждения, причем этот статус «идеальных» частей математики сравнивается со статусом «идеальных» точек в аффинной геометрии (Френкель, Бар-Хиллел 2007 С. 6 -7). О неоконцептуализме Френкель и Бар-Хиллел пишут, что их не привлекает ни «сочная растительность платонистских джунглей, ни суровый пустынный ландшафт неономинализма. Им больше нравится жить в тщательно распланированных и хорошо обозримых садах неоконцептуализма» (Там же). Они претендуют на понимание того, что такое множество, хотя и предпочитают пользоваться метафорой построение, а не любимой метафорой платонистов выбор. Эти метафоры заменяют собой более старую антитезу: существование в сознании— существование в некотором внешнем (реальном или идеальном) мире. Неоконцептуалисты готовы допустить, что любое вполне определенное и ясное условие действительно определяет соответствующее множество — коль скоро в этом случае они могут «построить» это множество, исходя из некоторого запаса множеств, существование которых либо интуитивно очевидно, либо гарантировано предварительными построениями,— но не согласны принимать никаких аксиом или теорем, в силу которых им пришлось бы согласиться с существованием каких бы то ни было множеств, не характеризуемых конструктивным образом. Поэтому они не допускают множеств, соответствующих непредикативным условиям (за исключением, конечно, тех случаев, когда можно доказать, что такое условие можно заменить равносильным ему предикативным), и отрицают справедливость (validity) теоремы Кантора в ее наивной, абсолютной интерпретации, в силу которой множество всех подмножеств любого данного множества имеет мощность большую, чем мощность самого этого множества. Абсолютное понятие несчетности объявляется лишенным смысла, хотя и может случиться, что какое-либо бесконечное множество окажется не перечислимым с помощью некоторых данных средств. (Френкель, Бар-Хиллел 2007 С. 8) Проблемы о статусе математических объектов, прежде всего, множеств, продолжают обсуждаться в философской и математической литературе. Рассмотрим, как ставит вопрос о платонизме В.В. Целищев, в книге «Философия математики» (Целищев 2002), вышедшей почти 50 лет спустя после работы Френкеля и Бар-Хиллела. Автор книги пишет, что платонизм, безусловно, является философией большинства работающих математиков, а также многих людей, успешно применяющих математику в естественных науках. Платонистское сознание работающих математиков зачастую не осознается ими как специфически философский взгляд, потому что лежащие в его основе представления абсолютно естественны и просты. Вполне естественно, что существует огромное число математических истин, некоторые из которых открыты, а большая часть остается неоткрытой. Работа математиков заключается в расширении круга открытых истин. Математические объекты существуют вне и независимо от человеческого сознания. Больше того, они существуют не в материальном мире, а в мире идеальных сущностей. Если платонизм как «рабочая» вера математика не вызывает у него никаких сомнений, то в философском отношении платонизм отягощен массой неприятных аспектов, совершенно справедливо отмечает В.В. Целищев. Прежде всего, весьма проблематично понятие существования в нематериальном мире, которое присуще широкому спектру философских учений, известных под названием «идеализм». Исторически, идеализм как оформленное Пифагором и Платоном философское учение мотивировался математикой. Рассел пишет: «Увлеченность Пифагора математикой положила начало ... теории универсалий. Когда математик доказывает свою теорему о треугольниках, то он говорит не о какой-либо конкретной фигуре, где-то нарисованной, он говорит о том, что существует в его голове. Так начинает проявляться различие между умственным и чувственным. Более того, доказанная теорема верна без оговорок и на все времена. Отсюда всего лишь один шаг к точке зрения о том, что только умственное — реально, совершенно и вечно, в то время как чувственное — кажущееся, несовершенное и скоротечное» (Рассел 1998 С. 50-51). «Я полагаю, что математика является главным источником веры в вечную и точную истину, как и в сверхчувственный интеллигибельный мир. Геометрия имеет дело с точными окружностями, но ни один чувственный объект не является точно круглым... Это наталкивает на предположение, что всякое точное размышление имеет дело с идеалом, противостоящим чувственным объектам. Естественно сделать еще один шаг вперед и доказывать, что мысль благороднее чувства, а объекты мысли более реальны, чем объекты чувственного восприятия. Мистические доктрины по поводу соотношения времени и вечности также получают поддержку от чистой математики, ибо математические объекты, например, числа (если они вообще реальны), являются вечными и вневременными. А подобные вечные объекты могут быть в свою очередь истолкованы как мысли Бога» (Рассел 1997 С. 51). Из этих цитат Рассела видно, сколь «тяжелые» для философии следствия имеет математика. Именно их этих посылок выросли философские представления о природе математики, известные под названием «платонизм». Сама по себе философия платонизма вызывает множество возражений опять-таки чисто философского толка. Но коль скоро математика играет важнейшую роль в этой философии, возникает вопрос, в какой степени математика ответственна за те неприемлемые по философским основаниям положения, которые свойственны платонизму. В частности, платонизм в области математики утверждает существование другого, нематериального, мира, населенного математическими объектами. Возникают вопросы о том, где находится этот мир, как войти в соприкосновение с ним, как может наш язык указывать на объекты этого мира, если они не являются чувственно воспринимаемыми объектами. Платонисты настаивают на том, что люди имеют внечувственное осознание математических структур, называемое часто интуицией математика, и что при помощи интуиции мы входим в контакт с математическими сущностями. Вся эта картина в высшей степени затруднительна для ее восприятия натуралистически настроенным умом. Натурализм предполагает, что человеческое познание опирается на разного рода когнитивные способности человека, которые выработаны в процессе эволюции, и поэтому любые познанные структуры объективного мира должны иметь естественное происхождение. А с точки зрения платониста математика изучает не этот мир, а мир внепространственных, вневременных, не созданных сознанием сущностей, который недоступен нашим чувствам. Эта метафизическая картина призвана объяснить существование и применение математики, и такое объяснение вполне устраивает многих математиков, если не всех, за исключением тех, кто чувствителен к философским затруднениям. А они в случае платонизма огромны, и возникает вопрос, в какой степени для объяснения природы математики необходим платонизм. Целищев пишет, что реакция против платонизма принимает различные формы. Есть возражения, основанные на том, что платонизм есть результат склонности математиков к вневременным и внепространственным сущностям, что идет вразрез с естественными науками, где изучаются сущности, находящиеся в пространстве и во времени. Больше того, некоторые философы полагают, что такая страсть математиков имеет некоторый нормативный характер, выражающий в известной мере ценности математиков. Так, Р. Нозик утверждает: «Некоторые математики имеют предрассудки, выражающиеся в предпочтении неизменных и вечных математических объектов и структур, которые изучаются ими. Хотя эта традиция имеет почтенный возраст, трудно понять, почему неизменное или вечное более ценно или значимо, почему длительность сама по себе должна быть важной. Рассматривая эти вещи, люди говорят о вечном и неизменном, и этот разговор включает (кроме Бога) числа, множества, абстрактные идеи, само пространство-время. Неужели лучше быть одной из этих вещей? Это странный вопрос: как может быть конкретный человек абстрактным объектом? Можно ли хотеть стать числом 14 или Формой Справедливости или пустым множеством? Хотел ли кто-нибудь иметь такое существование, которое приписывается множеству?» (Цит. по Целищев, 2007. С. 42). Другие философы возражают платонизму на том основании, что он бессодержателен уже по своей постановке вопроса. Так, А. Сломан скептически оценивает позицию платонизма Р. Пенроуза. «Все, что он говорит, состоит в том, что математические истины и концепции существуют независимо от математиков, и что они открываются, а не изобретаются. Это лишает платонизм всякого содержания... Хотя многие люди полагают платонизм как чем-то мистическим, или антинаучным, так же горячо, как Пенроуз защищает платонизм, такие разногласия на самом деле пусты. Нет никакой разницы, существуют ли математические объекты до их открытия или нет. Спор этот, как и всякий спор в философии, зависит от ошибочного предположения, что существует четко определенная концепция (например, "существование математического объекта"), которая может быть использована с целью постановки вопроса, на который можно дать определенный ответ. Мы все знаем, что означает существование единорогов, или вполне разумный вопрос о существовании простого числа между двумя заданными целыми числами. Но нет смысла спрашивать, существуют ли все целые числа, или существуют ли они независимо от нас, и все дело в том, что понятие существования весьма плохо определено» (цит. по Целищев 2007 С.43). Такие точки зрения резко контрастируют с мнением математиков, исповедующих платонизм. Например, Ш. Эрмит писал: «Я верю, что числа и функции в анализе не являются произвольными продуктами нашего сознания: Я верю, что они существуют вне нас, обладая той же необходимостью, какой обладают вещи объективной реальности; и мы обнаруживаем или открываем их, или изучаем точно так же, как это делают физики, химики и зоологи» (Цит. по Целищев 2007 С. 43). Избегая крайностей, следует признать, что коль скоро платонизм есть успешное с точки зрения математического сообщества объяснение природы математики и математической практики, все, что может сделать аргументативная философия, это исследовать, в какой степени математика ответственна за столь странный взгляд как платонизм. Кроме того, несмотря на странности платонизма, следует понять, в какой степени платонизм неизбежен, и есть ли ему жизнеспособные альтернативы в объяснении природы математики. Это и породило двойственность в оценке природы математических объектов. Так, П.К. Рашевский считает, что математические объекты представляют «своеобразный мир идей, которые странным образом и реальны, и призрачны одновременно» (Рашевский 1948 С.7). Результаты математики как никакой другой науки привлекаются для обоснования нематериалистических концепций. Платон утверждал, что Бог по природе геометр. Таким образом, в работах по философии математики рассматриваются следующие вопросы, и на каждый вопрос дается несколько ответов, несовместимых друг с другом. 1. Что такое математика – сумма дисциплин, или – некое единое целое? Одни считают, что математика – скопление автономных дисциплин, находящееся на пути превращения в Вавилонскую башню. Дисциплины изолированы друг от друга как по своим методам, так и по своим целям и даже по языку. Н. Бурбаки же полагает, что математика является обширным сложенного организма, который с разрастанием крепко каждым днем приобретает все больше и больше согласованности и единства между своими вновь возникающими частями. Основу единства составляют три структуры, построенные аксиоматически. Арнольд рассматривает другую оппозицию - математика и физика – мать и дитя или сестры. 2. В чем специфика математических объектов. Где и как они существуют? Здесь особенно много вариантов ответов. Если Френкель и Бар-Хиллел рассматривают три основных ответа (платонизм, номинализм, концептуализм), то в монографии Целищева дается характеристика 11 школ, отвечающих на вопрос о статусе математических объектов (Целищев 2007 С. 30-31). 3. Связана ли современная математика с практикой? Ее двойственный в этом отношении характер подчеркивает, например, Рашевский 4. В.В. Целищев (конечно, не случайно) завершает свой анализ онтологических проблем математики указанием на то, что философия математики нуждается в эпистемологизации У. Харт, Р. Херш). . Вопросы 1. Как Вы считаете, существует одна математика, или имеет место скопление математических дисциплин? От чего зависит ответ? 2. Какие структуры выделяет Н. Бурбаки? Какова роль этих структур в осуществлении единства математики? 3. Чем Вы объясните, что математика используется для объяснения физических явлений, для которых она не предназначалась? 4. Как Вы относитесь к аргументам В.А. Успенского, что в математике не все понятия строго определяются и что в математике не все выводится из аксиом? Какой еще источник математических знаний называет Успенский? 5. Посмотрите книгу В.Я. Перминова «Развитие представлений о надежности математического доказательства» (М, МГУ, 1986. Гл. 1). Что он понимает под герметичностью доказательства? Сопоставьте с тем, что пишет Успенский. Каково Ваше мнение? 6. Что такое математические абстракции? Существует ли операция абстрагирования? 7. Где существуют идеи, числа, треугольники по Платону? Как Платон объясняет существование мира идей? 8. Критика Аристотелем точки зрения Платона. 9. Чем обусловлен парадокс Рассела-Цермело в теории множеств? 10. Как Вы относитесь к высказыванию П. Бернайса о том, что числа, фигуры, функции, множества постулируются существующими до их построения, вычисления и определения? 11. Почему из непротиворечивости свойств математического объекта не следует его существование? Из чего следует существование математических объектов? 12. Какую математическую характеристику платонизма дают Френкель и Бар-Хиллел? 13. Каковы аргументы неономиналистов против существования множеств? 14. С какими математическими трудностями сталкивается неономинализм? 15. Дайте характеристику конструктивизма. 16. Какими неприятностями в философском отношении отягощен платонизм с точки зрения В.В. Целищева? Глава 2. Философия науки – наука или философия? Вопрос о том, что именно относится к философским проблемам математики, во многом зависят от понимания философии. Будем, вслед за М.А. Розовым, полагать, что философия – это средство обеспечения человеческой свободы (Розов 2006-1). Свободу связывают с возможностью выбора, а для того, чтобы осуществлять выбор, человек должен иметь объективные и субъективные основания выбора. Объективные основания выбора – это наличие нескольких степеней свободы, нескольких возможностей. Жизнь должна предоставлять разные возможности, а человек должен уметь выбирать, т.е. должен обладать системой ценностей, которые (которая) позволит ему сделать осознанный выбор. «Главный тезис рассматриваемой статьи: одной из основных исторически сложившихся задач философии является построение и анализ исходных аксиологических и гносеологических оснований человеческой деятельности или поведения. Решение этой задачи как раз и означает разработку средств свободного выбора, т.е. средств, обеспечивающих субъективные предпосылки человеческой свободы. Рассматриваемая в этом плане философия есть служба обеспечения этой свободы, есть дерзкая попытка представить все действия человека как осознанную целенаправленную акцию, осуществляемую в соответствии с заранее принятыми основаниями» (Розов. 2006-1. С. 87). .В статье показано, что все вопросы, которые философия обсуждает исторически, это не что иное, как вопросы о выборе, например, средств познания. Так, например, человек уверен в том, что стол, за которым он сидит, реально существует. На каком основании? На том, например, что он видит стол, опирается на него руками, кладет на стол книгу и видит, как она лежит на его поверхности. Основанием уверенности в реальности стола является чувственное восприятие. Но на каком основании человек должен доверять своим органам чувств? Эйнштейн в аналогичной ситуации рассуждает совершенно иначе. «Стол как таковой, пишет он в письме Г. Сэмьюэлу, - мне не дан; мне дан лишь некий комплекс отдельных ощущений, которому я приписываю имя и понятие «стол». Это умозрительный метод, основанный на интуиции». Так существует ли стол реально или он представляет собой только комплекс ощущений? «На самом же деле, - продолжает А. Эйнштейн, утверждение о «реальном», существующем независимо от моих ощущений, является результатом умозрительных построений. Оказывается, что в эти построения мы верим больше, чем в интерпретации, соответствующие отдельным нашим ощущениям. Отсюда и наша уверенность в правильности таких утверждений, как, например, следующее: «Деревья существовали задолго до того, как появилось существо, способное их воспринимать» (Цит по Розов, 2006-1. С. 88). В качестве таких исходных оснований А. Эйнштейн предлагает рассматривать логику умственных построений и сопоставления этих построений с достаточно традиционными для философии постановками проблем. Дальше в статье Розов ставит вопрос о различии философского и специальнонаучного подходов. Задача философии – это задача построения и анализа исходных оснований человеческой деятельности или поведения. Наряду с построением, конструированием этих оснований возможен другой подход - выявление реальных средств и механизмов обоснования деятельности на различных этапах ее исторического развития. Именно здесь пролегает граница – первый путь реализуется в философии; второй – в специально-научном познании. Философ рассуждает в модальности не существования, а долженствования. Именно это и превращает философию в механизм обеспечения человеческой свободы. Действовать свободно – значит ответить себе на вопросы: какие цели я преследую, что считаю для себя главным, в чем вижу смысл своих акций? Речь идет не о том, какие цели ставят другие, речь идет о моих собственных целях. Различие научного исследования познания как естественно-исторического процесса и философского подхода к познанию Розов поясняет на материале решения вопроса о критерии истины. В рамках марксистской теории познания, для которой характерны научные ориентации, в качестве критерия истины рассматривается общественноисторическая практика людей. Это важное и принципиальное положение, которое, однако, нередко пытаются использовать в совершенно чуждых для него контекстах. «Общественно-историческая практика не является и не может являться орудием в руках отдельного человека. Ее, в частности, не следует смешивать с экспериментом, который с необходимостью уже предполагает не только логику мышления, но и определенные теоретические установки. Общественно-историческая практика – это суд Истории. Но каждый ученый в своей индивидуальной работе постоянно, ежечасно, сегодня, сейчас стоит перед выбором, что истинно, а что ложно, что следует принять и в чем усомниться» (Розов, 2006-1 С. 90). Человек хочет действовать сознательно, рационально, хочет выявить и сформулировать свои предпосылки. Существует ли мой стол реально или он есть только комплекс ощущений? Да, практика человечества такова, что она все время приводит большинство людей к стихийно-материалистической точке зрения. Но значит ли это, что каждый должен обязательно следовать большинству? Должны ли мы присоединиться к мнению научного сообщества или, следуя Фейерабенду, строить альтернативные концепции? Ставя такие вопросы, человек хочет рационально обосновать свои действия. Это понятное желание человека. Однако не надо забывать, что К. Маркс писал по этому поводу следующее: «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, - вовсе не вопрос теории, а практический вопрос» ( Цит. по Розов, 2006 -1 С. 91). Маркс здесь подчеркивает, что практика – это не способ рационального обоснования знания, такое обоснование в качестве критерия истины вообще невозможно, общественноисторическая практика выше рациональности. Все это показывает, что существуют две в равной степени правомерные и необходимые позиции. Одна из них – это научные исследования познания как естественно-исторического процесса. Вторая – рациональное обоснование познавательной деятельности с целью дать в руки ученого конкретные критерии выбора. Такое обоснование полностью невозможно, но столь же невозможно и без него обойтись. «Конечно, результаты работы любого индивидуального исследователя будут вписаны в процесс развития материальной и духовной культуры, в практику человечества и пройдут там историческую проверку. Но это будет потом. А сейчас? А сейчас маленький индивидуальный человек оказывается в одиночестве на перекрестке дорог, и ему надо отдать отчет в тех основаниях, на которые он опирается. Человек хочет действовать рационально, он хочет принимать разумные решения и быть свободным. Задача философии – дать ему систему исходных оснований. Их нельзя выявить или найти, их надо построить, как, например, архитектор строит новое здание» (Там же). 2.1. Точки произвольного выбора – неотъемлемая особенность философии Однако «проблема обоснования деятельности или поведения наталкивается в своих исходных пунктах на непреодолимые трудности, как, впрочем, и любое другое обоснование. Во-первых, исходных предпосылок может быть много, и они могут противоречить друг другу, во-вторых, сами они уже по определению не могут быть обоснованы, и мы неизбежно оказываемся перед лицом роковых альтернатив, не имея в руках никаких средств для их преодоления» (Там же). В качестве примера такой альтернативы в статье рассматривается вопрос - следует ли искать смысл и ценность жизни в самой жизни или за ее пределами? Иными словами должны ли мы стремиться к наслаждению непосредственными проявлениями жизни или надо рассматривать ее как служение чемуто высшему? В конечном итоге рациональный выбор оказывается невозможным. В итоге М.А. Розов говорит, что «мы должны призвать, что в логическом развитии нашего мировоззрения существуют такие точки, в которых каждый сознательный человек, подобно рассмотренному выше автомобилисту, вынужден «бросить жребий». Точки такого рода мы будем называть точками произвольного выбора. Речь идет, разумеется, о чисто теоретических ситуациях, ибо в реальности человек, как уже говорилось, всегда живет в определенной социальной среде, т. е. в поле действия существующих в этой среде традиций. Но теоретически мы сталкиваемся в этих точках с границами человеческой свободы. Фиксация таких точек в нашем мировоззрении – это одно из эпохальных открытий философской мысли. Оказалось, в частности, что можно занимать позицию крайнего солипсизма, рассматривая все как нечто существующее только в моем сознании, и эта точка зрения столь же логически обоснована, как и позиция последовательного материализма. вынужден «И никакими признать доказательствами, В. И. Ленин, – нельзя силлогизмами, опровергнуть определениями, – солипсиста, если он последовательно проводит свой взгляд» [Цит по Розов, 2006. С. 92). Материализм или солипсизм – вот пример точки произвольного выбора. Легко показать, что итоги развития науки инварианты относительно этого выбора. Действительно, все, что мы исследуем и познаем, все это проходит через наше сознание. Познанное – это значит как-то представленное в сознании. Даже утверждение материализма, согласно которому наряду со знаниями и представлениями есть еще нечто от них независящее, это тоже некоторая картина в нашем сознании. Но, может быть, такой выбор вообще не имеет значения, ибо какой смысл выбирать, если точки зрения абсолютно эквивалентны? Нет, не эквивалентны. Ценностные, этические представления не инвариантны относительно данного выбора. Бессмысленно, например, говорить об альтруизме в рамках солипсистского мировоззрения. Но альтруизм или эгоцентризм – это тоже, вероятно, точка произвольного выбора. Границы человеческой свободы, границы рациональности, с которыми мы здесь сталкиваемся, неизбежны, ибо нельзя представить и нельзя реализовать исторический социальный процесс как осознанную целенаправленную деятельность. Индивидуальный человек подчинен социальному целому, он есть элемент естественно-исторического процесса, диктующего ему свою волю. Если он дерзает быть свободным, то рано или поздно обнаруживает, что у него нет критериев выбора, что процесс рационального обоснования его поведения должен где-то кончиться, и там, где это происходит, человек вынужден передать право первого хода объективным обстоятельствам. Это и значит, образно говоря, бросить жребий. Философия в данном контексте – это арена, на которой развертывается одна из самых впечатляющих «трагедий» человеческого разума, обусловленная его безудержным стремлением все подчинить своим требованиям. В качестве примера такой «трагедии» рассмотрим еще одну особенность точек произвольного выбора. Для них характерно не только отсутствие критериев. Обнаруживается, что сама задача выбора может быть сформулирована только в рамках некоторой теоретической модели, которая этот выбор уже фактически предполагает. Вернемся для иллюстрации к уже рассмотренным выше рассуждениям А. Эйнштейна. «Стол как таковой, – пишет он, – мне не дан; мне дан лишь некий комплекс отдельных ощущений...» Мы, казалось бы, стоим перед выбором: признать ли это непосредственно данное за единственную реальность или довериться «умозрительным построениям», согласно которым за пределами комплекса ощущений существует еще и «стол как таковой»? Но откуда мы знаем, что непосредственно нам даны именно ощущения? Они ведь не являются объектами чувственного восприятия, никто из нас не видит и не слышит собственных ощущений. Ребенок или первобытный человек видит перед собой непосредственно именно «стол как таковой» или нечто аналогичное, а представление об ощущениях – это продукт длительного исторического развития познания, продукт «умозрительных построений». Эти построения, следовательно, уже лежат в основе сформулированной нами ситуации выбора. Другой пример – уже рассмотренная выше аксиологическая альтернатива: следует ли искать смысл жизни в самой жизни или в служении чему-то высшему? Разве сама постановка вопроса не означает стремление действовать во имя некоторого Принципа? Непосредственное наслаждение проявлениями жизни, вероятно, просто не предполагает постановку аксиологических проблем, ибо такая постановка уже свидетельствует о стремлении согласовать свое поведение с требованиями Разума, с нормативами Культуры, стремлении подчинить свои непосредственные проявления чему-то надличностному, надиндивидуальному. Подводя итог, Розов говорит, что цель философия – предоставить в распоряжение человека возможно более богатый арсенал отрефлектированных критериев выбора, арсенал средств, обеспечивающих его свободу и формирующих его как личность, способную к рационально обоснованному действию. В ходе этой работы мы неизбежно наталкиваемся на точки произвольного выбора. Да, это границы свободы, границы рациональности. Но и здесь следует отличать автомобилиста, который проскочил перекресток, не заметив и не осознав этого, от того, кто доверяется жребию с полным сознанием объективной неизбежности. Последнее в определенном смысле слова – это тоже разновидность свободы. Наличие в философии точек произвольного выбора можно использовать как некоторый диагностический признак, отличающий философию как форму духовной деятельности от науки. Наука работает в рамках рациональности – строит теории, ставит эксперименты и всеми научными средствами добивается однозначных ответов на свои вопросы. Философия же работает за границами рациональности, что ведет к тому, что невозможно рационально выбрать одно решение из нескольких, рассмотренных философами. Рассел, не детализируя аргументы, говорил, что философия – это ничья земля между теологией и наукой, прежде всего потому, что на вопросы, которые интересуют философию (подчинен ли дух материи или он обладает независимыми способностями, существуют ли законы природы или мы верим в них лишь благодаря нам склонности к порядку и т.д.), нельзя получить ответы в лаборатории. На вопрос – «к чему тогда тратить время на подобные неразрешимые вопросы, Рассел ответил очень поэтично: «Наука учит нас, что мы способны познавать, но то, что мы способны познавать, ограниченно, и если мы забудем, как много лежит за этими границами, то утратим восприимчивость ко многим очень важным вещам. Теология, с другой стороны, вводит догматическую веру в то, что мы обладаем знаниями там, где фактически мы невежественны, и тем самым порождает некоторого рода дерзкое неуважение к Вселенной. Неуверенность перед лицом живых надежд и страхов мучительна, но она должна сохраняться, если мы хотим жить без поддержки утешающих басен. Нехорошо и то другое: забывать задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы нашли бесспорные ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности и в то же время не быть парализованным нерешительностью, – это, пожалуй, главное, что может сделать философия в наш век для тех, кто занимается ею» (Рассел 1993 С. 9). Вопросы 1. Каковы основные задачи статьи? 2. Какие два типа предпосылок характеризуют свободный поступок? 3. Какие субъективные предпосылки свободы выделяет автор? 4. Всегда ли человек осуществляет выбор как целенаправленный акт? Если нет, то как он действует в этих случаях? 5. Почему знания (научная картина мира) не являются исходной предпосылкой свободы? 6. Что составляет содержание гносеологических и методологических оснований человеческого познания? 7. Как Розов формулирует одну из основных исторически сложившихся задач философии? (главный тезис статьи) 8. Как Вы понимаете тезис о том, что философия есть служба обеспечения человеческой свободы? 9. Назовите традиционные философские проблемы. Покажите, как эти проблемы связаны с проблемой обеспечения свободы человека. 10. Как Вы понимаете, что ценности – это конечные основания целеполагания? 11. Каковы основания познавательной деятельности? 12. Согласны ли Вы с Эйнштейном, что в умозрительные построения люди верят больше, чем в интерпретации, соответствующие отдельным ощущениям? 13. Как можно научно изучать ценности? 14. В чем различие философского и научного подхода к ценностям? 15. Как Вы понимаете тезис о том, что общественно-историческая практика – это суд Истории? 16. Что такое точки произвольного выбора в нашем мировоззрении, как одно из эпохальных открытий философии? 17. Материализм или солипсизм как точка произвольного выбора. 18. Как связаны точки произвольного выбора и границы рациональности? 2.2. Философия науки на пути превращения в науку Выше мы видели, что Н. Бурбаки пишет, что дать в настоящее время общее представление о математической науке – значит заняться таким делом, которое, как кажется, с самого начала наталкивается на почти непреодолимые трудности благодаря обширности и разнообразию рассматриваемого материала. Статьи по чистой математике, публикуемые во всем мире в среднем в течение одного года, охватывают многие тысячи страниц. Нет такого математика, даже среди обладающих самой обширной эрудицией, который бы не чувствовал себя чужеземцем в некоторых областях огромного математического мира (Бурбаки, 1963. С. 245). Однако можно спросить себя, продолжает Бурбаки дальше, «является ли это обширное разрастание развитием крепко сложенного организма, который с каждым днем приобретает все больше и больше согласованности и единства между своими вновь возникающими частями, или, напротив, оно является только внешним признаком тенденции к идущему все дальше и дальше распаду, обусловленному самой природой математики; не находится ли эта последняя на пути превращения в Вавилонскую башню, в скопление автономных дисциплин, изолированных друг от друга как по своим методам, так и по своим целям и даже по языку? Одним словом, существуют в настоящее время одна математика или несколько математик?» (Бурбаки. 1963. С. 246) Для ответа на этот вопрос Н. Бурбаки обращается к анализу аксиоматического метода и логического формализма. В итоге он приходит к тому, что математика изучает «структуры». Общей чертой различных понятий, объединенных этим родовым понятием (структура), является то, что они применимы к множеству элементов, природа которых не определена. «Построить аксиоматическую теорию данной структуры – это значит вывести логические следствия из аксиом структуры, отказавшись от каких-либо других предположений относительно рассматриваемых элементов (в частности от всяких гипотез относительно их «природы») (Бурбаки. С. 251). Сформулируем вопросы, на которые надо получить ответы, чтобы решить, что такое математика, и чтобы понять, как можно относиться к концепции Бурбаки. Прежде всего, чтобы понять, каков предмет математики, надо иметь некоторые представления из философии науки о том, как вообще определяется предмет какой-либо науки. Или надо иметь образцы того, как ученые определяют предметы своих наук. Наряду с этим надо изложить, что такое наука, каковы механизмы ее формирования и видоизменения. В частности, что такое научные революции. Большинство авторов, работающих в философии науки, считают эту область философией, что и естественно, само название говорит за эту точку зрения. Однако есть и другие возможности. Есть признаки того, что имеет место процесс превращения философии науки в эмпирическую науку. Во-первых, уже были случаи выделения из философии эмпирических наук (психология, социология). Это произошло в основном за счет появления в их рамках эмпирических исследований, ибо теоретических рассуждений о сущности общества или личности было достаточно и тогда, когда знания об обществе и личности формировались в составе философии. Во-вторых, в рамках представлений о философии науки появляются такие необходимые элементы (для того, чтобы быть наукой), как модели науки, так и эмпирический материал, в рамках которого могут быть опробованы эти модели. Это позволяет говорить, что процесс превращения философии науки в научную эмпирическую дисциплину уже идет. В-третьих, в рамках философии математики есть аргументы за то, что нужно осуществить эпистемологический поворот в философии математики (Целищев, 2007. С. 45-50). Рассмотрим сказанное подробнее. В учебнике Степина В.С., Горохова В.Г., М.А. Розова «Философия науки и техники» проводится важная мысль о том, что формирование философии науки как научной дисциплины связано с отказом от методологического подхода к анализу науки. Если в работах логических позитивистов и у Поппера формулировались нормативы, которым должна была следовать наука (теория должна быть верифицирована фактами, или – теория должна быть фальсифицирована фактами), то в рамках научного подхода к науке исследуются те нормативы, которым наука реально следует. Именно такой подход развивает Т.Кун в своей работе «Структура научных революций». Нормальная наука по Куну – это сообщество ученых, объединенных достаточно жесткой программой, которую Кун называет парадигмой и которая с его точки зрения целиком определяет деятельность каждого ученого. Парадигма – это некое надличностное образование, которое находится в центре внимания Куна. Со сменой парадигм он связывает научные революции – коренные изменения в развитии науки. Нормальная наука по Куну – это «исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для развития его дальнейшей практической деятельности» (Кун, 1977. С. 27). Это определение показывает, что наука понимается как традиция. В качестве парадигмы выступают прошлые достижения, лежащие в основе этой традиции, такие, как система Коперника, механика Ньютона, кислородная теория Лавуазье и т.п. Деятельность ученого в рамках нормальной науки Кун описывает следующим образом; «При ближайшем рассмотрении этой деятельности в историческом контексте или в современной лаборатории создается впечатление, будто бы природу пытаются втиснуть в парадигму, как в заранее сколоченную коробку. Цель нормальной науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений; явления, которые не вмещаются в эту коробку часто, в сущности, вообще упускаются из виду. Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими» (Кун, 1977. С. 43). Кун убедительно показал, что нормальная наука способна успешно развиваться. Это значит, что традиция является не тормозом, а, наоборот, необходимым условием быстрого накопления знаний. М.А. Розов подчеркивает, что сила традиции в том и состоит, что мы постоянно воспроизводим одни и те же действия, один и тот же способ поведения при разных обстоятельствах. «Поэтому и признание той или иной теоретической концепции означает постоянные попытки осмыслить с ее точки зрения все новые и новые явления, реализуя при этом стандартные способы анализа или объяснения. Это организует научное сообщество, создавая условия для взаимопонимания и сопоставимости результатов. И порождает ту «индустрию» производства знаний, которую мы наблюдаем в современной науке» (Степин, Горохов, Розов. 1995. С. 72). Работа в нормальной науке не предполагает, однако, создание чего-то принципиально нового. Ученые заняты «наведением полрядка», т.е. проверкой и уточнением известных фактов, а также сбором новых фактов, в принципе предсказанных или выделенных теорией. Кун пишет, что «нормальная наука не ставит своей целью нахождение нового факта или теории, и успех в нормальном научном исследования состоит вовсе не в этом. Тем не менее, новые явления, о существования которых никто не подозревал, вновь и вновь открываются научными исследованиями, а радикально новые теории опять и опять изобретаются учеными. История даже наводит на мысль, что научное предприятие создало исключительно мощную технику для того, чтобы преподносить сюрпризы подобного рода» (Кун, 1977. С. 77). Новые фундаментальные факты и теории «создаются непреднамеренно в ходе игры по одному набору правил, но их восприятие требует разработки другого набора правил» (там же). Иначе говоря, работая в рамках нормальной науки, т.е. действуя по заданным правилам, ученый непреднамеренно, т.е. случайным и побочным образом наталкивается на такие факты и явления, которые требуют изменения самих этих правил. 2.3. Эстафетная модель науки М.А. Розова Подводя некоторые итоги, М.А. Розов пишет, что концепция Куна знаменует уже совсем иное видение науки по сравнению с нормативным подходом Венского кружка или К. Поппера. «В центре внимания последних – ученый, принимающий решения и выступающий как определяющая и движущая сила в развитии науки. Наука здесь фактически рассматривается как продукт человеческой деятельности. Поэтому крайне важно ответить на вопрос, какими критериями должен руководствоваться ученый, к чему он должен стремиться? В модели Куна происходит полная смена ролей; здесь уже наука в лице парадигмы диктует ученому свою волю, выступая как некая безликая сила, а ученый – это всего лишь выразитель требований своего времени. Кун вскрывает и природу науки как надличностного явления: речь идет о традиции» (Степин, Горохов, Розов. 1995. С. 73). Концепция Куна – полагает Розов, - это первая попытка построить модель науки как надличностного явления. Однако наряду с положительной оценкой модели науки Куна, Розов высказывает к ней ряд «придирок». 1. Кун не вскрыл механизма научных революций, механизма формирования новых программ, не проанализировал соотношение таких явлений, как традиции и новации. Он и не мог этого сделать, ибо его концепция слишком синкретична для решения подобного рода задач. 2. Программы, в которых работает ученый, Кун понимает слишком суммарно и недифференцированно, что создает иллюзию большой обособленности различных научных дисциплин. Однако осознание всего многообразия этих программ приводит, как мы видели, к противоположной трудности, к утрате четких дисциплинарных границ. 3. Ученый у Куна жестко запрограммирован, и Кун всячески подчеркивает его парадигмальность. Однако, если программ достаточно много, то ученый приобретает свободу выбора, что, вероятно, должно существенно изменить картину. 4. Модель Куна неспецифична и не решает проблему демаркации, ибо очевидно, что парадигмальность присуща не только науке, но и другим сферам культуры и человеческой деятельности вообще. Но решение этой проблемы нужно, вероятно, искать уже не на пути формулировки нормативных требований, предъявляемых к деятельности или ее продуктам, а на пути анализа науки как целого, как надличностного образования. Преодоление всех указанных трудностей приводит М.А. Розова к построению более богатой модели науки. Но прежде, чем строить такую модель, он отвечает на вопрос, модель чего мы строим, что собой представляет наука как объект нашего исследования. Определяя науку, часто говорят о том, на что не похожа наука – она не похожа на миф, на религию, ее пытаются отличить от искусства, от философии, от обыденного сознания. Однако гораздо важнее сказать, на что похожа наука. Розов описывает большое количество явлений, обладающих общими свойствами. Например, легендарный корабль Тезея, который стареет и который все время подновляют, меняя постепенно одну доску за другой. Когда же не осталось ни одной старой доски, возникает вопрос – перед нами тот же самый корабль или другой? Розов говорит, что очень многие явления вокруг нас похожи на корабль Тезея. Например, Московский университет. Совершенно недостаточно указать на здание университета, на студентов, преподавателей и т.п., ибо университет может переехать в новое здание, студенты и преподаватели меняются, а МГУ остается тем же самым. Приведя еще и другие примеры, Розов вводит понятие «куматоид» для обозначения подобных явлений – подчеркнув их относительное безразличие к материалу, их способность как «плыть» или «скользить» по материалу подобно волне. Этим куматоиды отличаются от обычных вещей, которые мы привыкли идентифицировать с кусками вещества. Возвращаясь к кораблю Тезея, можно сказать, что как куматоид корабль остается одним и тем же, но как тело, как кусок вещества он меняется и становится другим кораблем (Степин, Горохов, Розов 1995 С. 80-82). Итак, бытие социальных объектов (город, университет, наука, знание и другие) нельзя связать с определенным материалом, и Розов предлагает рассматривать это бытие как совокупность программ, в рамках которых организуется и функционирует все время обновляющий себя материал. Важно поставить вопрос о том, как существуют эти программы. Программы могут существовать в виде четко сформулированных и записанных инструкций или в виде неявного знания. Неявное знание передается от человека к человеку или от поколения к поколению на уровне воспроизведения непосредственных образцов. Рассмотрим этот механизм. Специально подчеркнем, что язык, на базе которого строятся более развитые формы передачи опыта, сам передается и воспроизводится именно таким образом, т.е. на уровне непосредственных образцов речевой деятельности. Ребенок, осваивая язык, не пользуется ни словарями, ни грамматиками. В его распоряжении имеются только образцы живой речи. Такое воспроизведение – это некоторый исходный, базовый механизм социальной памяти, фундамент, обеспечивающий в конечном итоге воспроизведение всех элементов Культуры. Под эстафетой Розов понимает передачу опыта от человека к человеку, от поколения к поколению путем воспроизведения непосредственных образцов поведения или деятельности. Вернемся к науке. Если наука – это социальный куматоид, значит, ее надо рассматривать как множество определенных конкретных программ (традиций, эстафет), реализуемых на человеческом материале. Программы определяют действия большого количества постоянно сменяющих друг друга людей. Задача исследователя – выделить и описать эти программы, определить способ их бытия, выявить характер их функционирования и взаимодействия, построить их типологию. Последние два пункта тесно связаны, ибо одним из оснований для классификации программ может служить их место, их функции в системе науки. Розов выделил три группы программ, отталкиваясь от их функциональных характеристик. 1) Программы получения знания. В их состав входят методические программы, программы конструирования (конструкторы) и методологические программы. 2) Программы систематизации полученных знаний, которые названы коллекторскими программами. 3) Ценностные или аксиологические программы. Эта последняя группа программ непосредственно не связана с проблемами эпистемологии, и мы их не рассматриваем. Методические программы (Розов, 2006-2 . С. 338-354) – это конкретные программы построения знания с указанием необходимых процедур. Сюда входит: непосредственные образцы тех или иных экспериментов, которые представлены их технологическими деталями; вербализованные образцы экспериментальных процедур и решений задач; методы исследования в форме инструкций. Методические программы разнообразны, в их число входят методы измерения каких-либо величин или методы их расчета, методы распознавания тех или иных объектов, методы анализа состава изучаемых объектов. Например, методы аналитической химии. Все это многообразие можно сгруппировать в три типа – экспериментальные программы, программы наблюдения и программы расчета, предполагающие использование математики. Эти программы не существуют изолированно вне программ другого типа, в частности, большинство методических программ не существуют без программ конструирования, т.е. без такого программного образования, как конструктор. К конструкторам относятся как экспериментальные устройства, специально создаваемые учеными, чтобы изучать интересующие их явления (самые впечатляющие примеры таких экспериментальных конструкторов - ускорители элементарных частиц, которые строятся методами проходки метро и насыщены огромным количеством аппаратуры), так и теоретические конструкторы – атомно-молекулярный конструктор, сконструированная Максвеллом картина электромагнитного поля и т.д. к теоретическим конструкторам относятся и все конструкторы математики – такие. Как конструирование чисел, без чего невозможны счет и измерение, различные системы координат. Без которых невозможно задать положение тела в пространстве, «силовой» конструктор в статике и т.д. способы конструирования иногда вербализованы, но часто существуют на уровне образцов конструирования репрезентаторов для тех или иных явлений, на уровне примеров их объяснения. Однако, хотя есть образцы или правила конструирования. , но вовсе не указано, каким образом получить репрезентатор для того или иного конкретного явления. Можно знать, все состоит из атомов, но это вовсе не означает, легко будет построить объяснение того, что газ при расширении охлаждается, или, зная, что электричество и магнетизм связаны, совершенно не ясно, как построить картину электромагнитного поля, при этом такую, чтобы на ее базе найти формулы, определяющие параметры поля. Еще пример – в геометрии Евклида доказательства основаны на преобразованиях чертежей; есть образцы таких преобразований, есть правила построения, но это вовсе не означает, что мы владеем алгоритмом для доказательства каждой теоремы. Это, в частности, отличает конструкторы от методических программ. Если о методах у Куна, так или иначе, идет речь в дисциплинарной матрице, то о следующей группе программ – методологических – Кун не говорит. Это не случайно. «Эти программы носят эвристический характер и представляют собой попытки использования в рамках одной научной дисциплины опыта других научных дисциплин. Один из примеров методологического мышления … это попытка В.Я. Проппа построить морфологию сказки по образцу морфологии растений. Уже на этом примере видно, что речь идет не об образцах деятельности, а только об образце некоторого продукта, построенного в рамках совсем иной науки. Путь к получению этого продукта надо еще найти. Но образец все же задает некоторый ориентир. Таким же образом возникают методологические программы математизации или теоретизации науки, где в качестве образца чаще всего физика» (Розов, 2006-2. С. 343-344). Методологические программы разрушают жесткие границы нормальной науки, о которой в основном говорит Кун (именно это и не дало ему возможности заметить методологические программы). Эти программы выводят исследователя в межнаучное пространство, где перед его взором разворачивается все многообразие научных дисциплин, теорий, проблем, подходов. Это порождает аналогии, направляет на поиск категориального изоморфизма разных областей знания. Розов пишет далее, что в рамках дисциплинарной матрицы Кун не выделил целого класса программ, которые существенно определяют как специфику науки в целом, так и ее дисциплинарную организацию. Речь идет о программах систематизации знаний (Розов, 2006-2. С. 345-354). Эти программы значимы для жизни науки, ибо давно известно, что разрозненные сведения о той или иной области действительности еще не образуют научную дисциплину, необходимо еще построение системы когерентных знаний. Это означает, что должны иметь место соответствующие программы. Розов высказывает очень важный тезис о том, что формирование науки – это формирование механизмов глобальной централизованной социальной памяти, т.е. механизмов накопления и систематизации всех знаний, полученных и получаемых человечеством, это формирование коллекторских программ. Наличие коллекторских программ означает появление новых требований к процедурам получения знаний, главное из которых – стандартизация. Она необходима, ибо в противном случае отдельные результаты не будут сопоставимы. При записи результатов в социальную память общества все должно быть отлито в стандартные, общепринятые формы. Поэтому такие явления, как доказательство, обоснование, описание методики работы и т.п. – это необходимые особенности научного познания, тесно связанные с коллекторскими программами. Введение коллекторских программ придает модели науки большую динамичность. Во-первых, систематизация знаний неизбежно порождает дискуссию и научную критику. Во-вторых, это порождает доказательство и обоснование. Вот что пишет Б. Л. Ван дер Варден, анализируя возникновение греческой математики: «В самом начале, когда люди переживают первые радости открытий, они занимаются задачами вроде следующих: как мне вычислить площадь четырехугольника или круга, объем пирамиды или длину хорды, или: как мне параллельно основанию разделить трапецию на две равные части. Но это и будут как раз те задачи, которые решались в египетских и вавилонских текстах. И только позже возникает вопрос: как мне всё это доказать?» (Ван дер Варден 1959. С. 124). Но в силу каких причин осуществляется этот переход, каков его механизм? Вот ответ Ван дер Вардена. «Этот вопрос (т. е. вопрос о доказательстве – М. Р.),– пишет он, – становится основным именно в то время, когда о достигнутых древней математикой результатах, частью логически не увязанных, частью справедливых и частью ошибочных, узнает младшее поколение страстно любознательных чужеземцев. Во время Фалеса египетская и вавилонская математика давно уже были мертвыми знаниями. Можно было разобрать и показать Фалесу, как надо вычислять, но уже неизвестен был ход рассуждений, лежащий в основе этих правил. От вавилонян можно было узнать, что площадь круга равна 3r2, а египтяне уверяли, что она равна (8/9 . 2r)2. Каким же образом мог Фалес отличить точные и правильные вычислительные формулы от приближенных и ошибочных? Разумеется, при помощи создания логически связанной системы» (Там же). Следует, правда, отметить, что Ван дер Варден не вскрывает механизм возникновения доказательства, он только показывает, что в условиях согласования разных знаний оно становится необходимым. В-третьих, любой исследователь, принадлежащий к определенному научному сообществу, может случайно, побочным образом получать результаты, которые подхватывает другая коллекторская программа. Броуновское движение открыл ботаник Браун, при изучении цветочной пыльцы, но оно, как известно, прочно обосновалось в области физики. Закон сохранения энергии открыл в числе прочих врач Э. Майер. Швейцарский геолог А. Грессли, сам того не подозревая, оказался основателем палеогеографии; а Р. Бойль – основателем экологического эксперимента, хотя он и не подозревал о появлении в далеком будущем такой науки, как экология (Новиков, 1980. С. 9). Имя Чарльза Дарвина попало в историю идей и категорий математической статистики (Карпенко 1979) Все это – «проказы» коллекторских программ, которые являются очень важным фактором в развитии науки. Способность ассимилировать побочные результаты других научных дисциплин связывает все науки в некоторое единство и означает невозможность дисциплинарной истории науки. Эта история должна быть всеобщей. В-четвертых, согласование знаний порождает проблемы. Иногда это проблемы выбора конкретных знаний или теорий, т.е. проблемы доказательства и опровержения, о чем мы уже говорили. Но иногда это проблемы, требующие построения новых теорий. Так, например, противоречие между классической механикой и электродинамикой Максвелла привело к созданию специальной теории относительности. Где и как существуют коллекторские программы? Прежде всего, – это образцы учебных курсов или монографий, систематически излагающих тот или иной предмет. В науке постоянно делаются попытки вербализации коллекторских программ. Почти любой учебный курс начинается с определения предмета соответствующей области знания. Речь идет о том, что именно изучает данная дисциплина, какие задачи ставит, какое она занимает место в системе близких дисциплин. Иногда все это перерастает в бурные дискуссии о предмете той или иной науки. Обсуждаются не методы исследования, не достоверность и обоснованность тех или иных результатов, а границы исследуемой области действительности и той области знаний, на «присвоение» которой претендует данная дисциплина (См.: Сычева 1984, раздел II). Чтобы понять, как и почему формируются коллекторские программы, надо включить науку в более широкий социальный контекст. Кроме программ и процедур получения знания, мы должны рассмотреть механизмы их трансляции и использования. Наука при таком рассмотрении очень напоминает товарный рынок или универмаг. У нас имеется огромное количество производителей знания. Одни получают его целенаправленно, другие – побочным образом в сфере практической деятельности. Но знания каким-то образом должны быть представлены потребителю, который мог бы сравнительно легко найти именно то, что ему нужно. В случае с товарами производитель привозит свои продукты на рынок, где они концентрируются, классифицируются и в таком виде предстают перед покупателем. Аналогичную роль выполняет универмаг. В случае с производством знаний рынок или универмаг заменяют системы знания, организованные в виде множества взаимосвязанных дисциплин. И рынок, и универмаг предполагает наличие каких-то программ организации товарной массы. В науке этому соответствуют коллекторские программы. Надо при этом иметь в виду, что последние существенно определяются запросами потребителя. Можно, например, писать учебник физики для врачей, а можно для инженеров того или иного профиля. Это будут разные системы знания, изложенные различным образом. Иными словами, в социуме существует много центров «кристаллизации» знания. Необходимо поэтому различать научные и учебные предметы. Ту или иную научную дисциплину представляют в основном те коллекторские программы, которые строятся для специалистов именно в этой области или для подготовки таких специалистов. Однако, можно предположить, что наличие множества учебных предметов вовсе не безразлично для той или иной науки. Это определенная форма контакта различных дисциплин, приводящая, например, к тому, что в обслуживающую дисциплину «проникают» задачи из той области, которую она обслуживает. В конечном итоге это может порождать смежные дисциплины типа биофизики, динамики океана, физики атмосферы, физики грозы.… Думаю, что это представляет интересную область исследования для философов и историков науки. Я убежден, - пишет Розов, что нельзя построить удовлетворительную модель науки без учета коллекторских программ. Нетрудно показать, что именно они определяют в значительной степени дисциплинарную организацию науки, которая находит затем свое отражение и в каталогах библиотек. Именно они, как нам представляется, создают и организуют куновское научное сообщество. В целом модель науки напоминает множество газет, каждая из которых имеет свою тематику. Редактор газеты является здесь носителем коллекторской программы, а репортеры, собирающие информацию, владеют методами ее получения. Эти методы могут и не отличаться друг от друга. Несомненно, что каждая газета имеет своих корреспондентов, образующих некоторое сообщество, но не исключено, что информация, полученная корреспондентом одной из газет, заинтересует и другую, хотя и в несколько ином освещении. Все это имеет место и в науке. Методические программы, например, как правило, кочуют из одной области знания в другую. Методы физики или химии применяются не только в других областях естествознания, но и в науках об обществе. Это, однако, вовсе не оправдывает поползновений редукционизма. Химия, например, останется химией, несмотря на глобальное проникновение в область ее исследований методов современной физики. Границы науки определяются не программами получения знания, а коллекторскими программами (Розов, 2006 – 2. С. 352-353). Эта глубинная структура науки, связанная с наличием двух групп программ, находит свое несколько огрубленное отражение даже в дифференциации конкретных научных учреждений и организаций. «Их бесчисленное множество, – пишет В.И. Вернадский, – институты, лаборатории, обсерватории, научные экспедиции, станции, картотеки, гербарии, международные и внутригосударственные научные съезды и ассоциации, морские экспедиции и приспособления для научной работы: суда, аэропланы, стратостаты, заводские лаборатории и станции, организации внутри трестов, библиотеки, реферативные журналы, таблицы констант, геодезические и физические съемки, геологические, топографические, почвенные и астрономические съемки, раскопки и бурения и т.п.» (Вернадский, 1988. С. 121). Перечисление Вернадского достаточно хаотично, но в нем легко выделить по крайней мере три основных группы явлений: 1. Информационные рынки типа съездов, симпозиумов и т.п.; 2. Исследовательские учреждения типа лабораторий, обсерваторий, экспедиций; 3. Библиотеки, реферативные журналы, картотеки, таблицы констант, т.е. различные формы организации получаемых в науке результатов, различные устройства централизованной социальной памяти. Приведенный выше материал показывает, что научные знания организованы по принципу оптимизации поиска нужной информации. Социальная память развивается от стихийных и беспорядочных актов коммуникации к информационному рынку, где организуются не знания, а его носители, и, наконец, к системам знания, к некоторому подобию центрального универмага, где все распределено по отделам и полкам для лучшего обозрения. И это не только мощная «машина» централизованного обмена опытом, но и генератор проблем, и вообще мощный механизм, обеспечивающий динамику науки, ее быстрое развитие. Глава 3. Философия математики как становящаяся научная дисциплина В первой главе мы рассмотрели, какие проблемы обсуждаются в философии математики и вполне убедились, что по всем вопросам, которые значимы в этой области философии, идут споры. Ибо в философии математики, как и в любом разделе философии, есть точки произвольного выбора, и если мы останемся в рамках философии, то нам придется все время иметь дело с противоположными взглядами, которые невозможно свести в какую-то одну картину. Однако во второй главе были изложены представления о науке, которые помогут осознать суть математики и трудности в понимании ее развития в рамках научной картины, что означает преодоление оппозиций. Третья глава посвящена тому, как можно средствами теории социальных эстафет М.А. Розова осознать проблемы, которые вызывают споры в рамках сугубо философского исследования математики. Будет показано: 1) как можно снять оппозицию платонизма и антиплатонизма; благодаря представлению о том, что математические объекты – это куматоиды; 2) возникновение, строение математических объектов будет осознано как конструирование, что позволит понять специфику математики, которая, действительно, не находит свои объекты в природе, а конструирует их - но конструирует отнюдь не произвольно, а в процессе решения практических задач, что очевидно для первого периода развития математики – арифметики и геометрии эпохи Евклида, хотя и менее очевидно для математики последующих эпох; 3) вопрос о том, имеют ли место научные революции в математике, можно осознать в рамках других представлений о науке, чем у Куна, и другого видения революции в науке, тогда ответ на вопрос о революциях в математике будет звучать иначе; 4) вопрос, который очень волнует многих математиков – ради чего работают математики. Математика конструирует свои объекты. Однако. Какими целями математики при этом руководствуются? Если на первых этапах практическая обусловленность математических построений была явно видна, то в таких современных областях. Как теория множеств, топологи и т.п. – связь с практикой (или с другими науками, прежде всего, с теоретической физикой) совершенно не видна. С.П. Новиков дал глубокий анализ установок математиков, которых во многих случаях не волнует, ади чего математики работают, не волнует то, что связь с физикой потеряна. А математики просто работают по образцам математической деятельности – строят аксиоматику, доказывают теоремы существования для тех случаев. В которых физика уже решила проблемы (Новиков, 2002). 5) рассмотрим также вопрос о том, действительно ли в математике все всегда определяется и доказывается, что все в математике выводится из аксиом. Важно, что отрицательный ответ на эти вопросы вовсе не уронит престиж математики, а приблизит наше видение ее сущности и механизмов развития к реальности, ибо мы опираемся при этом не только на умозрительные соображения о том, что такое строгое математическое исследование, не только на представления о том, каким бы оно должно было быть, но и на материал истории формирования многих важнейших разделов математики, где вовсе не имел место вывод из аксиом, а имели место физические аналогии, как у Архимеда, весьма неточный язык бесконечно малых и т.п. В итоге философия математика предстанет перед нами дисциплиной, где станет меньше антиномий, за счет того, что она, во-первых, использует современные средства эпистемологии – представления о нормальной науке Куна, идеи Лакатоса, Полани, концепцию социальных эстафет Розова, а во-вторых, все построения философии математики будут опираться на историю науки. Мы рассмотрели, таким образом, целый ряд точек произвольного выбора в философии математики, когда ее проблемы не решаются тысячелетиями, поэтому вполне оправдана установка на эпистемологизацию этой области философского знания. Для осуществления такого поворота есть все условия – во-первых, есть модель науки – Куна, и усовершенствованная Розовым его модель, трактующая науку как куматоид, и рассматривающую в составе каждой науки программы получения знаний и коллекторские программы систематизации знания. Опишем, какое видение философских проблем математики дают эти средства. 3.1. Способ бытия математических объектов. Математические объекты как куматоиды Трудности в понимании сущности числа обусловлены тем, что при действии с числами не все дано исследователю – дана запись числа – некий знак, «закорючка». Но эта запись совершенно не «подсказывает», как действовать с числом, в противовес изучению объектов в рамках физики, химии, биологии и т.л., где действия с объектами вытекают из их материала – вещество можно нагревать, намагничивать, просвечивать рентгеном и т.п. Правила же действия с числами не обусловлены материалом знака. Знаки геометрии – чертежи, - носят несколько иной характер, это – знаки пиктограммы, сами геометрические знаки «подсказывают», какие действия можно осуществлять с ними – опускать перпендикуляры в треугольнике или трапеции, вписывать в круг другие геометрические фигуры, продолжать линии и т.д. Такие знаки как числа, интегралы – это неатрибутивные объекты, именно потому, что правила действия с ними не содержатся в записи числа, в материале знака. Правила определяются не записью знака, не его формой или материалом, а человеческой деятельностью, Культурой. Итак, рассмотрим вопрос о способе бытия математических объектов. Основное, что нас при этом будет интересовать, - с помощью каких средств рационально рассматривать вопрос о реальности математических объектов. Будем стремиться к тому, чтобы избежать представлений о том, что математические объекты существуют в особом, интеллигибельном мире, также, как и о том, что они существуют в голове математика (Рассел 1998 С. 50-51) или что «мы их встречаем или их открываем и изучаем точно так, как это делают физики, химики или зоологи» (Цит. по Бурбаки 1963 С. 29). Многовековые споры о том, где и как существуют эти объекты, обусловил наше обращение к другим средствам изучения этой проблемы, чем это традиционно имело место – к сравнительно новой концепции знака и знания, предложенной в рамках теории социальных эстафет М.А. Розовым. Математические объекты при этом сближаются с гуманитарными, и именно такое их рассмотрение позволяет, как представляется, наметить выход из дилеммы, сформулированной П. Бенацеррафом: «если мы признаем математическое знание истинным, и его объекты существующими, тогда непонятно, как мы получаем это знание, не имея чувственного контакта с этими объектами» (Цит по Целищев 2007, с. 47). Мы уже отмечали, что вопрос о том, где и как существуют математические объекты, ставится давно. Еще Платон и Аристотель обсуждали вопросы о том, что такое число, что такое общее. Платон, как известно, противопоставлял понятия как единственно действительные сущности чувственному бытию. В главе 9 первой книги «Метафизики» Аристотель от имени всей платоновской школы говорит, что «ни один из способов, какими мы доказываем, что эйдосы существуют, не убедителен» (Аристотель, 1976. С. 86). Он полагает, что следует, по-видимому, считать невозможным, чтобы отдельно друг от друга «существовали сущность и то, сущность чего она есть; как могут, поэтому, идеи, если они сущности вещей, существовать отдельно от них?» (Аристотель, 1976, С. 88). «Не дается также никакого объяснения, как существует или может существовать то, что ... идет после чисел – линии, плоскости и тела, и каков их смысл». И в наши дни воспроизводятся и воззрения Платона, и их критика. Так, В.В. Целищев пишет: «Прежде всего, весьма проблематично понятие существования в нематериальном мире, которое присуще широкому спектру философских учений, известных под названием «идеализм». Исторически, идеализм, как оформленное Пифагором и Платоном философское учение, мотивировался математикой» (Целищев 2007, С.41). Автор книги ставит вопрос, в какой степени математика ответственна за те неприемлемые по философским основаниям положения, которые свойственны платонизму: «В частности, платонизм в области математики утверждает существование другого, нематериального, мира, населенного математическими объектами. Возникают вопросы о том, где находится этот мир, как войти в соприкосновение с ним, как может наш язык указывать на объекты этого мира, если они не являются чувственно воспринимаемыми объектами. Платонисты настаивают на том, что люди имеют внечувственное осознание математических структур, называемое часто интуицией математика, и что при помощи интуиции мы входим в контакт с математическими сущностями». (Целищев, 2007. С. 42). Ссылаясь на Бенацеррафа, В.В. Целищев формулирует следующую дилемму: «если математика представляет собой исследование объективных идеальных сущностей и если когнитивные способности человека позволяют ему познавать только чувственные объекты, то, как он может познавать математические объекты?» (Целищев 2007, с.46). Он подчеркивает, что дилемма ставит перед нами выбор – либо отрицать, что математика говорит о числах, либо предполагать некоторые неестественные способности человека в отношении сбора информации. Он совершенно справедливо признает, что обе возможности не выглядят привлекательными. Однако зададим вопрос – почему рассматриваются только две возможности? Почему надо безоговорочно признавать, что когнитивные способности человека позволяют ему познавать только чувственные объекты? Почему признание чисел как объектов исследования необходимо требует неестественных способностей человека в отношении сбора информации? Ведь кроме естественных наук и математики есть еще одна группа наук – гуманитарные, методы исследования которых позволяют изучать такие «объекты», как язык (вообще тексты), литературные герои, прошлое, не являющиеся «чувственными» объектами в полном смысле? Подчеркнем, что В.В. Целищев совершенно прав, когда он приводит слова У. Харта (и присоединяется к ним), что надо приветствовать переформулировку основных положений эпистемологии математики, надо осуществить эпистемологический поворот в философии математики (Целищев 2007 С.46). Однако, рассматривая эпистемологические проблемы, он снова возвращается к позиции П. Бенацеррафа, уже приведенной нами выше, который считает, что невозможен эпистемологический доступ к математическим объектам. Действительно, математические объекты отличаются от растений, животных, горных пород, которые ученые приносят в лабораторию и с которыми они вступают «в чувственный контакт» - взвешивают, изучают форму, цвет и т.д. Однако нельзя сказать, что математические объекты совершенно не даны человеку в его чувственном опыте – человек видит математические знаки, отличает интеграл от дифференциала, одно число от другого и т.д. Но и каждый согласится, что способы действия с математическими объектами не определяются чувственным обликом этих объектов. Для исследования проблем, поставленных В.В. Целищевым, воспользуемся его советом осуществить эпистемологический поворот и обратимся к теории социальных эстафет, которую мы рассмотрели выше, а также к его статьям «К методологии анализа феномена идеального» (Розов, 2006-3) и «Способ бытия математических объектов» (Розов, 2007) . В последней статье он приводит ряд соображений, цель которых - показать тесную связь названной проблемы с аналогичными фундаментальными проблемами современных гуманитарных наук и замечает, что на наличие такой связи в принципе уже указывали и сами математики, например, Гудстейн. Именно в сближении проблем философии математики и гуманитарных наук, в использовании в философии математики средств для анализа семиотических объектов гуманитарных наук, в частности, теории социальных эстафет, мы видим эпистемологический поворот, который следует совершить, чтобы попытаться выйти из дилеммы, сформулированной П. Бенацеррафом. В статье «К методологии анализа феномена идеального» М.А. Розов вводит принцип персонификации, т.е. показывает, что отношение человека к вещи – это всегда отношение «человек – человек»: «Можно сформулировать общий принцип, согласно которому любое отношение человека к окружающим объектам всегда опосредовано его отношением к другому человеку. За отношением «человек – вещь» всегда скрывается отношение «человек – человек» в качестве исходного и определяющего. Назовем это утверждение принципом персонификации. Каждый из нас живет в окружении многих привычных вещей, которые он использует строго определенным образом. Может показаться, что способ употребления, способ действия, прежде всего, определяется свойствами самой вещи, что с ней просто нельзя обходиться иначе. Но это не так. Запустите в свою квартиру стадо обезьян, и вы убедитесь, что знакомые вам предметы гораздо более полифункциональны, чем вы думали раньше. И если вы не переворачиваете свой письменный стол, не раскачиваетесь на люстре и не используете книжный стеллаж в качестве шведской стенки, то это вовсе не потому, что названные предметы сами не допускают столь безобразный способ их употребления. Они допускают, но это не принято. Иными словами, ограничивают нас не вещи, а нормативные системы, в рамках которых мы живем, т. е. другие люди. Способ действия с предметом не вытекает непосредственно из его физических, химических и прочих свойств. Эти свойства, конечно, ограничивают круг возможных действий, но оставляют его всегда практически бесконечным. И в этом плане нет никакой существенной разницы между письменным столом и фигурой на шахматной доске. В обоих случаях мы имеем дело с определенным материалом, но письменный стол и ферзь – это не материал сам по себе, а функция, которая закреплена за этим материалом и «записана» в нормативной системе общества. Отсутствие однозначного соответствия объективных свойств вещи и способов ее использования порождают, по М.А. Розову, в конечном счете, феномен идеального. Он приводит слова Платона из «Государства» о геометрах «Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же самое относится и к произведениям ваяния и живописи: от них падает тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленным взором» (Платон, 1971. С. 318- 319). Работая с чертежом и строя свои утверждения, геометр не обращает внимания на неровности линий, на то, что диагональ проведена не до конца, и на многие другие небрежности исполнения. Этих небрежностей для него как бы не существует. Иначе говоря, поведение геометра и его утверждения не могут быть выведены из особенностей того объекта, с которым он непосредственно действует, он действует как бы с чем-то других. И Платон вводит представление об особых идеальных объектах. Основная мысль статьи М.А. Розова следующая: «Идеальное – это феномен определенной точки зрения, определенной позиции, точнее, это феномен неполноты выделения исследуемой системы. Стоит нам ограничить себя анализом отношения «человек– предмет», «человек – вещь», стоит забыть принцип персонификации, и сразу оказывается, что поведение человека не выводимо из объективной ситуации, а иногда прямо ей противоречит. Оперируя непосредственно с конкретным, чувственно данным предметом, человек в то же время действует как бы с чем-то другим. Видимый предмет точно одевается невидимыми гранями, которые определяют поведение человека. Это другое и есть идеальное, ибо в рамках выделенной системы его никак нельзя определить, кроме как через противопоставление материальной вещи. Но стоит расширить систему, раздвинуть ее рамки, и станет ясно, что человеческое поведение детерминировано другими людьми, обществом в целом, что оно глубоко социально по своей природе, и что феномен идеального – это только эхо или тени, подлинные причины которых не попали в поле нашего зрения» (Розов, 2006-3 С.82). В более поздних работах М.А. Розов различает атрибутивные свойства объектов, т.е. такие свойства, которые вытекают из их материала, и неатрибутивные, способы действия с которыми определяются не их материалом, а чем-то другим. Семиотические объекты неатрибутивны, т.е. способы действия с ними определяются не их материалом, а традициями, эстафетами, в которые включены знаки, в том числе – математические. Рассматривая вопрос о способе бытия математических объектов, М.А. Розов обращается к аналогии чисел и шахмат, которую использует Р.Л. Гудстейн «...шахматный король – это одна из ролей, которую фигура играет в шахматной партии, – роль фигуры, а не сама фигура. Точно так же различные роли, которые цифры играют в языке, это и есть числа. Арифметические правила, аналогично шахматным правилам, формулируются в терминах дозволенных преобразований числовых знаков» (цит. по Розов, 2007. С. 62). Шахматы как таковые с их правилами ходов воспроизводят себя только как нормативная система, т. е. существуют только в рамках определенных процессов-эстафет. Эти процессы есть механизм существования шахмат, способ их бытия. Эстафеты – это способ бытия и математических объектов – делает вывод М.А. Розов: «объекты математики такие, например, как натуральные числа,– это некоторые роли соответствующих обозначений, которые воспроизводят себя по принципу нормативных систем. Иными словами, математические объекты существуют как нормативные системы. Это и есть их «устройство» или способ их бытия. Сказанное выше означает их независимость от индивидуального человеческого сознания, ибо они в своем бытии обусловлены всем контекстом культуры, всей практикой человечества и противостоят отдельному человеку или целому поколению как явление не менее объективное, чем язык. Но будучи явлением культуры, они и развиваются не по законам естественно-научных объектов, а вместе с культурой и по ее законам» (Розов, 2007. С. 66-67). Представления о математике как социальной науке развивает также Р. Коллинз в Эпилоге своей книги «Социология философий» (Коллинз, 2007), где автор выстроил сети личных связей между философами и учеными, как по вертикали (учитель-ученик), так и по горизонтали (кружки единомышленников, соперничавших между собой). Сети, которые представлены в книге, включают и математиков, ибо философы часто были и математиками и наоборот. Кроме того, из всех научных дисциплин сообщество математиков функционирует наиболее продолжительно. Коллинз пишет, что математика социальна в двух смыслах: 1) каждый, кто причастен к математике, даже на уровне понимания уравнения элементарной арифметики, включен в некую форму социального дискурса и некоторую сеть учителей и исследователей, делающих открытия; 2) предметом математики являются операции, а не вещи. Он считает, что «второй аспект еще более ярко показывает, что математика насквозь социальна» (Коллинз, 2007, С. 104-105). «Операции математики социальны, начиная от элементарного уровня счета и далее. Дело не просто в том, что мы учимся считать всегда у кого-то другого и что умение считать широко распространено в большинстве обществ. Счет может быть явной социальной деятельностью: я считаю эти вещи, находящиеся перед нами, я предлагаю и вам тоже их посчитать или же согласиться с результатами моего счета, поскольку при выполнении тех же самых процедур, вы придете к тому же заключению» (Там же). Коллинз специально подчеркивает, что предметом математики являются операции, а не вещи. Математика не является областью, где исследуется, какие типы вещей существуют в этом мире, либо в каком-то ином мире за пределами этого. Он говорит, что легко полагать число вещью, ибо оно может считаться существительным в предложении. Однако первоосновой числа является просто счет, а он состоит в выполнении жестов, словесных или иных, относительно чего-либо при произнесении последовательности «1, 2, 3 …», число изначально является деятельностью (или операцией) перечисления. Предлагая понимание математических объектов, существенно отличающееся от традиционного, Коллинз приводит объяснение того, что устоявшийся в течение долгого времени взгляд на математику как на царство платонистских идеалов ошибочен. Один аргумент - объекты математики должны быть идеальными, поскольку доказываемые в них истины о геометрических фигурах относятся к идеальным окружностям и прямым, а не к несовершенным линиям, начерченным на песке. Другой – числа – это не вещи, наблюдаемые нами в мире, поскольку именно с помощью чисел мы можем вещи перечислять. «В обеих линиях аргументации делается одинаковая ошибка: допускается, что реальность должна состоять либо из субстантивных вещей, либо из самостоятельных идей. Однако математические объекты не являются ни теми, ни другими, они суть символы действий – операций математического дискурса. Универсалии и идеалы – это деятельность социального дискурса, и они столь же реальны, сколь реален этот дискурс. Иными словами, они столь же реальны, сколь реален обыденный, соразмерный человеку мир действия. Нет нужды приписывать их какому-то иному миру» (Там же). Апелляция Коллинза к миру человеческих действий при анализе вопроса о сущности математических объектов, к человеческому общению, к сетям коммуникаций созвучна и мнению Гудстейна (число – это роль, которую играет соответствующая цифра), и представлениям Розова, во-первых, в некоем глобальном смысле – что решение вопроса, где и как существуют объекты математики, нужно искать в области гуманитарного познания, а во-вторых, совпадает и конкретное видение сути математических объектов – а именно, тот и другой автор видит эту суть в коммуникациях между людьми. Коллинз называет это сетями, Розов – эстафетами. Однако есть и различие. М.А. Розов различает непосредственные эстафеты, которые являются воспроизведением образцов, находящихся в поле восприятия человека, и опосредованные – заданные описанием транслируемого действия. Суть теории социальных эстафет состоит именно в утверждении о том, что в основе всей Культуры, прежде всего языка, простейших (основных) производственных действий лежит непосредственное воспроизведение опыта. Впоследствии наряду с непосредственными образцами, определяющими действия человека, появляются и правила, однако обычно человек, владеющий языком, может и не знать правил (а говорить при этом верно), да и все правила невозможно сформулировать. Все это перекликается с идеями неявного знания М. Полани. Существенно, что в эстафетах М.А. Розов выделяет, во-первых, транслируемое содержание, и, во-вторых, собственно эстафету – от кого кому происходит передача образца (способа действия). Коллинз описывает сети передачи опыта, но не говорит о содержании того, что идет по сетям. В этом смысле сети математиков ничем по типу не будут отличаться от сетей историков или кого-то еще. Теория же социальных эстафет позволяет поставить вопросы о появлении опосредованных эстафет, о формулировании норм (грамматических, правил в математике и т.д.), а также о том, все ли правила выявлены в каждом случае. Обычно выявлены не все правила языка, правила математических рассуждений и т.д. Иначе говоря, даже после выявления некоторых правил, еще остается существенной роль образцов рассуждений. Возникает вопрос о стационарности эстафет, который М.А. Розов решает, обращаясь к социальному контексту. Каждый предмет, который мы как-то называем, похож в том или ином отношении на остальные – по цвету, по форме, материалу или чем-то еще. Но человеку, которому указали на предмет и назвали его «пепельницей», уже известна таблица цветов, известны формы и т.д. Иначе говоря, человек имеет дело не с изолированными образцами, а с множеством взаимосвязанных образцов. «Именно социальный контекст и ограничивает наши степени свободы. Стационарность нормативных систем – это социальный, а не биологический феномен и если быть точным, то можно говорить только об относительной стационарности» (Розов 2007, С. 66). Воспользуемся еще одним понятием – понятием социальный куматоид. Это некоторое устройство социальной памяти, для которого характерно наличие инвариантов – программ, в рамках которых организуется деятельность большого числа людей. Программы – это инварианты, а люди все время меняются, представляя собой некий поток, некий постоянно обновляющий себя материал, программы же остаются неизменными. Программы могут представлять собой четко сформулированные и записанные инструкции или неявное знание, которое передается от человека к человеку путем воспроизведения непосредственных образцов, т.е. путем эстафет. Любое слово, любой математический объект – это куматоиды. Представив математический объект как куматоид, можно сформулировать программу его исследования, а именно – можно поставить задачу выяснить, какая программа связана с каждым из объектов, как эта программа складывалась, сформулированы ли, например, правила действия с числами, или люди действуют по образцам, что изменяется тогда, когда появляются правила. Так, в статье моего аспиранта Ю.В. Пушкарева (Пушкарев 2004) проанализирована история формирования понятия интеграл. Возникновение метода интегрирования связывают с именем Архимеда, который предложил формулу вычисления объема шара новым методом. Пушкарев показал, как происходил переход от представлений об интегралах как средствах вычисления площадей и объемов к анализу их как полноправных объектов математики, которые интересны и важны сами по себе, а не только как средства решения задач механики (в работах Ньютона) или астрономии (у Кеплера). В статье исследована роль рефлексивных преобразований в становлении интегрального исчисления, роль программно-предметных комплексов дисциплин в возникновении математического анализа, значение ценностных установок в этом процессе. Все эти вопросы важны для изучения механизмов новаций в математике и сформулированы в рамках эстафетной модели науки. Так выполненный анализ формирования и видоизменения математического знания вполне отвечает вполне определенной эпистемологической ориентации, о необходимости которой говорит В. В. Целищев: «Среди хаоса мнений и предположений о том, в какой степени математика связана с философией, следует найти какой-то порядок, который смог бы дать точку опоры в будущей философии математики, если ей суждено выжить. На мой взгляд, таковой является эпистемологическая ориентация на вопросы математического познания, а не на традиционные вопросы о природе математических объектов и математической истины» (Целищев 2007 С. 48). Фактически В.В. Целищев считает, что надо перейти от обсуждения сугубо философских вопросов, касающихся математики, таких, которые с неизбежностью всегда будут порождать споры в силу самой природы философии, для которой характерно наличие точек произвольного выбора (Розов 2006-2), к изучению эпистемологической специфики математики, приближающейся по характеру работы к научной дисциплине, многие утверждения которой могут быть верифицированы или фальсифицированы фактами истории науки, или, говоря словами И. Лакатоса, когда история науки выступает как пробный камень методологии науки. Эстафетная модель науки, предложенная М.А. Розовым как развитие модели науки Т. Куна предоставляет богатые возможности такой эпистемологической переориентации. Таким образом, М.А. Розов решает этот вопрос о способе бытия математических объектов путем выявления тесной связи названной проблемы с аналогичными фундаментальными проблемами современных гуманитарных наук – где и как существуют такие объекты, как слово или литературные герои. Объекты математики такие, например, как натуральные числа, – это некоторые роли соответствующих обозначений, которые воспроизводят себя по принципу нормативных систем. Это и есть их «устройство» или способ их бытия. Сказанное означает независимость математических объектов от индивидуального человеческого сознания, ибо они в своем бытии обусловлены всем контекстом культуры, всей практикой человечества и противостоят отдельному человеку или целому поколению как явление не менее объективное, чем язык. Но, будучи явлением культуры, они и развиваются не по законам естественнонаучных объектов, а вместе с культурой и по ее законам. Аналогичную точку зрения проводит Р. Коллинз, автор фундаментальной монографии «Социология философий», где он строит и изучает сети личных связей как вертикальные (учитель-ученик), так и горизонтальные (кружки единомышленников). Коллинз развивает социальную концепцию творчества и выступает против платонистской трактовки математики – т.е. против того, что математические истины существуют в некотором особом царстве, никак не соотносящемся с человеческой деятельностью по формулированию математических утверждений. Он говорит, что математика имеет социальную природу в том смысле, что она неизбежно является дискурсом в некотором социальном сообществе (математики включены в сеть учителей) и математические объекты столь же реальны, сколь реален обыденный, соразмерный человеку мир действия. Соглашаясь с отказом Коллинза от наивного реализма и платонизма и признавая социальную сконструированность знания, Н.С. Розов полагает, что необязательно сводить, подобно Коллинзу, реальность объектов естествознания к лабораторному оборудованию, а реальность математических объектов – к коммуникативным операциям. Он занимает позицию, названную им генеративным виртуализмом, что включат в себя а) чисто ментальный характер математических миров; б) потенциал бесконечного развертывания; в) жесткость, «упрямство», отсутствие произвольности в следствиях заданных конструкций. Если принять концепцию М.А. Розова о том, что числа – это роли обозначений и существуют как эстафеты, или куматоиды, то это снимает мистику существования чисел в сознании человека, как и в особом интеллигибельном мире и нацеливает исследователя в области философии математики на изучение программ, определяющих, что такое число, что такое интеграл, группа и любой другой математический объект, как складываются и видоизменяются эти программы, например, как появляются такие интегралы, как интеграл Лебега, Стильтьеса и т.п. Самостоятельной линией изучения является (и она реализована в истории математики) анализ того, как складываются обозначения, прежде всего, как формируются обозначения числа – как возникают разные формы записи чисел. Программы, связанные с теми или иными обозначениями, далеко не всегда существуют в виде правил. Как и следует из эстафетной модели Розова, способы действия с обозначениями (числами, интегралами и т.д.) заданы с помощью письменных «инструкций», но главным образом, эти правила заданы образцами предшествующей деятельности. Скажем, есть правила дифференцирования функций (которые тоже записаны с помощью специальных обозначений), но этого нельзя сказать о вычислении интегралов, здесь основное правило – приведение подынтегрального выражения к табличному виду. И здесь в основном действуют по образцам – как раньше приводили те или иные подынтегральные выражения. Правила действия с числами заданы таблицей умножения. Отсутствие явно сформулированных правил для большинства операций поддерживает мистику, связанную с математическими объектами - полагают, что операции осуществляются «в уме», тогда как все «выложено на конвейер» - обозначения даны человеку, и здесь работают чувства – любой человек научается распознаванию чисел и других математических объектов, правила (приемы) вычисления изучаются в школах и университетах. Вопросы 1. Согласны ли Вы с тем, что для ответа на вопрос, где и как существуют математические объекты, можно попробовать сближать это объекты не с объектами естествознания, а с объектами гуманитарных наук? 2. Какие представления об идеальном развивает М.А. Розов? (можно воспользоваться его статьей: Розов М.А. К методологии анализа феномена идеального // Философия. Материалы для выполнения учебных заданий по философии. Новосибирск, 2003, стр. 109-114. 3. Стремясь познать суть математических объектов, Р. Коллинз апеллирует к миру человеческих действий, М.А. Розов – к социальным эстафетам. В чем сходство и различие их подходов? 4. Что такое социальный куматоид? Что дает для понимания математических объектов представление их как куматоидов? 5. Что такое эпистемологический поворот в философии математики? 3.2. Программа «конструктор» как способ задания объектов математики В 2009 году вышла большая статья М.А. Розова «Тезисы к перестройке теории познания» (Розов 2009). Один из тезисов посвящен познанию и инженерному проектированию. М.А. Розов развивает в своих работах теорию социальных эстафет, в основе которой лежит представление о воспроизведении деятельности по уже существующим образцам. Однако он пишет в «Тезисах…», что в целом это принципиальное, но очень упрощенное представление, и что исторически на базе эстафет и накопления знания формируются принципиально новые механизмы, и, прежде всего, такое образование, как конструктор. Под конструктором Розов понимает «такую социальную программу, обычно частично вербализованную, а частично нет, которая позволяет нам проектировать деятельность по созданию объектов с заранее заданными свойствами. В рамках такой программы работает любой инженер, получивший проектное задание, сходным образом работает и ученый. Оба отталкиваются от набора функциональных характеристик некоторого объекта и пытаются создать проект его построения. Знание представляет собой не только описание уже реализованной деятельности, но и проекты деятельности, которые еще надо реализовать, если это практически возможно. Существует глубокий изоморфизм между работой инженера и исследователя» (Розов 2009 С.108). Называя конструктором «некоторое множество объектов, для которых заданы определенные способы их преобразования» (Розов 2004 С. 281), М.А. Розов в основном рассматривает, как функционирует конструктор в экспериментальных науках – физике, химии и т.п. Рассмотрим эти случаи и затем сопоставим их с функционированием конструктора в математике. Большинство программ получения знаний (методических программ) в науке не существуют без программ конструирования. Так, эксперимент Лавуазье, доказывающий, что вода состоит из кислорода и водорода, - это некоторая методическая программа, образец, который можно воспроизводить. Розов показывает, что эта экспериментальная ситуация возникла не сама по себе, не как случайное стечение обстоятельств, она была предварительно сконструирована, был построен, а затем реализован определенный проект (Розов 2006-2 С. 342). Для понимания того, как работает конструктор в математике, нам более важны представления о теоретическом конструировании. Для такого конструирования существенно, что реализация заданных образцов или правил всегда возможна и всегда приводит к одному и тому же результату – «мы не учитываем и не оговариваем множества различных привходящих обстоятельств, которые подстерегают нас при работе с эмпирическими объектами» (Розов 2004 С. 282). На естественный вопрос – с чем же мы работаем, с чем оперируем в рамках теоретического конструктора, обычно дают ответ о действиях с идеальными или идеализированными объектами, где появляются мысленные процедуры. Однако, совершенно не ясно, как изучать такие мысленные процедуры, ментальные состояния и т.п. Новаторство М.А. Розова в эпистемологии состоит в том, что он показывает, как можно полностью обойтись без подобных представлений. Он считает, что тайна работы в теоретическом конструкторе кроется в разделении труда. Так, например, человек забивает гвоздь, работая с реальными предметами – гвоздем, молотком, доской. Он много раз забивал гвоздь и действует, воспроизводя имеющиеся у него образцы. При возникновении ситуации, когда надо объяснить другому, как забить гвоздь, человек рассказывает, как надо действовать. С какими объектами действует при этом инструктор? Розов говорит, что ничего не изменилось, кроме одного – раньше тот, кто забивал гвоздь, непосредственно воспроизводил образцы своего ремесла, а теперь он вынужден вербализовать их в форме набора команд. Он оперирует при этом образцами и командами, но работает он теперь в теоретическом конструкторе, ибо предполагает, что все его команды реализуемы и в данной конкретной ситуации, отличной от той, которую он когда-то наблюдал. Ученик же может столкнуться с тем, что гвоздь согнулся и т.д. Не случайно, поэтому, теоретические тексты очень напоминают такого рода команды. Таким образом, было «сконструировано» теоретическое исследование, где нет необходимости прибегать к «мысленным процедурам» с идеализированными объектами Розов, таким образом, связывает теоретическое исследование не с мифическими мысленными процедурами, а с вербализацией образцов прошлой деятельности, когда один человек объясняет другому, как действовать в тех или иных случаях (первый уже владеет этими действиями). Математика существенно отличается от эмпирических наук тем, что в ней нет эмпирической референции, математика непосредственно не имеет дело с природными, вещественными объектами. Если физик, химик, биолог может экспериментировать со своими объектами – нагревать, сжимать, измерять и т.д., то математик имеет дело с объектами, обозначенными символами – чертежами и разного рода символикой. М.А. Розов показывает, что числа – роли обозначений (Розов 2007). Но как заданы роли? Роли заданы способами действий. Здесь и начинается функционирование конструктора в математике. Число, треугольник, любой другой математический объект всегда связан с теми или иными действиями, которые можно (или нельзя) совершать с символами. Итак, одна из функций конструктора в математике – задание объекта исследования, ибо человеку важно не столько то, что есть такой объект, как число, но, прежде всего то, что можно с числом делать (складывать, умножать, делить и т.п.) и какие задачи можно решать с помощью чисел. Прежде всего, нужно представить число, записать его, хотя и до традиции записей существуют способы установления некоторых соотношений, например, не умея считать, хозяин, тем не менее, может знать, все ли стадо возвратилось домой. Система записей в разных культурах различается, и это свидетельствует, в том числе, и о том, что числа не были даны кем-то всем культурам, а возникали в каждой в своем, специфическом виде. Принципы записи чисел – это один из первых конструкторов в арифметике, который совершенствуется чуть ли не до наших дней (если учесть возникновении двоичной системы для нужд компьютеров). Историк арифметики И.Я. Депман пишет, что перед людьми, освоившими натуральный ряд чисел до некоторой достаточно далекой границы, встала необходимость создания удобных способов называния и записи чисел (Депман 1965 С. 26). Слово «освоившими» здесь не совсем точно, ибо люди не нашли числовой ряд в природе, а построили его. Депман пишет, что счисление было бы безнадежным, если бы каждому числу присваивалось особое название. «Но люди вскоре догадались, что считать надо группами, называя группы теми же именами числительными, как единицы, но с добавлением названий групп» (Там же). Люди должны были, таким образом, создать удобные способы называния и записи чисел. Одновременно с формами записи чисел возникают правила сложения и других арифметических действий. Проблемой было не только создание правил действия с числами, но и создание символики для обозначения действий. Принятые ныне знаки плюс, минус, равенство, скобки и другие возникают в Европе, начиная лишь с XY века. Итак, математик имеет дело с символами или знаками-пиктограммами. Суть математики состоит в том, что математик строит правила действия с числами, другими символами, чертежами, т. е. работает в рамках того или иного конструктора, который он сам и создает. Важным фактором развития математики было осознание математиками того обстоятельства, что математика нуждается в алгоритмах, или правилах (т.е. в конструкторах), а не только в нахождении тех или иных зависимостей. Я имею ввиду, например, факты из истории становления интегрального исчисления, когда Архимед, Кеплер и ряд других математиков стремились найти площади криволинейных фигур, тогда как исчисление было создано, когда осознали, что нужно искать (строить) метод нахождения площадей, максимумов и минимумов, а не только сами максимумы и минимумы. Первый шаг в этом направлении сделал сам Архимед, который понял, что он получил два результата – нашел площадь (объем) криволинейных фигур и – решил эти задачи новым методом, которым, как он провидчески предвидел, возможно, впоследствии можно будет пользоваться и для решения других задач: «Он [этот метод] может принести математике немалую пользу; я предполагаю, что некоторые современные нам или будущие математики смогут при помощи указанного метода найти и другие теоремы, которые нам еще не приходили в голову» (Архимед 1962 С. 299). Однако когда Лейбниц ввел определение дифференциала, предложил для него обозначение и сообщил без доказательства правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного и степени, его работа долго оставалась непонятой. Это тем более удивительно, что правила не были чем-то новым в математике, ими более или менее осознанно пользовались все те, кто занимался тогда проблемами касательных, максимумов и минимумов и т.д. (Медведев 1974 С. 112). Причина этого непонимания была в том, что сформулированные правила были «выставлены Лейбницем в качестве общего исходного пункта для всех инфинитезимальных исследований, … что связь их с символикой делает их основой исчисления, с помощью которого можно производить разнообразные инфинитезимальные исследования таким же образом, как исследования анализа конечной величины с помощью буквенного исчисления» (Цейтен 1933 С. 409). Здесь очень важно обратить внимание на следующее – новаторство Лейбница состоит не в том, что он предложил новые правила, а – в другом осознании этих правил. Правила были не столько средством нахождения определенных геометрических величин (максимумов, минимумов, касательных), сколько самостоятельным результатом, основой исчисления, с помощью которого можно было производить «разнообразные инфинитезимальные исследования», а не только те, которые привели к этим правилам. Осуществление этого рефлексивного преобразования и делает Лейбница одним из авторов дифференциального и интегрального исчисления. Использование математики при решении задач механики, физики сделало их точными науками и привлекательным образцом для подражания. Во второй половине ХХ века много пишут о математической лингвистике, математической экономике и других подобных дисциплинах, где надеялись средствами математики решить их основные проблемы. Однако надежный способ математизации (или математического моделирования) имеет место только в том случае, когда есть некоторый инверсивный (двойственный) объект, с одной стороны, фиксирующий важные свойства реальности, а, с другой, представляющий собой задачу, которая может быть решена математически. Такова, например, задача фанерного треста о таком раскрое листа фанеры, чтобы отходы были минимальными. В 1938 году Л.В. Канторович консультировал фанерный трест по проблеме эффективного использования лущильных станков. Он понял, что дело сводится к задаче максимизации линейной формы многих переменных при наличии большого числа ограничений в форме линейных равенств и неравенств. Он модифицировал метод разрешающих множителей Лагранжа для её решения и понял, что к такого рода задачам сводится колоссальное количество проблем экономики. В 1939 г. Канторович опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства», в которой описал задачи экономики, поддающиеся открытому им математическому методу, и тем самым заложил основы линейного программирования. Формирование новой математической дисциплины в этом случае есть не что иное, как становление нового конструктора в математике, в рамках которого решается класс экстремальных задач с ограничениями. Лист фанеры, который надо раскроить оптимально, – это инверсивный объект: с одной стороны, здесь описывается содержательная практическая задача, с другой – эта ситуация способствует постановке новой математической задачи – максимизации линейной формы многих переменных при наличии большого числа ограничений. Еще пример успешного математического моделирования – решение Эйлером (1736 г.) задачи о Кенигсбергских мостах. Получив решение, Эйлер поставил вопрос, почему такую задачу «обыденной жизни» решает математик, ибо никаких собственно математических действий он, по его словам, не совершал. Однако в наши дни решение задачи о Кенигсбергских мостах считается первым шагом в новой области математики – теории графов. Термин «граф» появился у Денеша Кенига в 1936 году. Перечисляя задачи, приведшие к формированию теории графов, обычно называют кроме задачи о мостах, задачу о четырех красках, задачу коммивояжера, открытие Кирхгофом законов течения электрического тока в разветвленных цепях и т.д. (Эйлеровы пути). Как оказалось, что эти совершенно разные практические задачи лежат в основании новой математической теории – теории графов? Рефлексия исследователей должна была осознать каждую из этих задач как одну и ту же задачу (как задачу на одном и том же объекте и что важно - новом для математики). Для этого, отвлекаясь от конкретного содержания задач, каждый случай представляли чертежом, на котором были нанесены точки и соединяющие их линии – ребра графа. Все практические задачи, названные выше – тоже инверсивные объекты: они и описывают содержательные ситуации, и позволяют представить их, эти ситуации как новый математический объект – граф и создать тем самым новый математический конструктор. Таким образом, введение в структуру науки такой программы, как конструктор, позволяет отвечать на вопросы – как возникают объекты математики, откуда они берутся. Эти объекты не находятся в природе, как растения, животные, минералы, а конструируются тем или иным образом при осуществлении допустимых действий чертежами, алгебраической символикой и т.п. Конструирование как способ возникновения математических объектов может пролить некоторый свет на дискуссию о научных революциях в математике. Если науки о природе изучают явления и строят модели, объясняющие эти явления, то рано или поздно, как показал Кун, появляются аномальные факты, требующие отказа от одних объяснительных конструкций и замены их другими, более адекватно «отражающими» явления, т.е. происходят научные революции. В математике же не отказываются ни от каких объектов, ибо они конструируются «правильно», «без ошибок»; их конструированием руководят не стремления объяснить те или иные явления, а – руководит только возможность осуществления определенных операций – решения уравнений, геометрические построения и т.д. Иначе говоря, в математике не выполняется одно из условий, важных в модели научной революции Куна – отбрасывание неработающих моделей. В истории математики можно зафиксировать только, что какие-то объекты становятся менее употребительными, их просто не используют, но не отбрасывают. Именно потому, что объекты математики не берутся из природы, а конструируются учеными, оказалась возможна не только геометрия Евклида, но и две других – Лобачевского и Римана. Геометрия Лобачевского долго не принималась многими математиками как раз потому, что полагали, что математика ничем, по сути, не отличается от других наук, которые «отражают» природу, следовательно, наличие двух или более геометрий – это нонсенс. Приняли же неевклидову геометрию тогда, когда были найдены модели, где выполняется эта геометрия – например, псевдосфера (поверхность типа пионерского горна). Конечно, возникают вопросы – как именно конструируются математические объекты, чем руководствуются ученые при их создании. Но это тема требует самостоятельного рассмотрения. Отметим только, что многие новые математические объекты возникают незапланированно. Таковы отрицательные и комплексные числа, появившиеся в процессе решения уравнений, неевклидова геометрия, которая была невольно построена в ходе попыток доказательства пятого постулата Евклида, группы в работах Галуа, которые возникли как средство решения задачи о том, при каких условиях разрешимы некоторые уравнения выше пятой степени в радикалах. Такие объекты далеко не сразу принимались математиками. Ибо в рамках «модели отражения» было не ясно, что именно отражают отрицательные числа, комплексные и т.д. Принятие этих объектов было обязано приданию им некоторых смыслов (отрицательное число обозначает долг и т.п.). Наряду с такими незапланированными объектами возникают и такие, где их конструктивная природа очевидна – пространства больших (и даже бесконечных) размерностей, уравнения n-ной степени и т.д. 3.3. Новации, традиции, революции в математике Т.Кун: «Научные революции рассматривается здесь как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой» (Кун 1977 С. 128). Эти слова Кун дополняет еще двумя признаками – 1) научные революции, как и политические, начинаются с роста сознания, что существующие институты перестали адекватно реагировать на проблемы, поставленные средой, которую они же отчасти создали. И в политическом и в научном развитии осознание нарушения функции, которое может привести к кризису, составляет предпосылку революции. 2) Подобно выбору между конкурирующими политическими институтами, выбор между конкурирующими парадигмами оказывается выбором между несовместимыми моделями жизни сообщества (Кун 1977 С. 130). Чтобы раскрыть, как происходят научные революции, Кун рассматривает не только влияние природы и логики, но и эффективность техники убеждения в соответствующей группе, которую образует сообщество ученых. В разделе IX Кун показывает необходимость научных революций. Он подчеркивает, что есть только три типа явлений, которые может охватывать вновь созданная теория. Первый состоит из явлений, хорошо объяснимых уже с точки зрения существующих парадигм; такие явления редко требуют новой теории. Второй вид явлений представлен теми, природа которых указана существующими парадигмами, но их детали могут быть поняты только при дальнейшей разработке теории. Исследования ученого в таких случаях направлены на разработку существующей парадигмы, а не на создание новой. Только когда эти попытки в разработке парадигмы потерпят неудачу, ученые переходят к изучению третьего типа явлений, к осознанным аномалиям, характерной чертой которых является упорное сопротивление объяснению их существующими парадигмами (Кун 1977 С. 134). Только этот тип явлений и дает основание для возникновения новой теории. Парадигмы определяют для всех явлений, исключая аномалии, соответствующее место в теоретических построениях исследовательской области ученого. Различия между следующими друг за другом парадигмами необходимы и принципиальны. Следующие друг за другом парадигмы по-разному характеризуют элементы универсума и поведение этих элементов, их отличие касается таких вопросов, как существование внутриатомных частиц, материальность света, сохранение теплоты или энергии. Эти различия являются субстанциональными различиями между последовательными парадигмами, и они не требуют дальней иллюстрации. «Но парадигмы отличаются более, чем содержанием, они направлены не только на природу, но выражают также и особенности науки, которая создала их. Они являются источником методов, проблемных ситуаций и стандартов решения, принятых неким развитым научным сообществом в данное время. В результате восприятие новой парадигмы часто вынуждает к переопределению основ соответствующей науки. Некоторые старые проблемы могут быть переданы в ведение другой науки или объявлены совершенно «ненаучными». Другие проблемы, которые были прежде несущественными или тривиальными, могут с помощью новой парадигмы сами стать прототипами значительных научных достижений. И поскольку меняются проблемы, постольку обычно изменяется и стандарт, который отличает действительное научное решение от чисто метафизических спекуляций, игры слов или математических забав. Традиция нормальной науки, которая возникает после научной революции, не только несовместима, но часто фактически и несоизмерима с традицией, существовавшей до нее (Кун 1977 С. 141-142). Функции парадигмы в науке разнообразны. Одна из них – парадигма выступает в качестве средства выражения и распространения научной теории. В этой функции ее роль состоит в том, чтобы сообщать ученому, какие сущности есть в природе, а какие отсутствуют, и указывать, в каких формах они проявляются. Информация такого рода позволяет составить план, детали которого освещаются зрелым научным исследованием. План для длительного развития науки так же существенен, как наблюдение и эксперимент. «Через теории, которые они воплощают, парадигмы выступают важнейшим моментом научной деятельности» (Кун 1977 С. 149). Однако парадигмы дают не только план деятельности, но указывают и некоторые направления, существенные для реализации плана. «Осваивая парадигму, ученый овладевает сразу теорией, методами и стандартами, которые обычно самым теснейшим образом переплетаются между собой. Поэтому, когда парадигма изменяется, обычно происходят значительные изменения в критериях, определяющих правильность как выбора проблем, так и предлагаемых решений» (Там же). Итак, парадигмы существенны для науки. Рассмотрим их существенность для самой природы. Кун рассматривает революции как изменение взгляда на мир (раздел X). В период революций ученые видят новое и получают иные результаты даже в тех случаях, когда используют обычные инструменты в областях, которые они исследовали до этого. Это выглядит так, как если бы профессиональное сообщество было перенесено в один момент на другую планету, где многие объекты им незнакомы, да и знакомые объекты видны в ином свете. Конечно, в действительности нет никакого переселения в географическом смысле; вне стен лаборатории повседневная жизнь идет своим чередом. Ученый после революции оказывается в новом мире. Кун поясняет это, обращаясь к феномену переключения зрительного гештальта в работах психологов – то, что казалось ученому уткой до революции, после революции оказывалось кроликом. В итоге мир исследования будет казаться ученому несовместимым с миром, в котором он «жил» до сих пор. Школы, исповедующие различные парадигмы, всегда действуют, таким образом, как бы наперекор друг другу (Кун 1977 С. 151). Таким образом, накопление аномальных фактов приводит к необходимости следовать новой парадигме, т. е. к научной революции. Новая парадигма несоизмерима со старой, от которой научное сообщество отказывается. Есть ли в математике научные революции? Вопрос о том, имеют ли место научные революции в математике, важен как сам по себе, так и в силу того, что он заставляет уточнить представления о математике как науке и о философии математики. На западе в 1992 г. вышел сборник «Революции в математике» (Revolution in mathematics 1992). В этом сборнике была напечатана статья М. Кроу (написана в 1975 году), где автор сформулировал 10 законов «развития» математики, которые мы уже приводили. Как видим, Кроу говорит, что новые математические понятия зачастую возникают не в результате, но вопреки настойчивым усилиям их создателей, всеми силами пытавшимися избежать введения этих новых понятий. Новые понятия часто встречаются поначалу с упорным сопротивлением и признаются математическим сообществом только по истечению значительного времени. Математические теории достигают требующейся логической строгости лишь с течением времени, иногда длительного, но никак не сразу. Математики сохраняют некоторые понятия вследствие их удобства, даже если это не отвечает требованиям логики, Математические теории имеют свою метафизику. Признание сообществом нового математического понятия зависит от научной репутации его создателя. Математики владеют обширным запасом технических средств, позволяющих им избавляться от противоречий и затруднений в своих теориях. На основе всех предыдущих "законов" Кроу формулирует десятый "закон", гласящий, что "в математике не бывает революций", т.е. в ней не случается отбрасывания принятых понятий и теорий. Развитие математики чисто кумулятивно, утверждает Кроу, не тратя, впрочем, много времени и усилий на обоснование этого "закона", ибо он представлялся ему очевидным. Мне представляется, что со всеми законами, кроме десятого (о том, что в математике не бывает научных революций), можно согласиться и впоследствии мы это увидим. Действительно, история науки предоставляет факты, которые демонстрируют правоту первых девяти законов. Утверждая, что в математике нет научных революций, формально Кроу прав, ибо Кун связывает наличие революции в естественных науках с наличием аномальных фактов, появлением новой парадигмы и с отбрасыванием принятых ранее понятий и теорий. Новые парадигмы в математике, конечно, есть, но их формирование не приводит к тому, что какие-то предыдущие теории отбрасываются – «формирование аналитической геометрии не приводит к отказу от теории конических сечений и т.д.». Почему появление новых математических теорий не приводит к отбрасыванию уже имеющихся? Можно сказать, что Кроу и все те математики, которые считают, что в математике нет научных революций, рассуждают тоже формально. Да, никакие теории в математике не отбрасываются. Но разве с появлением новых теорий старые не «отходят в тень» и ими уже, в общем, не пользуются – т.е. ставятся другие задачи, которые решаются другими методами и т.п. (например, задачи на вычисление площадей и объемов после возникновения дифференциального и интегрального исчисления). Кроме того, в математике нет аномальных фактов (Лакатос в работе «Доказательства и опровержения» нашел, казалось бы, массу аномальных фактов, для которых не выполнялась теорема Эйлера о соотношении вершин, граней и ребер многогранников. Однако ни один из этих фактов не опроверг эту теорему, скорее, наоборот, - целый ряд многогранников был сочтен монстрами, и не мог посягнуть на эту теорему). Это происходит потому, что математика не является естественной наукой, наукой о природе, как физика, химия или биология. Иногда выделяют класс формальных наук, куда кроме математики входит логика, некоторые другие дисциплины. Математика конструирует свои объекты. И изучает все те объекты, которые она может сконструировать, независимо от того, отражают они действительность, или – нет. Действительно, если жизнь требует решения уравнений первой степени, второй, иногда – третьей, то нормальным для математики становится в конце концов решение уравнений n-ной степени, независимо от того, нужно ли это для каких-то практических задач, или – нет. Если физика хочет познать природу и в силу этого она строит теории так, чтобы объяснить эмпирический материал, объяснить факты природы, то математика конструирует свои объекты так, как это позволяют те средства, которыми она при этом пользуется. Например, геометрия имеет дело с теми фигурами, которые ей позволяют построить циркуль и линейка. При своем возникновении математика тесно связана с реальной жизнью. Она решает те задачи, которые от нее требует жизнь – задачи на проценты, задачи, связанные со сбором налогов и т.д. Таким образом, не во всем правы те математики, которые говорят, что в их науке нет научных революций на основании формальных признаков (нет аномальных фактов и не отбрасываются прежние теории). Кроме того, эта группа математиков не учитывает, что есть математические теории, которые не просто в силу кумулятивности добавляются к уже имеющимся теориям, но существенно перестраивают многие имеющиеся теории и в силу этого – саму деятельность математиков. Речь идет о дифференциальном и интегральном исчислении, о теории множеств, логике. В обзоре рассматриваются и взгляды Герберта Мертенса, который высказывает несколько важных мыслей. Рассмотрим три из них. Первая связана с понятием эпистемологического разрыва, вторая – с уточнением вопроса о том, что значит, что революции происходят «в» математике. Третья – семиотическая трактовка математики приводит к тезису о том, что математика высказывается не о мире, а только о самой себе. Первая идея - термин "научная революция" близок к используемому Г, Башляром и М.Фуко понятию эпистемологического разрыва. Такой «разрыв» может не иметь точной даты или временных рамок. Так, например, неевклидова геометрия была создана в 1830-х гг., а признана в 1860-х., хотя противодействие ей продолжалось до начала XX в. Препятствием на пути неевклидовой геометрии было убеждение, что геометрическая теория должна быть истинным описанием независимой от нее реальности. Преодоление этого представления и может быть реконструировано как революция в истории математики. Я совершенно согласна, что появление неевклидовой (и вообще трех) геометрии – может быть осознано как революция в математике. И эта ситуация тесно связана со второй темой – что значит, что революция произошла «в» математике в этом случае. Скорее – это революция в понимании статуса математики – отражает ли она действительность (описывает ли она независимую от нее реальность) или «делает» что-то другое? Можно поставить вопрос так – подобна ли математика естественным наукам, описывающим независимую от них реальность, или – суть математики следует осознать иначе? Как именно? Рассмотрим такой ответ. Математика конструирует свои объекты. Объекты ее – это знаки, или системы знаков. Однако сказанное отнюдь не следует трактовать, что математика – это некая «игра в бисер». Конструируя знаковую реальность, математика отвечает на запросы практики – по крайней мере – и в древности, и в 17-19 веках (см. Б.И. Гессен. Социально-экономические корни механики Ньютона»). Конечно, сами семиотические системы, созданные математиками, вносят свои проблемы, о которых не подозревали создатели (обнаружение несоизмеримости стороны квадрата и ее диагонали, отрицательных чисел, комплексных и т.д.), и, тем не менее, обусловленность математических систем знаков (арифметики, геометрии, символики дифференциального и интегрального исчисления и т.д.) практическими ситуациями во многом позволяет снять вопрос о непостижимой эффективности математики, который ставит Е. Вигнер. Один из вариантов рассуждений здесь такой: математика «растет» из практических задач, потребностей, и эта связь с материальной практической деятельностью человека некоторым образом «впечатана» и в арифметику, и в дифференциальное и интегральное исчисление, и в дифференциальные уравнения. Если считать, что одни разделы математики надстраиваются над другими (например, математический анализ надстраивается над арифметикой и геометрией, над ним – теория рядов, теория категорий и т.д.), то связь с практикой пронизывает высшие разделы, которые сами могут и не быть обусловлены практическими нуждами человеческой культуры. Идея надстройки одних разделов математики и мысль о том, что практическая обусловленность низших разделов как некая эманация пронизывает и высшие, передается им - это не более, чем метафоры. И, тем не менее – это значимые метафоры, мне кажется. Итак, математика как наука возникает в рамках иных методологических установок, чем науки о природе. Однако тот факт, что установки ее другие, обнаруживается достаточно поздно – и именно в ситуации открытия неевклидовой геометрии. Может быть, более правильно сказать так: математика формируется в рамках двух методологических установок – 1) ответ на запросы практики (арифметика, геометрия в древности, алгебра в 15 веке, матанализ в 17-19 веках) 2) для решения практических задач творцы математики создали семиотические системы – числовой ряд, операции с числами, геометрию, циркуль и линейку и фигуры, которые можно сконструировать с их помощью. Именно практические запросы – точнее, тот факт, что арифметика и геометрия отвечали запросам практики – практике сбора налогов, практике строительства, решению астрономических задач и т.д. – прочно закрепили в сознании людей методологическую установку – математика дает истинное описание независимой от нее реальности. Возникновение же геометрии Лобачевского, тоже истинной, потрясло эту методологическую установку (что и явилось революцией) и потребовало другого осознания сущности математики (что и является революцией – или предпосылкой к революции). Другое осознание математики, которое ученые вынуждены были искать, а затем принять найденное – что математическая теория изучает «правильно» сконструированные объекты, что математические теории имеют «право на жизнь» не только тогда, когда они являются истинным описанием независимой от нее реальности, но когда эти теории сконструированы без противоречий. Оказалось, что без противоречий сконструированы три геометрии (Евклида, Лобачевского и Римана). И, несмотря на то, что истинным описанием независимой от них реальности может быть только одна из этих геометрий, как математические объекты следует признать все три, а вопрос о том, какая из этих геометрий реализована в нашем физическом пространстве, должна решать не математика, а физика (астрономия). Здесь следует учесть два обстоятельства. Первое – методологическая установка (о том, что математическая теория должна быть истинным описанием независимой от нее реальности) должна быть отброшена и заменена другой (например, достаточно, чтобы математическая теория была сконструирована без противоречий). Второе – геометрия Лобачевского была признана математиками тогда, когда построили ее интерпретации, т.е. когда нашли математические объекты, для которых справедлива эта геометрия. Так может быть в принципе слова о том, что «математическая теория должна быть истинным описанием независимой от нее реальности» справедливы, но под «независимой реальностью» не обязательно понимать физический мир, не созданный людьми и в этом смысле – независимый от человека? Ведь поверхность типа пионерского горна, на которой выполняются все теоремы неевклидовой геометрии, тоже можно трактовать как независимую реальность. Но даже если это принять, все равно революционность открытия неевклидовой геометрии не исчезает, не снимается. Итак, еще раз,– именно ситуация с открытием (и признанием – непризнанием) неевклидовой геометрии способствует тому, чтобы вместо методологической установки, справедливой для естествознания (что теория должна быть истинным описанием реальности), появилась другая установка. На традиционном языке эта установка выглядит так – математическая теория должна быть непротиворечивой. Я бы сформулировала эту установку так – в случае неевклидовой геометрии явно проявляется то обстоятельство, что математические объекты – это семиотические объекты, конструируемые математиками, и они должны быть сконструированы «правильно», т.е. непротиворечиво. Вероятно, все эти рассуждения уже содержат и ответ на вопрос о том, осуществляются ли революции внутри математики, или влияют и внешние факторы? «Но как должна быть описана эта революция? Какой контекст требуется для ее адекватной реконструкции? Должен ли он, например, включать историю модернизма в живописи с его экспериментами в области изображения пространства?». Вопрос – «что значит, что революция произошла «в» математике», я бы переформулировала так – происходит ли революция в самом математическом конструкторе? Или – это революция в методологических установках математиков? Ответы такие – с одной стороны, в случае с открытием неевклидовой геометрии произошла мощная методологическая революция, а именно – стихийно принимаемый тезис о том, что «математическая теория должна быть истинным описанием независимой от нее реальности» был заменен на другой – от математических теорий требуется не отражение действительности, а непротиворечивость при конструировании ее объектов (теорий). Это означает, что математика – иная наука, чем естествознание, она не находит свои объекты в природе, а конструирует их в соответствии с некоторыми принципами, в частности, с принципом непротиворечивости. Третья идея Мертенса о том, что математика высказывается не о мире, а только о самой себе. Понятно, почему такая мысль возникла. Мы только что «отсекли» математику от задачи давать истинное описание реальности. Казалось бы, вывод о том. что математика высказывается не о мире, а о самой себе (т.е. о другом мире - мире чисел, групп, множеств, интегралов и т.д.) справедлив. Однако практическое происхождение математики (которое и породило методологическую установку о том, что математика дает истинное знание о мире) с самого начала истории этой науки «вдохнуло» в нее, в ее объекты (числа, треугольники, интегралы) «практическую полезность», которая затем передается новым разделам математики, надстраивающимся над арифметикой. Поэтому, высказываясь о самой себе, т.е. о своих объектах – числах, интегралах и т.п., математика высказывается и о мире, где числа обозначают совокупности каких-то объектов, интегралы обозначают площади или объемы и т.д. Б.И. Гессен хорошо показывает практическую обусловленность математики 17-19 века. Конечно, нельзя утверждать, что любой раздел математики имеет практическое содержание, как арифметика, геометрия и вообще классическая математика. «Если в ней и есть истины, то - это истины о ней самой, ибо математика говорит только о своих собственных знаковых конструкциях. Различные математические теории работают с определенными типами знаковых конструкций, обозначающих правила для их «собственного» использования. Семиотический подход, как признает Мертенс, вызывает много гносеологических вопросов, но имеет то бесспорное достоинство, что позволяет избавиться от вопросов типа: "О чем математика? Что лежит внутри математики?"» (Сокулер, 1995). Рассмотрим это. Уже было показано выше, что даже и в тех случаях, когда возникает новая математическая теория, не отвечающая явно никакому практическому запросу (или запросу другой науки), все равно через опосредованную связь с исходными разделами математики, эта новая теория что-то может говорить о мире. Но примем тезис – математика говорит не о мире, а о своих знаковых конструкциях. В этом нет ничего «порочного». Просто математика – другая наука, она изучает не то, что существует в природе (атомы, химические вещества, растения и т.п.), а объекты, сконструированные ей самой. Почему мы бы хотели, чтобы все науки были однотипны? Почему группы наук не могут подчиняться разным методологическим нормативам? Математика возникла раньше наук о природе и тем более, раньше наук об обществе. Она возникла естественным путем. Наша задача – принять то, что возникло, тем более, что говоря о своих собственных знаковых конструкциях, математика говорит и о природе, что прекрасно демонстрируют арифметика и геометрия. Рефлексивные преобразования как механизм новаций в условиях неведения «Так есть ли противоречие между утверждениями Кроу и Мертенса, и в чем оно состоит? Думаю, что в следующем: для Мертенса, в отличие от Кроу, то, что «в математике, не существует как самостоятельная реальность, которую следует изучать в абстракции от того, что происходит в сообществе математиков (которое само является частью более широкого человеческого сообщества)». Научные революции могут пониматься по-разному. Так, Н.И. Кузнецова и М.А. Розов выделяют четыре типа революций в науке. В учебнике (Степин, Горохов, Розов 1995) они называют то, что названо революциями, не революциями, а новациями. Представления о типах новаций тесно связаны с эстафетной моделью науки, которую строит М.А. Розов. Типы новаций он связывает с типами программ и выделает 4 типа новаций (революций): 1) появление новых парадигм, 2) формирование или заимствование новых методов (например, связанных с открытием микроскопа, телескопа, других приборов), 3) открытие новых миров (группа в математике, ген, вирус в биологии и т.д.) 4) появление новых методологических программ. Рассмотрим, как эти новации проявляются в математике. Второй тип рассматривать не будем. Но – при формировании каждой новой теории всегда появляются и новые методы. Например, начиная с Архимеда, математики стремились найти методы вычисления площадей криволинейных фигур. В итоге это выросло в дифференциальное и интегральное исчисление, которое является не только новой математической теорией, существенно перестроившей имевшуюся тогда математику, но и дало простые методы вычисления площадей и объемов и массу других методов. Можно ли сказать, что с новой математической теорией всегда связаны новые методы? Да, наверно. Ибо новая теория – это новый конструктор, а значит и новые задачи, и новые методы их решения. Но вряд ли надо сливать воедино два типа новаций – появление новой теории и новых методов. Хотя специфика математики, в частности, конструирование ее объектов, ведет к тому, что все три типа новаций тесно связаны и практически одновременны – новая теория, новые методы и новые объекты. Все это происходит потому, что в математике нет различия между экспериментальным исследованием и теоретическим – нет экспериментального, а объект не найден в природе, а сконструирован теорией. Новая теория – это всегда теория какого-то объекта. Это относится и к математике – теория множеств, теория групп – их объекты как-то должны быть заданы. Т.е. если в физике методы, как правило, связаны с приборами, то в математике нет двух источников новаций. И, тем не менее, временной лаг есть. Рассмотрим открытие групп – а) Галуа сконструировал группу как средство, чтобы решить традиционную задачу – найти – после Абеля – условия, при которых уравнения выше 4 степени разрешимы в радикалах, б) Была осуществлена рефлексивная симметрия – поняли, что Галуа сделал два открытия – решил ту задачу, которую ставил, и – сконструировал новый объект – группу, в) стали изучать этот новый объект группу; на этом пути открыли новые виды групп, установили, что теория групп может быть полезна в кристаллографии и других естественных науках. 2) Дифференциальное и интегральное исчисление. В истоках его тоже лежало решение традиционной задачи – найти формулы для вычисления площадей и объемов криволинейных фигур. История растянулась на много столетий. а) Архимед нашел такие формулы для нескольких фигур и создал при этом метод – традиционными методами задача не могла быть решена (не решалась) б) Кеплер, Ферма и другие нашли формулы для большего числа фигур, «совершенствуя» при этом метод, в) была еще одна традиционная задача – построение касательной к кривой – в случаях а и б важно, что задачи поступали «извне» - из других наук (астрономия, например), г) Барроу понял, что задачи нахождения площадей и объемов (фигур и тел) и задача нахождения касательной к кривой связаны – и взаимно обратны, д) Лейбниц представил составил формулы для нахождения производных для суммы, произведения, степени и т.д. как самостоятельный продукт исследования. Однако на его результат не обратили внимания, его не поняли – т.к. он осуществил рефлексивное преобразование – и в качестве результата своей работы предложил не формулы для вычисления площадей и объемов, а исчисление (формулы уже были известны). 3) Теория множеств Кантора. Здесь истоки несколько иные. Хотя рефлексивная симметрия и здесь есть. Кантор заметил, что многие разделы математики (теория чисел, проективная геометрия и т.п.) имеют дело с бесконечными множествами – множеством особых точек, множеством вычетов и т.д. И сделал такие бесконечные множества самостоятельным объектом исследования. Чтобы «подтвердить» правомерность изучения бесконечных множеств, он сформулировал задачу (послав эту задачу Дедекинду, который ответил, что эту задачу решать не нужно) и решил ее – получил нетривиальный результат, который свидетельствовал о том, что такой объект исследования «правомерен». Здесь нет исходного конструирования нового объекта. Не Кантор конструировал бесконечное множество, да и никто этого не делал. Но Кантор показал, что изучение актуально бесконечных множеств – дает новые, интересные, нетривиальные результаты. Кронекер – выступал против изучения актуально бесконечных множеств. Что важно во всех этих случаях? 1) решалась традиционная задача (Галуа, Архимед, но не Кантор – хотя может быть и он сюда относится, если рассмотреть дискуссию об актуальной бесконечности и потенциальной, идущую с античности). 2) в процессе ее решения конструировался новый математический объект – группа, интеграл, дифференциал. Актуально бесконечное множество не конструировалось Кантором, но было выбрано им как объект исследования – этому способствовало изучение актуально бесконечных множеств в других разделах математики – в проективной геометрии, арифметике и т.д. В случае с Галуа новый объект – группа был сконструирован, но не изучен – Галуа погиб и изучение началось, во-первых, потому, что анализ материалов Галуа инициировал один из математиков, и возможно потому, что другие математики поняли значимость группы как математического объекта и значимость теории групп как новой математической теории. В случае с дифференциальным и интегральным исчислением новый объект – исчисление, - было построено, но вызывало претензии (использование понятия бесконечно малого и т.д.). Но потом это исчисление строили по канонам математической строгости, тогда как Ньютоном и Лейбницем оно было построено по канонам прикладной науки – формулы дают возможность вычислять площади, находить касательные и этого было достаточно. 3) Осуществлялась процедура рефлексивной симметрии – новый объект становился уже не средством, а главным объектом исследования. Т.е. две математические теории выросли в ходе решения других задач – эти теории не строились, а стихийно формировались, поэтому матанализ пришлось перестраивать – не формулы, а идеологию – Коши и Вейерштрасс разработали язык эпсилон-дельта. Идею группы не пришлось перестраивать, т.к. она осталась не построенной Галуа. Открытие группы и формирование матанализа – это открытия в условиях неведения. Рассмотрем, как анализирует открытие неевклидовой геометрии М.Ю. Веркутис (2004). М.А. Розов различал незнание и неведение следующим образом. Незнание имеет место тогда, когда человек не знает результат какого-то действия (исследования), но знает, как достичь этот результат. «Незнание – это движение ученого в рамках предметного поля, заданного прошлыми достижениями, когда переход к новому знанию можно представить как ответ на вопросы, характер которых определяется тем или иным уровнем развития данной науки. Вопросы фиксируют область незнания. Ученый может сказать: «Я не знаю того-то». То, чего не знает в данном случае ученый, - это какие-то вполне определенные объекты и их характеристики, например, может быть неизвестен химический состав какого-либо вещества или расстояние между какими-то городами. Существенно, что фиксируя вопросы, на которые неизвестны ответы, можно построить достаточно развернутую программу, нацеленную на получение и фиксацию нового знания, можно выявить некоторую перспективу развития данной науки в той ее части, которая зависит от уже накопленных знаний (Степин, Горохов, Розов 1995 С. 117). О вопросах в сфере незнания можно получить некоторое представление, если вспомнить, что говорит о типах экспериментов, которые обычно ставятся в рамках нормальной науки, Т. Кун. Он называет целые группы задач, например, определение положения звезд и звездных величин, периодов затмения двойных звезд и планет в астрономии; вычисление удельных весов и сжимаемостей материалов, длин волн и спектральных интенсивностей, электропроводностей и контактных потенциалов в физике и т.п. (Кун 1977 С. 47). Розов подчеркивает, что «незнание – это область нашего целеполагания, область планирования нашей познавательной деятельности. Строго говоря, - это явная или неявная традиция, использующая уже накопленные знания в функции образцов» (Там же). Совершенно иначе обстоит дело с неведением. Область неведения нельзя зафиксировать вопросами, опирающимися на те или иные научные положения. Она находится за пределами существующего уровня развития науки и определяемого этим уровнем возможного горизонта научной деятельности. К этому случаю относится, например, открытие сумчатых в Австралии, которое никак не предопределялось уровнем развития биологии того времени. Оно было безотносительно к любым из положений биологической науки, к её понятийному аппарату. Но как можно ввести в математику понятие, не имеющее отношения ни к каким другим её понятиям? Чтобы иметь математическое содержание, это понятие должно быть референциально связано с миром математических объектов, с математической традицией. И тем не менее в математике, совершая неожиданные для себя открытия, ученые тоже сталкиваются с областью неведения, а не только с областью незнания. В свою очередь область неведения как-то опосредованно связана с имеющимися традициями. Рассмотрим, как описывает открытие неевклидовой геометрии как работу в рамках неведения М.Ю. Веркутис (Веркутис 2007). Известный отечественный философ и методолог науки Б.С. Грязнов для обозначения неожиданных открытий применял греческое понятие – поризм (Грязнов 1982 С.114 - 115). Так в античной науке называли утверждение, которое получалось как непредвиденное следствие, как промежуточный результат. Грязнов приводит пример из математики, а именно – пример отрицательных и комплексных чисел, которые получаются в системе математического знания, как он пишет, чисто логическим путём, но открыты были как промежуточные результаты решения некоторого класса математических задач. О типичности для математики таких открытий, по существу, писал американский историк науки М. Кроу, когда формулировал свои десять “законов” развития математики. Его первый “закон” гласил: новые математические понятия часто возникают вопреки намерениям их творцов (6, p.162). Действительно, хотя в математике и осуществляется всё целенаправленно, в рамках конкретных программ, но не всегда именно то, на что эти программы направлены. Реализация программы представляющий вполне самостоятельный может натолкнуться интерес. на Классический побочный пример результат, этого – так впечатлившее древних греков открытие иррациональных величин. Сознательный поиск иррациональных величин был для греков психологически невозможен. Особенно это касается пифагорейской математики с её культом числа, числовых отношений. Но на иррациональности, реализуя не относящиеся напрямую к этому программы, натолкнулись именно пифагорейцы1. Отыграв назад, однако, мы, пожалуй, смогли бы сформулировать “за греков” не выходящую за рамки их науки программу поиска отрезков геометрических фигур, невыразимых рациональными отношениями. В математическом материале, с которым имели дело древние греки, имелись все предпосылки для формулировки программы такого поиска. Не было лишь соответствующей установки сознания. Но, чтобы сформулировать программу поиска сумчатых, мы не смогли бы отыграть назад ни к каким идеям биологической науки. Основная идея статьи – в случае с открытием неевклидовой геометрии Бойяи и Лобачевским мы имеем дело со сферой неведения, а средство проникновения в эту сферу в данном случае – рефлексивная симметрия (Степин. Горохов, Розов 1995 С. 165 - 171). М.А. Розов отмечает, что невозможен целенаправленный поиск неведомых явлений; неведение открывается только побочным образом. На вопрос – что должен делать ученый для обнаружения новых видов животных или каких-то новых, неведомых явлений – М.А. Розов отвечает – продолжать делать то, что он делал и до этого, т.е. работать в рамках уже существующих программ. Именно это последнее и происходит, как мы увидим Открытие иррациональности 2 традиция приписывает пифагорейскому математику первой половины V века до н.э. Гиппасу. Существует несколько реконструкций первоначального доказательства иррациональности. Так, К. фон Фриц полагал, что Гиппас открыл иррациональности при построении додекаэдра (см.[14], с.82). Достаточно убедительной является концепция венгерского историка математики А.Сабо (см.[15]), в которой показывается, что подходы к открытию несоизмеримостей были намечены в процессе решения одной из проблем музыкальной теории пропорций. 1 дальше, в случае открытия неевклидовой геометрии – Лобачевский (и Бойяи) сначала решал традиционную для геометрии задачу – доказательство пятого постулата Евклида. Однако затем он понял, что решил совсем другую задачу – обнаружил “новый мир” геометрию, совсем непохожую на евклидову. Интрига здесь заключается в том, что и Лобачевский, и Бойяи включились в решение давно поставленной задачи, и шли при этом тем же самым путем, каким шли и их предшественники. Вопрос состоит в том, что же привело их к открытию нового мира? Чего не сделали их предшественники, многие из которых реально доказали ряд теорем новой геометрии, но не считаются (и справедливо) ее творцами? Рассмотрим детально, насколько это возможно, что позволило Лобачевскому и Бойяи прийти к созданию гиперболической геометрии. Наиболее доступным для анализа является, конечно, творчество Николая Ивановича Лобачевского. Но начинать такое исследование надо с теории параллельных линий Евклида. Предыстория неевклидовой геометрии широко известна. Мы изложим её кратко, опираясь, главным образом, на работы В.Ф. Кагана (Каган 1963; Каган 1949). Теория параллельных линий Евклида основывается, во-первых, на определении параллельных линий и, во-вторых, на особом постулате. Первой книге “Начал” предпосланы двадцать три определения, относящихся к первичным, по мнению Евклида, математическим понятиям. Евклид даёт определение точке, линии, прямой, поверхности, плоскости и т.д. Наконец он доходит до последнего двадцать третьего определения, согласно которому две прямые, расположенные в одной плоскости и никогда между собой не встречающиеся, называются параллельными. В 27 и 28 предложениях первой книги Евклид даёт доказательство некоторых достаточных условий, при которых две прямые были бы параллельны. В частности, из этих предложений вытекает, что две прямые, перпендикулярные одной и той же третьей прямой, никогда не встретятся, как бы далеко мы их не продолжили. Отсюда легко видеть, что если мы из некоторой точки опустим перпендикуляр к прямой, а также проведём через неё же другую прямую, под прямым углом к этому перпендикуляру, то две эти прямые будут параллельны. Поэтому через точку, лежащую вне прямой всегда можно провести прямую параллельную данной (предложение 31). Но будет ли такая прямая единственной? Утверждение её единственности является одной из эквивалентных формулировок пятого постулата Евклида. Смысл этого постулата заключается в отрицании существования прямой линии, параллельной данной и вместе с тем, находящейся не под прямым, а под тупым или острым углом к соответствующему перпендикуляру. В первой книге начал Евклидом устанавливается четыре аксиомы и пять постулатов. Аксиомы Евклид называет “общими достояниями ума”. Это истины, которые признаются всяким человеком, которыми неизбежно руководствуются не только в научном, но и в любом другом рассуждении (к примеру, вторая евклидова аксиома утверждает, что если к равным прибавить равные, то получатся равные). Напротив, постулаты – это положения специальной дисциплины, которые не обязательно должны восприниматься безоговорочно, но которые нужно всё равно принять, подчиняясь внешнему авторитету, чтобы уже дальнейшие рассуждения не вызывали никаких возражений (7, с.43). Так, своим первым постулатом Евклид требует признания того, что от точки к точке всегда можно провести прямую линию. Столь же просто формулируются и воспринимаются следующие три постулата Евклида. Резко контрастирует с ними лишь последний, пятый постулат. Он не так прост в восприятии, довольно тяжеловесно выражен и, самое главное, многим не казался настолько очевидным, чтобы его принятие без доказательства было оправдано. Приводим его дословную формулировку: всякий раз, как прямая, пересекая две прямые, образует с ними внутренние односторонние углы, составляющие (вместе) меньше двух прямых, эти прямые при неограниченном продолжении пересекаются с той стороны, с которой эти углы составляют меньше двух прямых. Евклидом строго доказываются гораздо более простые предложения. Особая роль пятого постулата заключалась не только в его относительной сложности и неочевидности, но и в том, какое место он занимал в общей системе евклидовой геометрии. Тогда как первые четыре постулата Евклид начинает применять практически с первых предложений своей геометрии, то необходимость в постулате о параллельных возникает у него довольно поздно, лишь при доказательстве 29-го предложения первой книги. Таким образом, первая книга евклидовых “Начал” распадается на две части: первые 28 её предложений не зависят от постулата о параллельных, последующие же предложения (29-48) либо доказываются непосредственно при помощи пятого постулата, либо при помощи тех положений, которые были доказаны с использованием этого постулата раньше. Более того, таким образом можно разбить на две части весь геометрический материал “Начал”. Значительная часть его совершенно не зависит от постулата о параллельных. Совокупность относящихся сюда предложений принято называть абсолютной геометрией. Но большая часть предложений геометрии на этот постулат опирается. Их совокупность принято называть собственно евклидовой геометрией. Поэтому строгое доказательство постулата о параллельных, сведение его к другим постулатам и аксиомам позволило бы резко повысить “доказательную силу” всей геометрической системы Евклида. Теория параллельных была в центре внимания греческих геометров ещё до Евклида. Рассуждения о параллельных линиях можно найти уже в “Аналитике” Аристотеля. Но так как попытки безупречного обоснования этой теории успеха не имели, Евклид, как пишет об этом В.Ф. Каган (Каган 1963, С.111 - 112), разрубил гордиев узел, связанный с пятым постулатом, и принял содержащееся в этом постулате утверждение без доказательства. Но многочисленные комментаторы евклидовых “Начал” очень рано возродили попытки доказать постулат о параллельных линиях. Попытки доказательства пятого постулата не прекращались со времён античности вплоть до первой четверти 19-го века. Выдающиеся геометры и простые любители геометрии сломали на этом поприще немало копий. Но общий результат был плачевен. Чаще всего попытки доказать постулат страдали одним очень серьёзным недостатком: явно или неявно они опирались на допущения, эквивалентные доказываемому постулату. В подобную ошибку, к примеру, впадали в античности - неоплатоник Прокл, в средние века - азербайджанский математик Насир-Эддин, в новое время - знаменитый французский геометр Лежандр. Наибольший интерес, с точки зрения предыстории неевклидовой геометрии, представляют попытки доказательства пятого постулата, предпринятые в первой половине 18-го столетия иезуитом Саккери в Италии, а во второй половине того же столетия - философом и математиком Ламбертом в Германии. Геометрия Лобачевского—Бойяи или гиперболическая геометрия - это теоретическая система, которая образована на основе геометрии Евклида. При этом Лобачевский, как и Бойяи, принимал всю аксиоматику Евклида за исключением пятого постулата - постулата о параллельных; он также принимал те предложения евклидовой геометрии, в доказательстве которых не было необходимости использовать этот постулат, т.е. всю абсолютную геометрию. Если мы хотим, исходя из этих условий, построить новую геометрическую систему, то первое, что необходимо - это выяснить логические следствия отказа от постулата о параллельных. Известно, что одной из эквивалентных формулировок постулата о параллельных является утверждение о том, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым (гипотеза прямого угла). После отказа от постулата остаются две возможности - сумма углов в треугольнике больше двух прямых (гипотеза тупого угла) и сумма углов в треугольнике меньше двух прямых (гипотеза острого угла). Гипотеза тупого угла была легко опровергнута уже до Лобачевского. Значит, ему было необходимо принять гипотезу острого угла. Что он и сделал. Но это логическая реконструкция первых шагов создания неевклидовой геометрии. Она предполагает вполне определённое намерение построить новую геометрическую систему. Фактически же эти шаги впервые были предприняты совсем с другой целью, не с целью составить конкуренцию Евклиду, а наоборот, с целью более строгого обоснования его геометрической системы. Начиная с Саккери и Ламберта, основным способом, которым пытались освободить геометрию от постулата о параллельных, было доказательство от противного: исходили из допущения, противоположного постулату (а именно - из гипотезы острого угла) и стремились прийти к противоречию с уже установленными предложениями, тем самым доказывая постулат. Но ни историки математики, ни специалисты по философии математики не исследовали, что именно привело Лобачевского и Бойяи к открытию нового мира. Так, известный специалист в области философии математики А.Г. Барабашев пишет: "В литературе по философским проблемам математики, затрагивающей вопрос создания неевклидовой гиперболической геометрии (геометрии Лобачевского), глубоко укоренилась точка зрения о том, что эта геометрическая конструкция возникла в результате … простого удлинения доказательных рассуждений, строящихся с заменой постулата о единственности параллельных на постулат о множественности параллельных (т.е. на гипотезу острого угла - М.В.). Такие рассуждения имели своей целью доказать справедливость постулата о единственности параллельных от противного: показать, что обратное утверждение ложно, ибо приводит к противоречию. Подобные доказательства начали строить ещё комментаторы Евклида; рассуждения усложнялись, становились всё более хитроумными, и, наконец, Лобачевский, Бойяи и Гаусс поняли, что диковинная конструкция внутренне непротиворечива (Барабашев 1983 С..77 - 78). Итак, в этих словах А.Г. Барабашева зафиксировано широко распространенное объяснение появления новой геометрической системы - она возникла в результате "простого удлинения доказательных рассуждений" от противного! Покажем, что дело не в “простом удлинении” рассуждений, а в ином их осознании – таком, которое не было осуществлено предшественниками Лобачевского – Саккери, Ламбертом и другими, доказавшими много теорем неевклидовой геометрии, но не ставшими, тем не менее, ее творцами. Для этого обратимся к некоторым представлениям гносеологической концепции М.А. Розова, в частности к его анализу механизмов научных новаций. В качестве таких механизмов им были рассмотрены рефлексивно-симметричные преобразования. Эти преобразования тесно связаны с явлением рефлексивной симметрии, которое подробно разбирается во многих его работах (см., например, Степин, Горохов, Розов 1995). При определении рефлексии М.А. Розов идет по пути задания ее функций в рамках научного знания, т.е. говорит о рефлексирующих системах. Это такие системы, которые могут оценивать собственное состояние и, на основе этого инициировать его изменение. Так, рефлектирующей системой является человек, когда своим вниманием он запускает механизмы изменения содержания собственного мышления, изменяя тем самым состояние своего сознания. Изменения состояний могут как отражаться, так и не отражаться на поведении системы. Нас будет интересовать главным образом тот случай, когда рефлексия ведёт к изменению поведения человека, изменению характера его деятельности. У мыслящих субъектов надо строго различать действия и деятельность. Деятельность - это действия с фиксированной целью. Поэтому деятельность есть продукт рефлексии. Ведь рефлексия подразумевает оценку ситуации (в той мере, в какой эта ситуация отражается в мышлении) и, как следствие, может вызывать целенаправленное изменение поведения. При этом одни и те же действия могут означать разную деятельность. Рассмотрим пример, проанализированный М.А. Розовым. Допустим, человек подходит к окну и опускает шторы. Может быть, он хочет, чтобы яркое солнце не слепило ему глаза; может быть, его волнует то, что он виден из улицы или из окон соседнего дома; может быть, он боится, что в комнате скоро станет слишком жарко и т.п. Осознавая свои действия различным образом, он осуществляет всякий раз иную деятельность. Сами действия остаются инвариантом. Связанные же с ними виды деятельности М.А. Розов называет попарно симметричными (там же). При этом он исходит из следующих представлений. Используя понятие рефлексии в его узком значении, связанном только с целеполаганием, М.А. Розов предлагает называть рефлексивными такие преобразования одной деятельности в другую, которые инициируются различными осознаниями наших целевых установок (или, другими словами, сменой нашей рефлексивной позиции). Если в результате таких преобразований ничего не меняется, кроме самой целевой установки (рефлексивной позиции), то М.А. Розов называет их рефлексивно-симметричными. Поэтому рефлексивно-симметричными будут называться и такие два акта деятельности, которые отличаются друг от друга только осознанием результата и взаимно друг в друга преобразуются путём изменения нашей рефлексивной позиции. Какое всё это имеет отношение к математике? Покажем, что самое прямое. Действительно, жизнь бодрствующего – это всегда направленность на что-то, как на цель или средство, на важное или не важное, на интересное или безразличное и т.д. Не являются, конечно, исключением и математики. Так же как и другим людям, им свойственна не только та или иная интенциональная направленность на различные виды деятельности, но и способность переключаться с одной деятельности на другую. Какой же должен быть характер этих “переключений”, чтобы можно было обеспечить своеобразные эстафеты от одних математических теорий к другим? Предположим, что, осуществляя некоторые действия, мы рассматриваем результат “А” как основной, а результат “Б” как побочный. Смена рефлексивной позиции может заключаться в том, что “А” и “Б” меняются местами, т.е. “Б” становится основным продуктом, ради которого осуществляются действия, а “А” переходит в разряд побочных результатов (9, с. 225). Если теперь примем, что “Б” – группа Галуа, а “А” –уравнения выше пятой степени, то смена рефлексивной позиции будет тождественна смене референции знания. Здесь мы имеем дело с рефлексивной симметрией: действительно, деятельность Галуа можно описать двумя попарно симметричными способами: как решение проблемы разрешимости алгебраических уравнений в радикалах (введение понятия “группы” в этом случае – побочный результат) и как введение им в математику понятия группы (а вопрос о разрешимости уравнений в радикалах – уходит в тень). Фактически изменение рефлексивной позиции было осуществлено не Галуа, жизнь которого оказалась очень коротка, а другими математиками 19 века. Но нам важен сам гносеологический механизм, способный привести к изменению направленности математической деятельности. А этим механизмом здесь является рефлексивно-симметричное преобразование. С помощью этих преобразований оказываются возможными переключения с одной математической деятельности на другую, позволяющие сохранять, через общие им понятия, преемственность между старыми и новыми математическими программами. О механизмах можно говорить, поскольку переходы от одной математической теории к другой не связаны с субъективным произволом. Так как эти переходы не носят логического характера, то, видимо, оправданно говорить здесь о гносеологических механизмах развития математики. Остаётся вопрос, что запускает такие механизмы? Какие причины могут привести к столь резкой смене направленности математической деятельности? 3. В деятельности Лобачевского мы встречаем рефлексивно-симметричное преобразование в самом чистом виде. Выполняя работу по опровержению гипотезы острого угла, учёные в то же время незаметно для себя открывали новую математическую теорию. Поставленная цель (опровергнуть гипотезу острого угла) оказалась недостижимой, но полученные при попытке её достижения результаты оказались значимыми в совершенно ином контексте – Лобачевский (а также Бойяи и Гаусс) открыли принципиально новую геометрию, существование которой невозможно было предположить в рамках традиционных математических программ. И Гаусс, и Лобачевский, и Бойяи начинали свои исследования с попыток опровержения гипотезы острого угла. Но, как мы постараемся показать, мнение о том, что для открытия новой геометрии им понадобилось лишь “удлинить доказательные рассуждения” от противного и осознать значение “диковинной конструкции” - слишком упрощенно. Многие теоремы, полученные в результате простых рассуждений от противного, вошли в состав геометрии Лобачевского-Бойяи, но они не были тем центром, вокруг которого она кристаллизировалась. Саккери и Ламберт, которые, как мы упоминали выше, впервые дали развёрнутые попытки доказательства постулата о параллельных с помощью опровержения гипотезы острого угла, не смогли осуществить рефлексивно-симметричные преобразования своей деятельности в сторону создания новой математической теории не только в силу каких-либо субъективных причин, но и по вполне объективным обстоятельствам. Новая теория вовсе не “вывелась” внутри старой, как птенец из яйца, в результате рассуждений от противного, а лишь использовала эти рассуждения, как строительный материал для построения своего здания. Саккери и Ламберт заблудились, идя по дорожке этих рассуждений. Чтобы мог сработать механизм рефлексивной симметрии, необходимо было не просто механически удлинять цепочки выводов, а натолкнуться на вполне определённые результаты, оставшиеся для них неизвестными. Рассмотрим это более подробно. Итальянский математик иезуит Саккери издал в 1733 году замечательную работу "Евклид, очищенный от всех пятен; опыт установления самых первых начал всей геометрии". Она пользовалась определённым успехом у современников, но ко времени Лобачевского была практически забыта. Вопрос о постулате о параллельных занимал в этой книге одно из центральных мест. Саккери первым в истории математики приходит к мысли, что для доказательства постулата о параллельных достаточно опровергнуть гипотезу острого угла. Этой гипотезе он посвящает обширное исследование, занимающее более 80 страниц. После ряда подготовительных рассуждений, которые Саккери проводит с безупречной строгостью, он показывает, что при гипотезе острого угла две непересекающиеся прямые, расположенные в одной плоскости, либо имеют общий перпендикуляр, от которого они расходятся, бесконечно удаляясь друг от друга в обе стороны, либо бесконечно удаляются друг от друга в одну сторону и неограниченно сближаются в другую. Саккери пришёл к тем геометрическим образам, с которых, столетие спустя, начнёт развёртывать свою геометрическую систему Лобачевский (как известно, Лобачевский не был знаком с работами Саккери). Но поглощённый своей задачей опровержения гипотезы острого угла, Саккери, теоремой XXXI, внезапно обрывает “тонкую нить безупречных рассуждений”, делая из полученных положений вывод о противоречивости такой геометрической конструкции. Саккери допускает элементарную ошибку, связанную с некорректными утверждениями о бесконечно удалённой точке. Очевидно, чувствуя слабость этих утверждений, он пытается дать ещё одно опровержение гипотезы острого угла, но снова впадает в ошибку, на этот раз связанную с весьма характерной для 18 века неточностью применения метода бесконечно- малых (более подробный анализ ошибок Саккери можно найти в статье С.А. Яновской (Яновская 1950 С. 59 - 64). Заканчивая свои рассуждения, итальянский математик не смог скрыть своего удивления по поводу тех усилий, которые ему пришлось предпринять, прежде чем, как ему казалось, опровергнуть рассматриваемую гипотезу. Если гипотеза тупого угла опровергалась довольно просто ("при гипотезе тупого угла дело ясно, как свет божий"), то опровергнуть гипотезу острого угла удаётся только с помощью длинной цепи тончайших рассуждений. Итак, Саккери выводит из сделанного допущения около 40 теорем, из которых два приводят к кажущемуся противоречию с предыдущими предложениями. Оставшиеся же теоремы, по существу, являются утверждениями геометрии Лобачевского - Бойяи. И, тем не менее, никто из исследователей работ Саккери и не пытается говорить, что итальянский математик, пусть сам того и не сознавая, открыл новую геометрическую систему. В лучшем случае речь идёт о предвосхищении начал неевклидовой геометрии. Заключается ли дело здесь лишь в том, что Саккери запутался и не продолжил цепочку выводов? Анализ исследований И.Г. Ламберта, шедшего по стопам Саккери, заставляет в этом сильно сомневаться. Немецкий философ и математик И.Г. Ламберт в середине шестидесятых годов 18 века занимался Евклидом и заинтересовался теорией параллельных линий. Уже после его смерти, в литературном архиве Ламберта была найдена посвящённая этому вопросу статья. Она никогда им не публиковалась, т.к. те результаты, к которым немецкий философ в ней пришёл, видимо, не могли его удовлетворить (7, с. 148). Ламберт в своей работе так же очень подробно останавливается на гипотезе острого угла. При этой гипотезе сумма углов в треугольнике меньше двух прямых. Разница между двумя прямыми углами и суммой углов в треугольнике называется дефектом треугольника. Ламберт показывает, что величина дефекта треугольника пропорциональна его площади. А отсюда прямо вытекает, что существует треугольник с предельной, самой большой площадью, т.е. площадь треугольника не может быть сколь угодно велика. Более того, из этого следует, что должна существовать абсолютная единица длины, определяемая чисто геометрически, без помощи эталона. Её можно было бы определить, например, с помощью высоты предельного равнобедренного треугольника, которая больше высоты всякого другого равнобедренного треугольника. Подобия и пропорциональности фигур тогда не существовало бы вовсе. Ни одна фигура не могла бы быть представлена иначе, как в абсолютной своей величине. Указывая ряд абсурдных утверждений, к которым приводит гипотеза острого угла, Ламберт сохраняет достаточную ясность мышления, чтобы заметить, что все они не дают логического доказательства, не вступают в противоречие ни сами с собой, ни с какими-либо предложениями абсолютной геометрии. Его поражает стройность выводов, но он не может понять её причины. Перед Ламбертом предстало богатство, с которым он не знал, что делать и поэтому был вынужден прервать свои исследования. Ламберт не впал в заблуждение по поводу полученных результатов, подобно Саккери, но не смог и продвинуться дальше. Он останавливается примерно на том же рубеже, что и Саккери. "Простое удлинение доказательных рассуждений" завело его в тот же тупик, что и итальянского математика. Им обоим чего-то не хватало для продвижения вперёд. Разумеется, они оба не сознавали действительного смысла своих действий по выводу следствий из гипотезы острого угла, не осуществляли над своей деятельностью никаких рефлексивно-симметричных преобразований (как пишет В.Ф. Каган, - "авторы были беспомощны перед полученными ими результатами"(2, с. 254)), но даже и те учёные, которые такие преобразования осуществляли, не обязательно продвигались много дальше. Речь здесь идёт в первую очередь о корреспонденте Гаусса Фердинанде Швейкарте. Правовед по образованию, Швейкарт на досуге охотно занимался математикой. Идя по пути Саккери и Ламберта, по пути планомерного вывода всех следствий из гипотезы острого угла, Швейкарт также пришёл к исходным положениям гиперболической геометрии. Но в отличие от них, он, как это видно из его заметки, предназначенной для Гаусса, прямо признавал и существование иной, неевклидовой геометрии. По Швейкарту, существует двоякая геометрия: геометрия в узком смысле слова и звёздная (астральная). Треугольники последней геометрии имеют ту особенность, что сумма трёх их углов не равна двум прямым. Далее он упоминает примерно те же положения астральной геометрии, что мы находим и у Ламберта. Швейкарт осознал, что он имеет дело с новой геометрической системой, но это вовсе не помогло ему продвинуться сколько-нибудь существенно дальше Саккери и Ламберта. Швейкарт сообщил о своих исследованиях своему племяннику Тауринусу, молодому математику. Тауринус так же не смог ничего сделать для развития астральной геометрии. Свои усилия он направил на опровержение гипотезы острого угла, получив при этом некоторые новые результаты, впрочем, непринципиального характера. Поэтому Тауринус может быть поставлен в один ряд с Саккери и Ламбертом. Лишь "на берегах Волги и в глуши Венгрии в двадцатых годах XIX столетия получил новое и неожиданное решение вопрос, который более чем за 2000 лет перед этим был поставлен учёными Афин и Александрии" (Васильев 1992 С. 124). Что же позволило Лобачевскому и Бойяи пройти до конца по тому пути, по которому шли, хотели они того или не хотели, Саккери, Ламберт, Швейкарт и Тауринус? 4. Даже такой выдающийся знаток творчества Лобачевского, как В.Ф. Каган, описывает создание русским математиком неевклидовой геометрии в выражениях, не слишком отличающихся, по сути, от стандартной точки зрения, прозвучавшей в словах А.Г. Барабашева в приведённой выше цитате. Так, В.Ф. Каган пишет: "Гений Лобачевского сказался в том, что он не поддался … предубеждению; напротив, смело развивая следствия, вытекающие из отрицания пятого постулата, он создал новую геометрическую систему … Он имел решимость отказаться от связующей силы сложившихся геометрических представлений …" (Каган 1949 С. 152). Но откуда смелость и решимость при движении в никуда? Откуда воля продолжать движение? Несомненно, в самом начале работы над проблемой постулата о параллельных перед Лобачевским предстали те же разрозненные диковинные результаты, которые мы находим, например, в сочинении Ламберта. Значит, был какой-то момент, когда эти странные результаты оказались осознаны им как часть единого целого, новой теоретической системы. При этом речь не может идти о некотором случайном осознании, как это, скорее всего, было в случае Швейкарта. Лобачевский увидел реальные контуры новой геометрии, новой целостности. Возможно, здесь уместно применить представление о переключении гештальта, которое Т. Кун использовал в своей трактовке научных революций. Психологи пользовались представлением о переключении гештальта, главным образом, в опытах, связанных с изменением зрительного восприятия. Томас Кун пришёл к выводу, что нечто, подобное этим переключениям, происходит в сознании учёных после научных революций. Их восприятие научной картины мира изменяется так, что одна целостность сменяется другой (Кун, 1977 С. 151 - 180). Сдвиг восприятия, сдвиг научного видения возникает в результате научных открытий. Но и сами эти открытия нередко требуют такого сдвига. Так, Аристотель и Галилей рассматривали одни и те же факты, но под разным углом зрения. То же самое можно сказать и о Саккери и Лобачевском. Что изменило точку зрения Лобачевского и позволило ему продолжить движение в столь необычном направлении? На пути Лобачевского к его замечательному открытию можно выделить несколько этапов. Начало серьёзных размышлений русского математика, относящихся к основаниям геометрии, по-видимому, почти совпадает с началом его педагогической деятельности. До нас дошли записи лекций по элементарной геометрии, читанные Лобачевским студентам Казанского университета с 1815 по 1817 год (так называемые "Записки Темникова"). Каждый год при изложении своего курса, Лобачевский давал различные способы обоснования теории параллельных линий. В то время интерес к теории параллельных был особенно высок. Это было связано, главным образом, с выходящими тогда неоднократными переизданиями знаменитого учебника геометрии Лежандра. В этих переизданиях Лежандр предпринял многочисленные попытки дать доказательство пятого постулата Евклида. Но, в конце концов, они оказывались недостаточными. Неудивительно, что Лобачевский тоже попытался испробовать свои силы на этом поприще. В курсе 1815 года Лобачевский дал оригинальное, в духе Лежандра, доказательство постулата о параллельных. Но уже к следующему году он в нём разочаровался и попробовал изложить теорию параллельных с помощью переосмысления самого понятия параллельности. При этом он исходил из понятия о направлении, как основном, и пытался определить параллельные линии, как простирающиеся в одном направлении. Но и это его не удовлетворило, и в 1817 году он дал ещё одно доказательство, основанное, на этот раз, на рассмотрении бесконечных частей плоскости. Таким образом, Лобачевский постепенно разочаровался не только в своих попытках доказательства постулата о параллельных, но и, видимо, в попытках его доказательства вообще. К этому надо прибавить ещё одно немаловажное обстоятельство: Лобачевский не только занимался обоснованием теории параллельных, но он стал размышлять и об основаниях геометрии в целом. В тех же тетрадях лекций по геометрии, в которых мы встречаем различные попытки доказательства пятого постулата Евклида, мы находим и различные попытки обоснования геометрии (Васильев 1992 С. 134 - 136). Лобачевский пытался дать себе отчёт в тех первичных понятиях, из которых исходит геометрия. Так, в одной из тетрадей геометрия определяется как наука о пространстве: "геометрическое тело есть часть полного пространства, простирающаяся во все стороны, но вместе с тем ограниченная". Поверхность есть граница тела, граница поверхности есть линия, граница линии - точка. Далее Лобачевский делает попытку определить свойства пространства. В другой тетради он уже избегает слова "пространство", но вводит вместо него понятие "протяжение". Именно протяжения, по мнению Лобачевского, составляют предмет геометрии. Соответственно, протяжение одного измерения называется в геометрии линией, а протяжение двух измерений - поверхностью. Связь же между протяжениями различных измерений устанавливается движением. Линия происходит от движения точки, поверхность - от движения линии, а тело - от движения поверхности. Наконец, в третьей тетради Лобачевский вместо понятия "протяжение" вводит, как основное, понятие "прикосновение тел". Через прикосновение двух тел Лобачевский определяет поверхность, линию, точку. И такой подход к основаниям геометрии оказался у Лобачевского окончательным. Его он проводит во всех своих зрелых работах. Этот подход наиболее соответствует тем гносеологическим установкам, которых Лобачевский придерживался в отношении геометрии. Для него геометрия - опытная наука. И он стремится рассматривать её как учёный-эмпирик. Основными понятиями геометрии не могут быть ни пространство, ни протяжение, ни поверхность, ни линия и т.п., потому что они существуют только в воображении. Ясное же понятие, по мнению Лобачевского, может быть соединено только с теми словами, которым можно указать прямые референты в реальном мире. Поэтому в предисловии к "Новым началам геометрии…" (12) он формулирует следующую точку зрения: "В природе нет ни прямых, ни кривых линий, нет плоскостей и кривых поверхностей, в ней находим одни тела, так что всё прочее создано нашим воображением, существует только в теории". Лобачевский считает, что с помощью чувств мы познаём в природе одни только тела. Это факт, от которого нельзя отвернуться, и поэтому он предлагает считать основным объектом геометрии тело, а основными отношениями между телами - их прикосновение. Все остальные понятия должны быть определены через эти основные. Таким образом, главным злом в основаниях геометрии Лобачевский, в конце концов, стал считать "темноту", "отвлечённость" начальных геометрических абстракций и направил свои усилия на то, чтобы возвратиться от них к тем понятиям, которые "непосредственно соединены с представлениями тел в нашем уме, к которым наше воображение приучено, которые можно поверять в природе прямо, не прибегая наперёд к другим, искусственным и посторонним" (Яновская 1950). Возвратимся теперь к постулату о параллельных. Вдумываясь всё более и более в начальные понятия геометрии, Лобачевский начал, по-видимому, отчётливо сознавать, что неудачи в доказательстве пятого постулата не случайны. Он пришёл к выводу, что в самих понятиях, с которыми имеет дело геометрия, ещё не заключается той истины, которую хотим доказать (Яновская 1950 С. 147). Поэтому Лобачевский начинает “Пангеометрию” следующими словами: “Понятия, на которых основывают начала геометрии, недостаточны, чтоб отсюда вывести доказательство теоремы: сумма трёх углов прямолинейного треугольника равна двум прямым ... Недостаточность начальных понятий для доказательства приведённой теоремы принудила геометров допускать вспомогательные положения, которые как ни просты кажутся, тем не менее произвольны и, следовательно, допущены быть не могут” (Лобачевский 1946 С. 137). Итак, постулат Евклида не обоснован ни логически, ни эмпирически! Возможно, что опыты Лобачевского по тотальному эмпирическому обоснованию геометрии были реакцией русского математика на то странное обстоятельство, что все попытки строго логического доказательства постулата о параллельных терпели неизбежный крах. Но положительного результата, в этом отношении, не дали и они. Постепенно Лобачевский понял ограниченность эмпирического метода в геометрии. Поскольку геометрические свойства пространства зависят от физических свойств тел и могут, следовательно, меняться с изменением этих физических свойств, то ничего не стоит, как стал считать русский математик, и аргументация к тому, что следствия из евклидовой теории параллельных совпадают с результатами самых точных измерений. Ведь “за пределами видимого мира, либо в тесной сфере молекулярных притяжений” (12) может быть действительной совсем иная геометрия. Поэтому по-прежнему оставались две возможности – гипотеза прямого и гипотеза острого угла. Хотя, может быть, Лобачевский и более, чем кто-либо, ясно сознавал, что они обе произвольны и необоснованны. Пойти дальше Саккери и Ламберта гениальный русский математик смог лишь после одного неожиданного открытия. Впервые новая теория параллельных была публично изложена Лобачевским 11 февраля 1826 года в докладе, прочитанном на заседании физико-математического отделения Казанского университета. Текст доклада до нас не дошёл, но известно, что все его основные идеи вошли в первое сочинение Лобачевского по геометрии, напечатанное при его жизни - “О началах геометрии” (1830). В этой работе, как Саккери и Ламберт, Лобачевский рассматривает следствия гипотезы острого угла. Но в основном лишь постольку, поскольку это необходимо ему для обоснования удивительного открытия: геометрия, возникающая при принятии гипотезы острого угла, заключает в себя собственно евклидову геометрию как частный случай! “Другое предположение и одно, которое до сих пор допускали Геометры, - пишет Лобачевский, - заключается также в этом общем (гипотезе острого угла – М.В.), с тем ограничением, что линии должно рассматривать бесконечно малыми ...” (Лобачевский 1956 С. 199). Поэтому геометрия Евклида является предельным случаем новой геометрической системы. Итак, работа в рамках обоснования евклидовой геометрии привела к результату, который прямо показывает на то, что мы вышли за рамки этой геометрии. Мы работаем уже в какой-то иной математической программе. Таким образом, существовала некоторая поворотная точка, после которой стало абсолютно ясно, что, развивая гипотезу острого, угла мы имеем дело уже не со странными разрозненными фактами, а с фрагментами иной геометрии. После этого почти с необходимостью должно было произойти, говоря языком психологии, переключение гештальта. Должен был сработать механизм рефлексивносимметричных преобразований. Для того, чтобы рассмотреть этот вопрос подробнее, обратимся ещё к одной работе Лобачевского. Речь идёт о небольшой работе “Геометрические исследования по теории параллельных линий” (1840). В ней в наиболее ясной и логически совершенной форме гениальным русским математиком были изложены идеи новой геометрии. По выражению В.Ф. Кагана, она является “одним из наиболее блестящих перлов математической литературы” (Каган 1949 С. 277). Именно по ней Гаусс, а вслед за ним и другие западные математики познакомились с творчеством Лобачевского. По содержанию “Геометрические исследования ...” можно разбить на три основные части. В первой части (главы I-V) Лобачевский даёт перечень некоторых положений абсолютной геометрии, которые он будет в дальнейшем использовать. После этого он встаёт на точку зрения гипотезы острого угла и выводит из неё ряд следствий. Во второй части (главы VI-VIII) он после необходимых подготовительных предложений вводит понятия о предельной линии и предельной поверхности и доказывает теорему, что геометрия предельной поверхности формально совпадает с евклидовой планиметрией. Наконец, в третьей части (главы IX-XI) Лобачевский излагает неевклидову тригонометрию. Неевклидова тригонометрия завершает синтетическое развёртывание новой геометрической системы. “После этого, - пишет Лобачевский, - всё прочее в геометрии будет уже аналитикой” (Лобачевский 1956 С. 260). Таким образом, переход от первой части, развивающей новую геометрию до уровня Саккери и Ламберта, к третьей части, в которой выводятся ключевые формулы неевклидовой тригонометрии, предполагает вторую часть, в которой впервые появляются геометрические образы, которых не существует в евклидовой геометрии – предельные линии и поверхности. Именно с этими образами связано то “возрождение евклидовой планиметрии в недрах неевклидовой геометрии, к которому с различных точек зрения пришли все (курсив мой – М.В.) творцы неевклидовой геометрии” и которое “составляет наиболее важный момент в её развитии” (Каган 1963 с.405). Нам сложно по изданным геометрическим работам Лобачевского в точности судить о том, как он пришёл к открытию предельных поверхностей. А каких-либо набросков его геометрической системы, могущих осветить интересующий нас вопрос, по-видимому, не сохранилось. Зато до нас дошли многочисленные рукописные тетради Бойяи (см.Васильев 1992 С. 120 - 121). Из них видно, что ещё в 1820 году он пришел к мысли рассматривать круг с бесконечно большим радиусом и поставил теорию параллельных линий в связь с вопросом, является ли этот круг (т.е. предел, к которому стремятся круги при увеличении радиуса до бесконечности) прямой или же иной линией. Видимо он считал, что какая-то из этих альтернатив ведёт к опровержению гипотезы острого угла. Должно было пройти три года, прежде чем эта гениальная мысль позволила ему начать обработку “неевклидовой геометрии” и ещё два года для того, чтобы закончить её. Как и Бойяи, Лобачевский, по всей видимости, пришёл к идее предельной линии и предельной поверхности, пытаясь отыскать те следствия гипотезы острого угла, которые могли бы её опровергнуть. Попробуем на интуитивном уровне реконструировать возможный ход рассуждений. Возьмём некоторую совокупность параллельных прямых линий собственно евклидовой геометрии. Проведём линию, к которой все эти параллельные будут расположены под прямым углом (ортогонально). Эта линия будет называться ортогональной траекторией пучка параллельных прямых. Очевидно, что ортогональной траекторией пучка параллельных прямых в евклидовой плоскости является прямая линия. Это логическое следствие пятого постулата Евклида. Действительно, проведём прямую линию ортогонально одной из линий пучка параллельных, тогда, в силу пятого постулата, она будет ортогональна всем этим линиям. А так как к одной точке нельзя опустить два различных перпендикуляра, то прямая линия будет единственной ортогональной траекторией пучка параллельных прямых. Если П – постулат о параллельных, а А – утверждение об ортогональности прямой линии пучку параллельных прямых, то в собственно евклидовой геометрии истинна следующая формула: П > А. Но что будет ортогональной траекторией пучка параллельных прямых при принятии гипотезы острого угла (т.е. при ¬П )? В этом случае параллельные прямые неограниченно сближаются. Поэтому их можно представить, как сходящиеся в бесконечно удалённой точке. Тогда пучок таких параллельных можно рассматривать как радиусы окружности с бесконечно удалённым центром. Несомненно этот образ посещал Бойяи в 1820 году. Но обратимся снова к собственно евклидовой геометрии. Рассмотрим в ней окружность и пучок прямых линий, проходящих через её центр. Эти прямые будут ортогональны окружности. Она будет для них ортогональной траекторией. Будем теперь рассматривать окружность всё большего и большего радиуса. При радиусе окружности, стремящемся к бесконечности, любая конечная её дуга будет сколь угодно близко приближаться к соответствующему отрезку прямой линии, т.е. дуги как бы “выпрямляются”, их кривизна может быть сделана меньше любой заданной величины. В этом смысле говорят, что в евклидовой плоскости с увеличением радиуса окружность неограниченно приближается к прямой линии. Такая прямая будет называться предельной линией. Поэтому предельной линией называют и ортогональную траекторию пучка параллельных прямых неевклидовой геометрии. Но будет ли она прямой линией и здесь? Положительный ответ на этот вопрос приводит к опровержению гипотезы острого угла. Действительно, в этом случае было бы справедливо, что ¬П > А. Но из А следует П. Если пучок параллельных линий в евклидовой плоскости ортогонален некоторой прямой, то любая прямая, которая не была бы ей ортогональна, в то же время не будет параллельна ни одной линии из этого пучка. Она пересечёт его, что эквивалентно пятому постулату Евклида. Тогда получается, что ¬П > А > П. И цель многовековых усилий достигнута. Если это и был замысел Бойяи, то он потерпел крушение. Предельной линией пучка параллельных прямых в случае принятия гипотезы острого угла является не прямая линия, но некоторая кривая – орицикл, как её называет Лобачевский. Но здесь основателей неевклидовой геометрии и ждало неожиданное открытие. Если предельную линию – орицикл вращать вокруг одной из её осей, то получается своеобразная поверхность, которую Лобачевский называет предельной сферой или просто предельной поверхностью. Оказалось, что в пространстве Лобачевского предельная поверхность несёт на себе двумерную евклидову геометрию! Когда мы отказываемся от евклидовой геометрии на плоскости, она не прекращает своего существования. И хотя она не выполняется на гиперболической плоскости (плоскости пространства Лобачевского), но она переходит на другую поверхность – на предельную поверхность. Сумма углов треугольника на предельной поверхности всегда равна двум прямым. На ней будет справедливо каждое предложение евклидовой планиметрии, если под прямой разуметь предельную линию. Итак, на некотором частном фрагменте геометрии, возникающей при принятии гипотезы острого угла, справедлив пятый постулат Евклида! Отсюда и вытекает, что новая геометрическая система является более общей, по сравнению с собственно евклидовой геометрией, и включает её в себя, как частный случай. Так впервые был осуществлён радикальный выход из евклидовой программы развития геометрии. До этого тень александрийского математика неотступно висела почти над каждым творческим усилием европейских геометров. После этого стало почти неизбежным переосмысление всего геометрического материала, полученного с помощью вывода следствий из гипотезы острого угла. Стало почти неизбежным переключение гештальта и рефлексивносимметричные преобразования. Но замечательно и то, что открытие предельных поверхностей придало не только психологическую уверенность первооткрывателям новой геометрии, но и ключ к её дальнейшему развитию. Вместе с восстановлением евклидовой геометрии в неевклидовом пространстве сохраняются и все средства евклидовой планиметрии и прежде всего её тригонометрия. С древности существовал известный приём для построения тригонометрии сферы. В евклидовом пространстве мы, исходя от плоскости, надлежащей проекцией её на сферу, получаем сферическую тригонометрию. Подобным образом действует в нашем случае и Лобачевский. Проектируя “предельные треугольники” на плоскость, он приходит к тригонометрии прямолинейного треугольника в гиперболической плоскости. Именно после этого “всё прочее в геометрии стало уже аналитикой”. Располагая тригонометрией гиперболической плоскости, Лобачевский получил возможность построить в своей “воображаемой геометрии” аналитическую геометрию, дифференциальную геометрию, вести интегральные вычисления – довести созданную им геометрию до тех высот, до которых в течении трёх тысячелетий поднималась классическая геометрия Евклида (2, с. 276 - 277). Если учесть, что Гаусс в его письме отцу Иоанна Бойяи Вольфангу Бойяи от 6 марта 1832 года прямо пишет о том, что он уже давно не просто пришёл к тем же результатам, что и его сын, но и тем же самым путём (Васильев 1992 С. 121), то можно со всей ответственностью утверждать, что существовала вполне однозначная, жёсткая логика открытия гиперболической геометрии, хотя это и не была логика математического вывода. Вопросы 1. Прочитайте законы развития математики Майкла Кроу. Приведите примеры действия законов 1 -9. 2. На основании чего Кроу сформулировал 10ый закон? Согласны ли Вы с этим законом7 3. Как Мертенс описывает появление неевклидовой геометрии? Что именно он считает революционным в этом случае? 4. Как Мертенс описывает то, что происходит «в» математике? «о чем математика? Что он включает в математику, а что – нет? 5. Являются ли позиции Мертенс и Кроу относительно революций в математике несовместимыми? 6. Как трактует революцию в математике Д. Даубен? 7. Как связаны революционные работы по обоснованию математического анализа Коши с преподаванием математики, с реформой системы образования? 8. Является ли развитие математики кумулятивным процессом? Каково мнение Даубена? 9. Как Э. Грошольц описывает математические новации Лейбница? 10. Что К. Данморе включает в метауровень математики? Как она трактует революции в математике? 11. Является ли создание математического анализа революцией? Приведите аргументы за и против. 12. Э. Кении о революционных и трансформационных событиях в истории математики. 13. Составьте единую типологию взглядов на факторы изменений математики, выявленные при обсуждении понятия научной революции в математике. 1. Назовите особенности «нового мира», которым является неевклидова геометрия. 2. Что такое незнание и неведение? 3. Что Б.С. Грязнов называет поризмом? 4. Назовите 10 «законов» развития математики (Веркутис М.Ю. Формирование нового знания в математике: рефлексивные преобразования и рациональные переходы. Новосибирск, 2004. стр. 87-88) 5. Каким должна быть деятельность ученых для обнаружения новых, неведомых явлений? 6. Какую традиционную для геометрии задачу решали Лобачевский и Бойяи, когда они «натолкнулись» на новый неведомый мир неевклидовой геометрии? 7. Чего не сделали их предшественники, многие из которых реально доказали ряд теорем новой геометрии, но справедливо не считающиеся ее творцами? 8. Как устроены «Начала» Евклида? Назовите аксиомы и постулаты Евклида. Что такое абсолютная геометрия? 9. В чем специфика V постулата Евклида? Почему его стремились доказать еще в Древней Греции? 10. Что такое гипотеза острого угла? Тупого? 11. Возникла ли геометрия Лобачевского «путем простого удлинения доказательных рассуждений» от противного? 12. Как понимает рефлексию М.А. Розов? Что такое системы с рефлексией? Рефлексивно-симметричные преобразования деятельности? 13. Как можно объяснить открытие Галуа (введение понятия группы), используя представления о рефлексивной симметрии? 14. Как связаны опровержение гипотезы острого угла и построение совершенно новой геометрии, существование которой невозможно было предположить в рамках традиционных математических программ? 15. Расскажите об исследованиях Саккери, Ламберта, Швейкарта. Почему они не открыли неевклидову геометрию? 16. Что такое переключение гештальта в модели научных революций Т. Куна? 17. Как связаны научная и педагогическая деятельность Лобачевского? 18. Какую роль в открытии новой геометрии Лобачевским играл его интерес к основным понятиям геометрии? 19. Какой математический факт, установленный Лобачевским, сыграл решающую роль в осознании им того, что открыта новая геометрия? 3.4. Проявления рефлексии в математическом познании или – утратила ли математика определенность? Тезис об утрате определенности вынесен в заглавие книги М. Клайна – Математика и утрата определенности. М., Мир, 1984. Редактор перевода этой книги И.М. Яглом, высоко оценивая книгу Клайна, пишет, что книга ставит своей целью ответить на такие вопросы, как «Что такое математика? Каковы ее происхождение и история? В чем отличие математики от других наук? Чем занимаются математики сегодня и каков, по их мнению, ныне статус науки, которая составляет предмет их интересов и профессиональной деятельности?» (Клайн 1984 С. 5). Во Введении Клайн формулирует основной тезис: «Нам надлежит выяснить, почему, несмотря на шаткие основания и взаимоисключающие теории, математика оказалась столь непостижимо эффективной» (Клайн 1984 С. 17). Во Введении же Клайн рисует довольно безрадостную картину математики XIX - XX веков, которая и приводит его к тезису об утрате математикой определенности. Перечислим тезисы автора и на их базе сформулируем задачу статьи. Основной тезис статьи состоит в следующем – суждения Клайна – это суждения рефлексии. Но развитие не обязательно идет тем путем, на который нацеливает (прямо или косвенно) рефлексия, ибо в познании действует закон Страхова. Рефлексия может ошибаться и тезис о том, что математика утратила определенность обязан ошибочной картине математики. Первый тезис - математика для получения своих мощных результатов использовала особый метод – метод дедуктивных выводов из небольшого числа самоочевидных принципов, называемых аксиомами. «Очевидная, безотказная и безупречная логика дедуктивного вывода позволила математикам извлечь из аксиом многочисленные неоспоримые и неопровержимые заключения». (Клайн 1984 С. 13) Следующий тезис – «Созданные в начале XIX в. необычные геометрии и столь же необычные алгебры вынудили математиков исподволь – и крайне неохотно – осознать, что и сама математика, и математические законы в других науках не есть абсолютные истины. Например, математики с досадой обнаружили, что несколько различных геометрий одинаково хорошо согласуются с наблюдательными данными о структуре пространства. Но эти геометрии противоречили одна другой – следовательно, все они не могли быть одновременно истинными. Отсюда напрашивается вывод, что природа построена не на чисто математической основе, а если такая первооснова и существует, то созданная человеком математика не обязательно соответствует ей. Ключ к реальности был утерян». Осознание этой потери было первым из бедствий, обрушившихся на математику». (Клайн 1984 С. 13-14). К началу XX в. в математике обнаружились парадоксы. При их разрешении возникло четыре различных подхода к математике. Все четыре направления математики стремились не только разрешить известные противоречия, но и гарантировать, что в будущем не появятся новые противоречия, т.е. старались доказать непротиворечивость математики. Однако Курт Гедель показал, что «непротиворечивость математики невозможно доказать, не затрагивая самих логических принципов, замкнутость которых весьма сомнительна». (Клайн 1984 С. 15) стало ясно, пишет Клайн, что представление о том, что математика свод общепринятых, незыблемых истин, что математика - величественная наука и гордость человека – не более, чем заблуждение. (это картина, нарисованная рефлексией, она и оказалась неработающей). «Нынешнее состояние математики – не более чем жалкая пародия на математику прошлого с ее глубоко укоренившейся и широко известной репутацией безупречного идеала истинности и логического совершенства» Рухнула картина математики, нарисованная рефлексией, а не сама математика. Задача статьи – проанализировать то противоречие, о котором пишет Клайн – математика, с одной стороны, имеет шаткие основания и взаимоисключающие теории, а, с другой – математика необычайно эффективна. Причина противоречия – утверждения о шатких основаниях и взаимоисключающих теориях – это суждения рефлексии, но системы с рефлексией далеко не всегда следуют в своем развитии тому, что им предлагает рефлексия. Под системами с рефлексией М.А. Розов понимает «такие социальные образования, которые, осуществляя определенное поведение, способны это поведение описывать в виде последовательности целенаправленных действий и использовать полученные описания для дальнейшего воспроизведения этих действий» (Розов 2006-2 С. 180). Речевое общение людей, наука, производство, литература и т.п. – все это системы с рефлексией. Описания действий могут выступить как программы новой деятельности, однако, это происходит далеко не всегда, ибо осуществлять деятельность можно не только по программе (по описанию), но и по непосредственным образцам предшествующей деятельности. Более того, М.А. Розов, развивший идею систем с рефлексией, сформулировал «закон» Страхова – если программу не выполняет (реализует) тот, кто ее создал, то ее не выполняет никто. Имеется ввиду ситуация, когда описание деятельности и непосредственные образцы противоречат друг другу. Очень важно, что рефлексия фиксирует цель, ради которой осуществляется поведение. Т.е. именно рефлексия превращает поведение в деятельность, фиксируя цель. В рефлексии есть, таким образом, описательная компонента и целеполагающая. Описательная компонента всегда представлена в языковой форме, но этого нельзя сказать о целеполагании (Розов 2006-2 С. 179). Рефлексия тем не менее – это некоторая целостность и акт целеполагания играет в ее составе ведущую роль, ибо не сформулировав цель, мы не сможем описать деятельность. Наука познает мир и одновременно строит рефлексивную картину деятельности ученых. При изучении систем с рефлексией существенную роль играет вопрос о том, как соотносятся рефлексивная картина деятельности ученого и сама эта деятельность, управляет ли рефлексия деятельностью ученых, или они руководствуются чем-то другим. Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, как Розов анализирует разговор Сократа с Евфидемом из «Воспоминаний» Ксенофонта. На вопрос Сократа, куда отнести ложь, Евфидем отвечает – к делам несправедливым, туда же относит обман, воровство и т.п. На вопрос Сократа – справедлив ли грабеж неприятельского города, Евфидем отвечает – такой грабеж справедлив. Однако обманом данное больному ребенку лекарство Евфидем считает справедливым. Сократ здесь требует от Евфидема рефлексивного осознания того, что тот понимает под несправедливостью, требует осознания или вербализации образцов словоупотребления. Евфидем формулирует несколько «правил», утверждая, что несправедливым следует считать ложь, грабеж, продажу в рабство. Любая попытка уточнения или определения такого рода понятий, которые до того использовались только в рамках непосредственных эстафет словоупотребления, представляет собой типичный акт рефлексии. Но Евфидем не только рефлексирует в этом разговоре, т.е. формулирует правила, но и тут же отказывается от результатов своей рефлексии. На вопрос о том, справедливо ли обманывать врага, Евфидем должен был бы ответить, что он уже сказал, что ложь несправедлива. Однако Евфидем дает совсем другой ответ. Его заставляют дать этот ответ образцы словоупотребления, и эти образцы оказываются «сильнее» сформулированных в рефлексии правил словоупотребления (Розов 2006-2 С. 183-184). Возможны две стратегии рефлектирующих систем. Первая стратегия состоит в том, чтобы в ситуациях, когда рефлексивные предписания противоречат непосредственным образцам, отдавать предпочтения последним. Речь при этом идет не только о продуктах рефлексии в буквальном смысле слова, но и о вербальных программах вообще. Первая стратегия была реализована Евфидемом – на вопрос Сократа о том, как характеризовать обман врага, Евфидем руководствовался не правилом, которое сам сформулировал (ложь – дело несправедливое), а непосредственными образцами, когда обман врага приветствовался и считался делом справедливым. Вторая стратегия состоит в том, чтобы действовать в соответствии с рефлексией. Такая стратегия имеет место тогда, когда рефлексивные предписания заглушают непосредственные образцы. Этой стратегии следовал бы Евфидем, если бы на вопрос Сократа – можно ли обманывать врага, он бы ответил: «Сократ, я ведь уже сказал, что ложь – дело несправедливое». Рассмотрим, как проявляется рефлексия в работе Клайна. Одним из проявлений «утраты определенности» математиков Клайн считает, что математики стали поступаться строгостью рассуждений, чисто логические соображения подменялись интуитивными аргументами, заимствованными из физики, апелляциями к наглядности и ссылками на чертежи. Алогичность развития математики заключалась также в неадекватном толковании понятий, в несоблюдении всех необходимых правил логики, в неполноте и недостаточной строгости доказательств. Здесь зафиксировано явное расхождение между тем, как математики представляли себе – какими должны быть доказательства, и какими они являются в реальности. Действительно, уже в работах Архимеда используются физические аналогии, сведение геометрического чертежа к рычагам (чтобы затем перенести на геометрические отрезки соотношения, установленные для рычагов), и сам Архимед говорит здесь о «физической математике». В других работах по формированию интегрального исчисления тоже обращаются к нестрогим приемам, к понятию бесконечно малого и т.д., отбрасывают одни члены в уравнениях и не отбрасывают другие без достаточных объяснений. Однако несоответствие канону не победило в этот момент развития математики (речь идет о формировании интегрального исчисления) – действовали не по умозрительным правилам, а по образцам рассуждений тех математиков, которые получали результаты вычисления площадей и объемов криволинейных фигур. Можно объяснить это следующим образом. Сейчас мы говорим, что в работах Архимеда, Кеплера, Ферма и других математиков формировалось интегральное исчисление, тогда как они сами осознавали свою работу как вычисление площадей и объемов криволинейных фигур. При этом они использовали те приемы, которые приводили к цели, независимо от того, соответствовали ли эти приемы идеям строгости математики, или нет. В этот период математика развивалась как некое прикладное исследование, и критерием ее успешности было вовсе не соответствие идеалам того, что есть математика, а другим критериям - прагматическим – дают ли используемые приемы результат, или – нет. Математики действовали по образцам, а не в соответствии с идеалом математического знания именно потому, что нестрогие образцы давали результат, тогда как следование строгим идеалам в это время не только не способствовало решению задачи, но и даже мешало этому. Таким образом, один из ответов на много раз повторявшийся вопрос Н. Бурбаки - существует одна математика или много, таков – в разные периоды функционирования математики ученые реализуют разные ценностные установки – чистая математика, которая и стала образцом строгости, следует одним ценностным установкам, а от математики, обслуживающей потребности других наук, не требуется такой строгости. Применительно к формированию математического анализа, которому Клайн посвятил специальный раздел («Нелогичное развитие: в трясине математического анализа») следует подчеркнуть, что творцы анализа (Архимед, Кеплер, Ферма и многие другие) вовсе не создавали новое исчисление, они решали конкретные задачи на вычисление площадей и объемов криволинейных фигур и тел. До них вообще никто не создавал исчислений в математике. Лишь Ньютон и, главным образом, Лейбниц поняли, что они и их предшественники не просто нашли формулы, а создали нечто совершенно новое – исчисление как свод правил дифференцирования и интегрирования. Слова Клайна о нелогичном развитии логичнейшей из наук, об увядании истины в математике, о ее шатких основаниях – это суждения рефлексии. Однако для того, чтобы понять, почему же математика все же является непостижимо эффективной, одних суждений рефлексии недостаточно. Нужно изучать, в рамках каких программ – исследовательских и коллекторских работают математики. Рассмотрим еще один тезис Клайна, тоже фиксирующий противоречие: «почему математика вообще эффективна, если вопрос о том, что такое настоящая математика, вызывает столько споров» (Клайн 1984 С. 17). Редактор перевода, И.М. Яглом пишет, что «конструктивный» ответ на этот вопрос дается в известной книге Р.Куранта и Г. Роббинса – «математикой называется все то, о чем говорится в нашей книге» (Курант, Роббинс С. 5). При всей краткости и «странности» этого ответа в нем содержится глубокий смысл, если слегка перефразировать слова авторов – «математика есть все то, чем занимаются математики». Примерно такие же определения дают и физики своей науке. Отметим, прежде всего, что вопрос о предмете каждой науки – это вопрос о тех нормативах, в рамках которой работает каждая наука. Отвечая на вопрос о предмете, мы обычно пытаемся определить сферу изучаемых явлений, характер решаемых задач, особенности используемых методов. Иными словами, определить предмет науки – это значит сформулировать некоторое множество нормативов, которые задают границы данной научной области. Многочисленные дискуссии о проблеме предмета различных наук достаточно красноречиво показывают, что и здесь проблема предмета той или иной области знания решается отнюдь не просто, если вообще решается. Итак, определяя предмет той или иной области знания, мы должны осознавать, что стремление к максимальной строгости и точности формулировок отнюдь не способствует пониманию реального механизма функционирования науки, а детальный анализ этого механизма в свою очередь противоречит точному заданию предметных границ. Может быть, именно поэтому дискуссии о предмете, как правило, не приводят к ситуации полного единодушия, что, однако, не мешает науке успешно развиваться. Определение предмета конкретных наук это работа рефлексии, а развитие этой науки – это следование не рефлексивным предписаниям, а образцам реальной работы в конкретной науке, в частности, в математике. Поэтому определение Куранта и Роббинса вполне работает. 3.5. «ФИЗИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА» АРХИМЕДА, ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ НОВАЦИЙ В МАТЕМАТИКЕ Для того чтобы определить задачи данного параграфа, рассмотрим высказывание Д. Пойа: «Так уж сложилось, что одно из величайших математических открытий всех времен и народов имело своим источником физическую интуицию. Я имею в виду открытие Архимедом той ветви науки, которую сегодня мы называем интегральным исчислением. Архимед нашел площадь параболического сегмента, объем шара и еще около дюжины подобных результатов с помощью единообразного метода, в котором важную роль играет идея равновесия. Как он сам сказал, он «исследовал несколько математических задач средствами механики»» (Пойа 1975, 173–174). Сформулируем несколько вопросов. Открыл ли Архимед интегральное исчисление? Если да, то почему обычно считается, что дифференциальное и интегральное исчисление возникло в XVII веке в работах Ньютона и Лейбница? Почему открытие исчисления растянулось почти на 2000 лет? Да и Ньютон и Лейбниц – не «окончательные» авторы исчисления. После них были Коши, Вейерштрасс, а иногда завершение этого процесса относят еще дальше – к появлению нестандартного анализа. Что происходило с III века до н. э., когда жил Архимед, до XVII века, когда появились сочинения Ньютона и Лейбница? К числу создателей исчисления относят также Кеплера, Кавальери, Ферма и других авторов. Каков их вклад в создание исчисления, что именно они делали и почему не они создали исчисление? Архимед – один из создателей исчисления или его относят к авторам исчисления задним числом, когда исчисление уже создано? А может быть и правомерно его считать одним из авторов в силу того, что он сам осознавал значимость своего метода (правда, это метод нахождения площадей и объемов криволинейных фигур). Таким образом, рассмотрим две группы вопросов – первая связана с Архимедом – каковы механизмы новаций в его работе, какую роль играют средства механики в решении математической задачи вычисления объемов криволинейных тел? Почему нельзя в полной мере считать Архимеда создателем интегрального исчисления, хотя он и решил задачи нахождения объемов тел – типичные задачи интегрального исчислении? Вторая группа вопросов – о дальнейшем пути формирования исчисления – что сделали Кеплер, Кавальери, Ферма и другие математики для создания исчислении? Почему не они его авторы, а Ньютон и Лейбниц. Что именно сделали Ньютон и Лейбниц для создания исчисления? Что все же осталось на долю Коши и Вейерштрасса – т. е. почему понадобилась работа по обоснованию исчисления? Совокупность вопросов можно дополнить, поставив другую цель – интересоваться не созданием данного исчисления, а новациями в математике. Случайно или нет при решении новой математической задачи Архимед обратился к механике? Каким образом решение конкретной математической задачи (вычисление объемов криволинейных тел) привело к формированию новых понятий (дифференциал, интеграл) и созданию новой математической теории? Почему понадобились исследования по обоснованию математического анализа? В итоге все это ответы на один вопрос – каковы механизмы новаций в математике. Рассмотрим, как Архимед доказывает знаменитую теорему о площади сегмента параболы в работе «Послание к Эратосфену. О механических теоремах» (Архимед 1962,300–301): «Пусть ΑΒΓ будет сегмент, заключающийся между прямой ΑΓ и параболой ΑΒΓ; разделим ΑΓ пополам в Δ, параллельно диаметру проведем ΔΒΕ и соединяющие прямые ΑΒ и ΒΓ (см. рисунок). Я утверждаю, что сегмент ΑΒΓ составляет четыре трети треугольника ΑΒΓ». Чтобы осуществить доказательство, Архимед 1) преобразует чертеж – делит отрезок АГ пополам в точке Δ, проводит линию ΔВЕ параллельно диаметру и соединяет прямые АВ и ВГ. Затем из точек А и Г проводит АΖ, параллельную АВЕ, и ГΖ, касательную к параболе; продолжает ГВ до К и откладывает КΘ, равную ГК. 2) распознает на преобразованном чертеже равноплечий рычаг ГΘ с серединой К, т. е. работает в рамках механики (статики); 3) проводит прямую МΞ, параллельную ЕΔ, устанавливает ряд равенств, т. е. снова работает в рамках геометрии 4) пользуясь тем, что МΝ равна ΝΞ, заключает, что точка Ν есть центр тяжести прямой МΞ и прямая ТΞН уравновесит МΞ,4) устанавливает, что точка К будет центром тяжести величины, составленной из обоих весов (ТН и МΞ) 5) заполняет треугольник ГZА и сегмент прямыми, передвигает сегмент параболы так, чтобы точка К была центром тяжести величины, составленной из них обоих.2 Для анализа метода Архимеда воспользуемся представлениями о конструкторе как одной из программ научного исследования. Концепция была предложена М. А. Розовым: «Конструктором мы будем называть некоторое множество объектов, для которых заданы определенные способы их преобразования» (Розов 2004, 281). В науке мы сталкиваемся с такими программами конструирования, как «конструирование чисел, без чего невозможен счет и измерение, и различные системы координат, без которых невозможно задать положение тела в пространстве. Это атомистика, позволяющая строить объяснения огромного количества физических и химических явлений» (Розов 2006, 343). Мы видим, что Архимед работает в конструкторе геометрии, при этом он так преобразует чертеж, чтобы можно было воспользоваться представлениями статики, открытыми им же самим (распознать равноплечий рычаг, центры тяжести фигур), затем так достраивает чертеж, чтобы получились фигуры, которые находятся в равновесии, что опять является прерогативой механики. Его доказательство свидетельствует о том, что математика – это не просто система рассуждений, но, прежде всего, преобразование чертежей (или записей, если речь идет об алгебре), а затем, использование знаний из близ лежащей науки – статики, и наконец, возвращение снова к геометрии. Часто философы не замечают конструирование как тип работы в математике, полагая, что строгое математическое доказательство должно быть выведено из определенного конечного числа утверждений (аксиом) и не использует никакой информации, выходящей за пределы этих утверждений (Перминов 1986,6).Вопрос о строгости математического доказательства имеет не только академический интерес. Он имеет практический смысл – что допустимо в доказательстве теорем, а что – нет. Идея герметичности не разрешает пользоваться никакой информацией, не содержащейся в исходных явных утверждениях. Здесь надо, вероятно, различать процессы, связанные с догадкой о содержании доказываемых теорем, и изложение доказательства. В изложении может быть и можно требовать ссылки только на фиксированные исходные утверждения. Процесс обоснования анализа с этой точки зрения есть, вероятно, не что иное, как выведение утверждений об интегрировании и дифференцировании из чисто математических предпосылок – языка пределов, не прибегая к бесконечно малым. Но практика показывает, что пока та или иная математическая теория (дисциплина) только складывается, ученые часто прибегают к «внешним» ресурсам – знаниям других наук, философским аргументам, метафизическим соображениям и т. д. Именно так поступает Архимед: он использует знания статики, находит центры тяжести фигур, преобразует чертежи так, чтобы появился рычаг, перемещает фигуры таким образом, чтобы они находились в равновесии и т. д. Вся история формирования дифференциального и интегрального исчисления сопровождается подобными действиями (исчисление нулей Эйлера, отбрасывание бесконечно малых в одних случаях и не отбрасывание – в других). Это не случайно, и обусловлено тем, что сначала интегральное исчисление формируется в процессе решения практических задач – главным образом на вычисление площадей и объемов криволинейных фигур, а дифференциальное – как процедура Недавно заново обретенный и прочитанный международной группой исследователей «Палимпсест Архимеда» содержит ряд ранее неизвестных теорем и доказательств, в частности положение 14 «Метода», где Архимед находит объем цилиндрического сегмента и, сопоставляя площади и объемы, пользуется понятием величины и производит эксплицитное суммирование бесконечного числа геометрических объектов, что усиливает исходное положение и показывает, что Архимед, возможно, приблизился к открытию идеи интеграла гораздо ближе, нежели мы ранее думали. Подробнее см.Netz–Noel 2007, 187 сл. 2 нахождения касательных, что связано с проблемой вычисления мгновенной скорости в механике и т. д. То есть каждый раз в этих случаях решаются конкретные прикладные задачи. А решение прикладных задач и фундаментальных подчинено разным системам ценностей. Прикладная дисциплина должна дать метод, тогда как от фундаментальной требуется доказательство, приемлемое по канонам своего времени. Существенно, что Архимед понял, что получил два результата – нашел площадь (объем)криволинейных фигур и решил эти задачи новым методом, которым, как он проницательно заметил, возможно, впоследствии можно будет пользоваться и для решения других задач: «Он [этот метод] может принести математике немалую пользу; я предполагаю, что некоторые современные нам или будущие математики смогут при помощи указанного метода найти и другие теоремы, которые нам еще не приходили в голову» (Архимед 1962, 299). В дальнейшем объемы тел вычисляли Кеплер, Кавальери, Ферма и другие математики. Однако общего метода ими не было создано, для каждого случая приходилось искать свои приемы. Пойа, утверждающий, что Архимед открыл «ту ветвь науки, которую сегодня мы называем интегральным исчислением», склонен смотреть на историю с позиции современного знания. Разумеется, Архимед понимал, что метод, которым он вычислял площади и объемы фигур, мог пригодиться и для решения других задач, которые современная ему наука не могла сформулировать. Но сейчас, когда мы знаем, как именно формировалось исчисление, мы видим, что одни математики подхватывали идеи Архимеда о решении конкретных задач, а другие (Кавальери, например) понимали, что нужно создавать и метод. Однако и у Архимеда, и у Кавальери речь шла о методе вычисления площадей и объемов, а не об исчислении интегралов. Кавальери еще не мог осознать необходимость построения нового (интегрального) исчисления, ибо для создания исчисления нужно было сначала обнаружить, что этот же самый метод позволяет решать и другие задачи, что привело к формированию понятия интеграл, а потом и к тесно связанному с ним понятию дифференциала, с помощью которого решался другой класс задач. Это осознание появится только в работах Ньютона и Лейбница. Рассмотрим вторую группу вопросов – о дальнейшем пути формирования исчисления. Кеплер, Кавальери, Ферма и другие математики 1) повторили решения задач Архимеда, 2) вычислили объемы гораздо большего числа фигур и, кроме того, 3) Кавальери поставил задачу создания метода нахождения кубатур и квадратур. Этап в совершенствовании интегральных методов составило сочинение И. Кеплера «Новая стереометрия винных бочек преимущественно австрийских, как имеющих самую выгодную форму и исключительно удобное употребление для них кубической линейки с присоединением дополнения к архимедовой стереометрии».В первой части работы приводятся и доказываются результаты, найденные Архимедом, а также определяется объем87 новых тел. Кеплер не пользовался греческим методом исчерпывания, а исходил из инфинитезимальных соображений. Эти же соображения он использовал для описания движения планеты Марс. При этом Кеплер отбросил многовековую традицию – полагать, что планеты движутся по круговым орбитам. Он показал, что все расхождения с наблюдениями исчезают, если считать, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце. Но для подтверждения этого закона ему нужно было уметь вычислять площадь сектора эллипса. Эту задачу не умели решать ни древние, ни его современники. Для того чтобы сформулировать и подтвердить вычислениями этот закон движения планет, Кеплер, во-первых, заменил изучение изменения площади сектора эллипса изучением изменения пропорциональной ей площади сектора круга, вычислять которую умел еще Архимед и, во-вторых, ввел новый элемент, отсутствующий у его современников,– «сумму радиус-векторов» (Медведев 1974, 50–51). У Кеплера, таким образом, был внешний «потребитель», – астрономия, в которой он, как и Аристотель в статике, выступил новатором. Астрономия представляла основной интерес для Кеплера, а математика выступала как средство решения астрономических задач. Важно отметить, что Кеплер фактически работает в математике как в прикладной науке, в соответствии с представлением о строгости этой группы наук (исследований), к тому же он имел большой опыт вычислительной работы, в которой, как пишет Г. Цейтен, «приобрел умение успешно пользоваться понятием бесконечно малой величины, хотя ничем, кроме самого названия, он и не пояснил столь трудного в логическом отношении понятия. Отбрасывание высших степеней малых величин в приближенных числовых вычислениях практически научило его тому, какие величины можно отбрасывать и при точных расчетах. Во всяком случае в его работах, особенно астрономических, числовые и инфинитезимальные расчеты часто тесно связаны между собой» (Цейтен 1933, 242). Кеплер совсем отказывается от доказательств при помощи метода исчерпывания. И хотя он считает их полными и строгими, однако полагает возможным обойтись без них, заменив их инфинитезимальными соображениями. Существенно, что самый смысл косвенного доказательства он видит именно в такой замене и прямо пишет, что как раз составление геометрических фигур из бесконечно малых элементов и нахождение искомой величины из сравнения таких элементов «и имеет в виду архимедово приведение к нелепости» (Медведев 1974, 52). Для определения площади круга Кеплер полагает, что «окружность имеет столько частей, сколько в ней точек, т. е. бесконечно-большое число; каждая такая часть может быть принята за основание равнобедренного треугольника; все треугольники эти имеют общую вершину в центре. Треугольник АВС имеет площадь, равную площади круга» (Никифоровский 1985, 140).В античном доказательстве этой теоремы используется метод исчерпывания – площадь криволинейной фигуры заменяется, т. е. исчерпывается прямолинейной площадью, но этот процесс не доводится до конца. Удвоение числа сторон вписанного многоугольника происходило до тех пор, пока разность между нею и площадью круга не делалась менее некоторой произвольной (но не бесконечно-малой) площади. Доказательство заканчивалось приведением к абсурду. Кеплер прямо переходит к предельному случаю многоугольника с бесконечно-большим числом сторон, доводя исчерпывание сразу до конца, и получает искомую площадь, не прибегая к громоздкому способу косвенного доказательства. Как отмечает В. П. Шереметевский, часто бывает, что разработка новой области началась не с простейших ее оснований, а с более сложных и трудных частей, выдвинутых вперед практическими потребностями данного момента (Шереметевский 2010, 141). Действительно, исторически первыми решались задачи интегрального исчисления (чего требовали механика, астрономия и т. п. науки), и только гораздо позднее – задачи дифференциального, потребность в которых почти не ощущалась, но которые, однако, оказались более простыми, и в современной математике именно с дифференцирования начинается изложение математического анализа. Кроме этого, математический анализ сначала был создан трудами многих математиков как техника интегрирования и дифференцирования, и лишь позднее был обоснован Коши и Вейерштрассом. Кеплер, таким образом, продолжил эстафету Архимеда, но иначе – не в рамках точных и строгих доказательств, как это было принято у древних греков, а в рамках прикладного приема для нужд астрономии. Кавальери осуществил несколько нововведений в математике, главное из которых – учение о неделимых. Это учение восходит к Демокриту, обсуждалось в средние века, и Кавальери принадлежит «та своеобразная форма учения о неделимых, которая в его руках, а также у некоторых его последователей, оказалась пригодной для получения многих новых результатов в математике XVII века» (Медведев 1974, 57). Метод неделимых, развитый Кавальери, состоит в том, что он рассматривает геометрические объекты как образованные совокупностью неделимых элементов, размерность которых на единицу меньше размерности рассматриваемого объекта. Подход Кавальери отличается от действий Кеплера, который разлагал фигуру или тело на бесконечное число элементов той же размерности, что и сама фигура или тело – мы видели, что круг он сводил к треугольнику. Обращение к идее неделимых – это не что иное, как использование внешнего, философского в данном случае, ресурса. Были и другие нововведения: Кавальери вводит понятия касательных, высот, оснований, вершин, подобия, цилиндров и конусов, доказывает ряд теорем относительно введенных понятий, которые включают понятия и теоремы античной математики как частные случаи. Еще одно нововведение Ф. А. Медведев характеризует как фактическую разработку элементов аналитической геометрии. Эти элементы были и у древних греков, но подход Кавальери, как и в предыдущем нововведении, отличается универсализацией этих элементов. Сказанное можно рассматривать как смену интересов – античных авторов интересовали конкретные геометрические объекты – прямые, окружности, конические сечения и т. д., а Кавальери строит математику – координатную систему вообще, не привязанную к фигурам, вводит понятия о касательных, высотах, безотносительно к конкретным фигурам и т. д. Он перенес «центр тяжести» исследования с изучения конкретных фигур на построение системы, которая позволяла рассматривать сразу бесконечное число видов фигур. В еще большей степени перенос центра тяжести исследований относится к учению Кавальери о неделимых. Объект его интереса – не площади и объемы тел, а метод, с помощью которого можно это найти, т. е. метод интегрирования. Он делает интегрирование «предметом особых исследований, результаты которых могут быть затем применены в самых разнообразных областях» (Цейтен 1933, 249).В теории социальных эстафет М. А. Розова переход к новому референту (в данном случае, от площадей и объемов – к методу) называется рефлексивным преобразованием. Новое часто появляется как побочный продукт решения традиционных задач. Рефлексия, осознав значимость побочного результата, делает этот результат основным. Такой переход возможен потому, что рефлексия имеет описательную и целеполагающую компоненты – она описывает деятельность, а кроме этого, она есть указание цели действия. Однако, наблюдая какую-то конкретную деятельность и поставив задачу ее воспроизвести, человек оказывается перед необходимостью выделить в том, что делает другой, продукт данной деятельности. Рефлексия с этой точки зрения – это поляризация образцов, воспроизводимых в рамках той или иной эстафетной структуры (Розов 2006, 233). Переход от одной поляризации к другой – это рефлексивное преобразование. Сейчас, зная весь длинный и извилистый путь формирования интегрального исчисления, особенно ясно становится, что ни Архимед, ни Кеплер, ни многие другие математики не могли поставить задачу создания исчисления, тогда как постановка задачи на вычисление площадей и объемов криволинейных фигур представляется без труда. Прежде чем перейти к непосредственным создателям исчисления, Ньютону и Лейбницу, кратко рассмотрим работы английских математиков Грегори и Барроу. Грегори поставил перед собой задачу создать общий метод, позволяющий решать широкий круг вопросов, которые сейчас относят к анализу бесконечно малых. «Наряду с обычными операциями математики того времени – сложением, вычитанием, умножением, делением и извлечением корня – он общим образом, правда, в геометрическом одеянии, вводит понятие сходящихся к одному пределу пары последовательностей, или, другими словами, принцип вложенных интервалов для того, чтобы получать новые, неизвестные величины, которые нельзя найти при помощи указанных пяти операций» (Медведев, 1974, 78). Грегори сделал попытку построить общую теорию рядов, основанную на понятии предела, а также осознал взаимно обратный характер задач на касательные и задач на квадратуры. Идея связи дифференцирования и интегрирования выражена у Грегори в геометрической форме в виде взаимной связи длины дуги кривой и площади под этой кривой. Современные историки науки высоко оценивают заслуги Грегори в создании математического анализа. Поставив вопрос, почему же имя Грегори долго занимало очень скромное место в истории анализа, Медведев пишет, что все его рассуждения имели словесно-геометрическую форму, и именно эта форма не позволила как Грегори, так и многим другим выдающимся математикам того времени осознать всю общность содержания полученных ими в геометрической форме результатов и создать новое исчисление, как это сделали Ньютон и Лейбниц (Медведев1974, 80). В рамках геометрических представлений Грегори достиг той вершины в инфинитезимальных исследованиях, которой вообще можно достичь. Медведев пишет, что Грегори построил, так сказать, геометрический анализ, завершив тем самым то, что было начато Архимедом. «Однако такой геометризованный анализ оказался нежизнеспособным. Словесно-геометрическая форма изложения, к тому же сопровождавшаяся обычно апагогическими доказательствами, практически изжила себя» (Медведев 1974, 80). Замечания Медведева о геометрическом языке и о наличии доказательств там, где нужны алгоритмы, важны. В математике с самого начала формируются два конструктора – арифметический и геометрический. Интегрирование – это новое исчисление, новый математический конструктор, но долгое время разработка интегрального исчисления выглядела как решение традиционных геометрических задач. Нужно было осознать, что строится новое исчисление, а не просто решаются геометрические задачи. Для вычисления площадей, объемов и решения других задач формирующегося исчисления нужны были не столько доказательства (что требуется в «чистой» математике), сколько правила, алгоритмы. На первый взгляд выглядит парадоксальным то, что доказательства «мешают» понять, что делает математик (Грегори), но если принять во внимание, что чистая и прикладная математика следуют разным ценностным установкам, то парадокс исчезает. Рассматривая вклад Барроу в анализ, обычно отмечают широкое введение кинематических соображений, которое имеет давнюю традицию – ведь еще Архимед и другие древнегреческие математики рассуждали подобным образом. При изучении касательных к кривым кинематические соображения широко использовали Роберваль и Декарт. Бурбаки писали, что Барроу выделяется из предшествующих исследователей тем, что он задумал «сделать из одновременных изменений различных величин как функций универсальной независимой переменной, принятой за «время», основу исчисления бесконечно малых, изложенного геометрически» (Бурбаки1963, 181). Второе, что отмечают у Барроу – это наличие совершенно общего понятия функции, которое можно получить, исходя из геометрических представлений. Он рассуждает не о касательной к отдельной кривой или о квадратуре конкретной кривой, а формулирует и доказывает свои предложения сразу для любой, в современном языке, дифференцируемой функции. Третье – это отчетливое установление взаимозависимости дифференцирования и интегрирования. Здесь опять существенную роль играли нужды кинематики, т. е. исследование понятия движения. Задача ставилась так: как, с одной стороны, получить путь, пройденный точкой, зная время и скорость ее движения, а с другой – выразить скорость движения, зная пройденный путь и затраченное время. Формулировка проблем производилась в кинематической форме, а их решение осуществлялось в геометрическом духе. Однако история сыграла с Барроу злую шутку. Сейчас известно, что операция дифференцирования осуществляется проще. Но во времена Барроу операции интегрирования были разработаны более подробно, а методы определения касательных были менее известны. Поэтому Барроу преимущественно решает не задачи определения квадратур по данным о касательных, а, наоборот, из известных квадратур ищет способы определения касательных. Отдавая должное английскому математику, Вилейтнер пишет, что после работ Барроу все еще «недоставало систематического применения отношений двух исчезающих величин, ясной точки зрения на понятие функции и прежде всего, особого вычислительного алгорифма, который мог бы, при подходящем определении его формальных операций, оттеснить на задний план лишнюю работу мысли, ранее необходимую при отдельных инфинитезимальных исследованиях» (Вилейтнер 1960, 115–116) Этот особый вычислительный алгоритм сложился в работах Ньютона и Лейбница. Выделим только некоторые моменты их деятельности, важные для понимания механизмов новаций в математике. Прежде всего, описывая математические работы Ньютона, историки науки говорят о двух типах результатов, полученных Ньютоном – вычислении площадей и методе (разложения функций в бесконечные ряды в одной из работ 1666 года). Медведев пишет, что интеграционные приемы, применяемые Ньютоном в этой статье, не новы, но в сочетании с широким алгебраическим подходом они получают новую качественную окраску (Медведев 1974, 99). Эта «новая качественная окраска» состоит в том, что частные приемы интегрирования перерастают по существу в интегральное исчисление. Метод, таким образом, становится основным результатом, и не сводится лишь к процедурам нахождения значений площадей и объемов. Причем, исчисление оказывается применимым не только к квадратурам кривых. Ньютон подчеркивает, что все задачи о длине кривых, об объемах и поверхностях тел, о положениях центров тяжести могут быть сведены, в конце концов, к вопросу о нахождении площади, ограниченной плоской кривой (Медведев 1974, 99), так что интегрирование вырастает в достаточно общий самостоятельный раздел математики. Интегральное исчисление, базирующееся на разложении функций в ряды, – это законченный алгоритм, позволяющий отнести заданной функции вполне определенное число, важный тем, что применим не только для нахождения площадей, но и целого ряда других величин (Медведев 1974, 100). «Под открытием интегрального исчисления в XVII в. следует понимать не введение нового понятия интеграла и способов его нахождения, а только открытие новых алгоритмов, позволяющих находить единообразным способом достаточно широкий класс квадратур или интегралов, как их стали называть позднее … Такими двумя основными алгоритмами явились тогда алгоритмы разложений в ряды и нахождение квадратур путем выражения их при помощи прямой математической операции – дифференцирования. Но для реализации последнего нужно было само интегрирование сделать особой математической операцией, а также разработать технически удобные средства ее осуществления» (Медведев 1974, 108), т. е. нужно было осуществить рефлексивное преобразование – сделать объектом исследования само интегрирование. Первой опубликованной работой Лейбница по этим вопросам была его статья «Новый метод максимумов и минимумов, а также касательных, для которых не служат препятствием ни дробные, ни иррациональные величины, и особенный для этого род исчисления» (1684) Он ввел определение дифференциала, предложил для него обозначение и сообщил без доказательства правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного и степени. Эти правила не были чем-то новым в математике, ими более или менее осознанно пользовались все те, кто занимался тогда проблемами касательных, максимумов и минимумов и т. д. (Медведев 1974, 112). Тем не менее, эта заметка Лейбница довольно долго оставалась непонятой. Причина этого непонимания была в том, что сформулированные правила были «выставлены Лейбницем в качестве общего исходного пункта для всех инфинитезимальных исследований, … что связь их с символикой делает их основой исчисления, с помощью которого можно производить разнообразные инфинитезимальные исследования таким же образом, как исследования анализа конечной величины с помощью буквенного исчисления» (Цейтен 1933, 409).Здесь очень важно обратить внимание на следующее: новаторство Лейбница состоит не в том, что он предложил новые правила, ав другом осознании этих правил. Для него правила из средств нахождения определенных геометрических величин (максимумов, минимумов, касательных) превратились в самостоятельный результат, основу исчисления, с помощью которого можно было производить «разнообразные инфинитезимальные исследования», а не только те, которые привели к этим правилам. Осуществление этого рефлексивного преобразования и делает Лейбница одним из авторов дифференциального и интегрального исчисления. Это новаторство долго оставалось непонятым именно потому, что в его рамках предлагалось нечто принципиально новое: до этого времени решали конкретные задачи, мало задумываясь об общих методах. Ньютон развивал интегральное исчисление не только в математических заметках, но и в своем основном труде по механике «Математические начала натуральной философии».Медведев пишет, что историки математики либо совсем не уделяют внимания математическому содержанию «Начал», либо – очень мало. «Не следует думать, что Ньютон к создаваемой им механике применил какой-то готовый математический аппарат математики. Такого аппарата тогда не было (хотя имелись все предпосылки для его построения), и Ньютону приходилось вести параллельную работу: развивать соответствующие механические соображения и разрабатывать необходимые для этой цели математические предложения. Поэтому в его изложении на протяжении всей книги механика чередуется с математикой» (Медведев 1974, 114–115). Но математике все же отводится второстепенная роль – математические идеи вводятся тогда, когда они нужныдля развития рассматриваемого вывода механики. Ньютона упрекают в том, что он получил свои результаты в механике при помощи средств анализа, но изложил их на геометрическом языке. Однако анализа в современном смысле тогда не было, и если Ньютон хотел быть понят современниками, то он не мог не пользоваться геометрическим языком. Еще не было слова «интеграл» и его заменял тогдашний его эквивалент – площадь кривой. Однако использование Ньютоном геометрического языка в «Началах» не означает, что он следовал античным образцам. К примеру, везде, где древний математик использовал бы метод исчерпывания, Ньютон пользовался методом пределов. Кроме этого, для решения дифференциальных уравнений Ньютон использует бесконечные ряды, постоянно обращается к произвольным показателям степеней, чего совершенно не знали древние греки. Следует понимать так же, что аналитические методы еще не были разработаны в полной мере и, кроме того, геометрические методы порой предпочтительнее аналитических. Подводя итоги того, что сделали Ньютон и Лейбниц для создания исчисления, Медведев говорит, что фактические достижения Лейбница не так значительны и заметно уступают достижениям Ньютона. Однако умение Лейбница четко ставить общие проблемы и намечать пути их решения сыграло огромную роль в развитии анализа вообще и теории интегрирования в частности (Медведев 1974, 125). К результатам Лейбница можно отнести идею взаимной обратности дифференцирования и интегрирования, идею алгоритмичности новых исчислений при надлежаще выбранной удобной символике, идею новых трансцендентных функций, появляющихся при интегрировании, идею применения комплексных чисел и т. д. Ньютон раньше Лейбница пришел почти ко всем этим результатам, его результаты богаче по содержанию, но «Лейбниц оказал на развитие анализа, видимо, большее влияние. Причины этого многообразны. Во-первых, последний, будучи математиком-самоучкой, не был обременен классическим тогда наследием геометрического склада мышления, так что ему легче было перейти к новым аналитическим представлением. Не был он приучен и к требованиям древнегреческой строгости, толкавшим Ньютона на все новые и новые поиски способов обоснования, вплоть до разработки довольно четкой, но все же преждевременной тогда теории пределов. Во-вторых, методы Лейбница были облечены в такую форму, в которой их относительно легко можно было усвоить и применять затем чуть ли не механически, соблюдая определенные правила для простых операций; алгоритмичность методов Лейбница была важна именно в эту эпоху, когда к занятиям математикой стали привлекаться значительно более широкие круги людей (Медведев 1974, 125– 126). Историко-научные факты формирования понятия интеграла дают богатый материал для анализа проблемы новаций в математике вообще. Мы видели, что новое исчисление формировалось в процессе решения традиционной задачи нахождения площадей и объемов (криволинейных фигур и тел), никто не ставил и не мог поставить задачу создания нового исчисления, и, тем не менее, исчисление возникло. Эта ситуация хорошо схватывается различением незнания и неведения, предложенным М. А. Розовым (Степин, Горохов, Розов 1995, 116–119). Незнание – это когда нам не известны конкретные значения каких-то величин, допустим, мы не знаем, сколько людей является подписчиками той или иной газеты, но знаем, как это можно узнать. Неведение – это когда вообще не известно, существуют ли те или иные объекты, например, группа в математике, вирус в биологии и т. д. Галуа, например, развил представление о новом математическом объекте – группе подстановок корней уравнения, когда он решал традиционную задачу – о разрешимости уравнений выше 4 степени в радикалах. Представления о группе было средством при решении этой задачи. Введение понятия группы в математику произошло благодаря рефлексивному преобразованию результатов решения традиционной задачи – группа стала основным объектом исследования. Разрешение ситуации с неведением, таким образом, происходит благодаря рефлексии, когда ученый осознает, что он не только решил традиционную задачу, но и создал новый объект. Выше уже было отмечено, что в истории формирования интегрального исчисления было несколько моментов, когда математикам приходилось осознавать, что наряду с конкретными результатами – площадью или объемом фигуры или тела, получался еще один результат – метод, которым были найден данный результат, и который может быть применен для решения задач, отличных от тех, которые привели к его созданию. В данном случае создание исчисления – это результат не одного рефлексивного преобразования, а нескольких, но решающим было преобразование, осуществленное Лейбницем, когда он сделал основным результатом своего исследования не вычисление различных геометрических величин (правила были при этом средством), а сами правила, которые и составили исчисление, как новый математический результат. Новое исчисление сначала выполняло некоторую подчиненную роль – было средством решения задач геометрии. В процессе его формирования использовались, как мы видели, то представления механики, то философские конструкции (метод Демокрита), то в рамках собственно математической деятельности допускались «сомнительные» операции с бесконечно малыми (отбрасывали бесконечно малые высших порядков), т. е. это исчисление, имея прикладной характер, и формировалось по «стандартам» прикладной науки, для которой главное, чтобы метод работал. Только Лейбниц открывает новую эстафету, когда вводит понятие дифференциала, предлагает правила дифференцирования и делает эти правила исходным пунктом для всех инфинитезимальных исследований. Когда математики поняли, что создан могущественный метод, собственно, даже не просто метод, а дифференциальное и интегральное исчисление, введены новые понятия – дифференциал, дифференцирование, неопределенный интеграл, определенный интеграл, они осознали, что это исчисление необходимо переформулировать по канонам математики, превратив его в нечто большее, нежели приложение для решения задач механики, астрономии, оптики и других наук. Так возникла проблема обоснования анализа. Эйлер предложил исчисление нулей, но главное сделали Коши и Вейерштрасс – они развили представления об интегрировании и дифференцировании через понятия предела, т. е. построили это исчисление как объект чистой математики, а не прикладной. Мы видели, что существенную роль в формировании интегрального исчисления играет ответ на запросы либо геометрии, либо – других наук, таких как астрономия, механика или оптика. Тесное взаимодействие математики и других наук – это не частный случай, а скорее, норма в математике и других науках. Чтобы описать эту особенность формирования и функционирования математики, воспользуемся представлениями о дисциплинарных комплексах, развитыми М. А. Розовым. «Группы наук, у истоков которых лежит рефлексивное преобразование одних и тех же знаний, мы будем называть дисциплинарными комплексами» (Розов 2006, 355). Розов описывает разные виды комплексов, нас будут интересовать программно-предметные комплексы. В качестве примера такого комплекса Розов приводит связь дисциплин – оптики, акустики и им подобных, с одной стороны, и – теорию колебаний, с другой. Дисциплины первой группы строят знания о тех или иных явлениях природы, вторые – разрабатывают методы или подходы, необходимые для получения этих знаний. Математика, как мы видели, разрабатывая методы вычисления площадей и объемов криволинейных фигур, отвечает на запросы астрономии, механики, оптики и других наук. Это означает, что математика является программной наукой комплекса, а астрономия, механика и т. п. – это предметные науки комплекса. Дисциплины выделенных видов не существуют и не могут существовать друг без друга – они связаны в своем историческом развитии и представляют собой пример программно-предметной симметрии. Эта симметрия обычно нарушается в ходе обособления названных дисциплин, но ее следы всегда присутствуют в соответствующих системах знания (Розов 2006, 360). Замечание о том, что предметные и программные дисциплины не могут существовать друг без друга, очень важно как для понимания механизмов новаций в математике, так и для ответа на вопрос о предмете математики и об отношении математики к действительности. В самом деле, не описывая природу непосредственно, математика, через предметные науки, тесно связана со многими областями реального мира – с колебанием струны, с полетом снарядов, с экономикой и т. д. Библиографический список Абдильдин Ж., Нысанбаев А., Диалектико-логические принципы построения теории. Алма-Ата, Наука, 1973.Аристотель. Метафизика. Соч. в 4тт. М., Т.1, 1976. Архимед, (1962) Сочинения, пер. И. Н. Веселовского и Б. А. Розенфельда. Москва. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. М., ИЛ, М., 1963. Бурбаки, Н. (1963) Очерки по истории математики. Москва. Вандер ван дер Б.Л. Пробуждающаяся наука. М., 1959. Веркутис М.Ю. Формирование нового знания в математике: рефлексивные преобразования и рациональные переходы. Новосибирск, Сибирский хронограф, 2004. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. Вилейтнер, Г. (1960) История математики от Декарта до середины XIX столетия. Москва. Вопрос о революциях в истории математики // Зарубежные исследования по философским проблемам математики 90-х гг. Научно-аналитический обзор. М., 1995. Серия «философия». Гессен Б.И. Социально-экономические корни механики Ньютона. Гильберт Д. Основания геометрии. М.-Л., ОГИЗ, 1948. Грязнов Б.С. Логика. Рациональность. Творчество. – М., Наука, 1982. Каган В.Ф. Лобачевский и его геометрия. М., 1955 Каган В.Ф. Очерки по геометрии. М., Мгу, 1963. Карпенко Б. И. Развитие идей и категорий математической статистики. М., 1979. Коллинз Р. Социальная реальность объектов математики и естествознания // Философские проблемы математики. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск. НГУ, 2007. Кун Т. Структура научных революций. М. Прогресс, 1977. Курант Р. Математика в современном мире // Математика в современном мире. М., Мир, 1967. Медведев, Ф. А. (1974) Развитие понятия интеграла. Москва. Никифоровский, В. А. (1985) Путь к интегралу. Москва. Новиков Г.А. Очерки истории экологии животных. 1980. Новиков С. П. Математика на пороге XXI века. http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50768 Перминов В.Я. Развитие представлений о надежности математического доказательства. М., МГУ, 1986. Платон. Государство. Собр. соч. в 3 тт. Т. 3 (1). 1971. Пойа, Д. (1975) Математика и правдоподобные рассуждения. Москва. Пуанкаре А. Наука и метод. М., Пушкарев Ю.В. Становление интегрального исчисления как новой реальности в математике // Гносеологический анализ представлений о реальности в науке. Новосибирск, НГУ. 2004. Рассел Б. Мудрость Запада. М., 1988. Рассел Б., История западной философии. Новосибирск, изд-во НГУ, 1997. Рашевский П.К. Предисловие к книге: Гильберт Д., Основания геометрии. М.-Л., ОГИЗ, 1948. Реньи А. Диалоги о математике. М., Мир. 1969. Розов М.А. К методологии анализа феномена идеального // Философия. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск. НГУ, 2006-1. Розов М.А. Способ бытия математических объектов // Философские проблемы математики. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск. НГУ, 2007. Розов М.А. Тезисы к перестройке теории познания // На пути к неклассической эпистемологии. М., 2009. Розов М.А. Теория и инженерное конструирование // На теневой стороне. Новосибирск. Сибирский хронограф. 2004. Розов М.А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. Смоленск, 20062. Розов М.А. Философия и проблема свободы человека // Философия. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск. НГУ, 2006. Розов, М. А. Теория и инженерное конструирование, На теневой стороне. Материалы к истории семинара М. А. Розова по эпистемологии и философии науки в Новосибирском Академгородке. Новосибирск. 2006-1 Рузавин Г.И. Философские проблемы оснований математики. М., Наука, 1983. Степин В.С., Горохов В.Г. Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1995. Сухотин А.К. Философия в математическом познании. Томск, 1977. Сычева Л.С. Современные процессы формирования наук. Опыт эмпирического исследования. Новосибирск, 1984. Сычева Л.С. «Физическая математика» Архимеда, формирование интегрального исчисления и механизмы новаций в математике // . Философское антиковедение и классическая традиция. 2012. Т. 6. Вып. 2. С. 350-365. Успенский В.А. Апология математики. СПб. Амфора 2010. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике. Т. 1. М., Мир. Философские проблемы математики. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск, НГУ, 2007. Френкель А., Бар-Хиллел И., Философские замечания // Философские проблемы математики. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск, 2007 Цейтен, Г. История математики в XVI и XVII веках. Москва – Ленинград. 1933 Целищев В.В. Поиски новой философии математики // Философские проблемы математики. Материалы для выполнения учебных заданий. Новосибирск. 2007. Целищев В.В. Философия математики. Новосибирск, 2002. Шереметевский, В. П. Очерки по истории математики. Москва. 2010 NetzR., NoelW. (2007) TheArchimedesCodex.DaCapoPress. Список тем для докладов и рефератов по истории и философии математике 1. Природа методологической деятельности. 2. Специфика математического знания. Способ бытия математических объектов. 3. Отношение математики к действительности. 4. Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. Математика и религия. Математика и техника. Математика и искусство. 5. Математика как наука, ее отношения с другими науками. 6. Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции. 7. Доказательство – фундаментальная характеристика математического познания. Развитие представлений о надежности математического доказательства. 8. Причины и истоки возникновения математических знаний. Математика в догреческих цивилизациях. 9. Возникновение математики как теоретической науки в Древней Греции. 10. Аксиоматическое построение математики в «Началах» Евклида и его философские предпосылки. 11. Теория множеств как основание математики: Г. Кантор и создание «наивной» теории множеств. Открытие парадоксов теории множеств и их философское осмысление. 12. Математическая логика как инструмент обоснования математики и как основание математики. Взгляды Г. Фреге на природу математического мышления. Программа логической унификации математики. 13. «Основания геометрии» Д. Гильберта и становление геометрии как формальной аксиоматической дисциплины. 14. Внутренние и внешние факторы развития математической теории. 15. Концепция научных революций Т. Куна и проблемы ее применения к анализу развития математики. Специфика научных революций в математике. 16. Типы научных новаций в математике. 17. Фальсификационизм К. Поппера и концепция научных исследовательских программ И. Лакатоса. Возможность их применения к изучению развития математики. 18. Рефлексивные преобразования как механизм новаций в условиях неведения. 19. Пифагореизм как первая философия математики. Пифагореизм в сочинениях Платона. Критика пифагореизма Аристотелем. 20. Современные концепции эмпиризма в философии математики. 21. Платонизм (априоризм) в философии математики. 22. Взаимосвязь философии и математики в их историческом развитии. 23. Реализм как тезис об онтологической основе математики. 24. Социологические и социокультурные концепции природы математики. 25. Проблема обоснования математического знания на различных стадиях его развития. 26. Логицизм. Достижения и методологические изъяны. 27. Интуиционизм и конструктивизм как программы обоснования математики. 28. Программа абсолютного обоснования математических теорий Д. Гильберта. Теоремы К. Геделя и программа Гильберта. 29. Прикладная математика, ее особенности. 30. Наука и ценности. Ценности науки и ценности ученого. 31. Наука и власть. Хрестоматия по философии математики Розов М.А. К методологии анализа феномена идеального (Методологические проблемы науки. Новосибирск, НГУ, 1981) До нас дошла старая легенда, повествующая о соревновании двух живописцев. Оба выставили свои полотна на суд авторитетного жюри. Когда первый отдернул занавес, все увидели, что на картине изображены гроздья винограда, и птицы сразу стали слетаться, чтобы клевать ягоды. Судьи были восхищены мастерством художника, достигшего такого сходства с реальностью. «Теперь вы откройте свою картину», – попросили они второго мастера. «А она открыта!» – ответил тот, и сразу стало ясно, что на картине изображен занавес. Согласно легенде, победу одержал второй художник, ибо если первый ввел в заблуждение птиц, то второй – самих судей. Легенда интересна, ибо наталкивает нас на следующий вопрос: а действительно ли картина должна обманывать зрителя? Вероятно, нет. Пока судьи видели занавес, они просто не видели картины, ее для них не существовало. А когда они увидели картину, исчез занавес. Исчез ли? Говорят, что он исчез как некоторая материальная реальность, но остался идеально в пространстве картины. Этот занавес нельзя пощупать, нельзя отдернуть, с ним нельзя оперировать как с реальным занавесом, но в то же время мы его видим и любуемся его тяжелыми складками. Легенда позволяет выделить три разных позиции, которые можно занимать по отношению к картине. Во-первых, можно отождествлять изображение с реальным объектом. В этом случае для нас не существует никакой картины. Во-вторых, можно не видеть изображение, но видеть холст, покрытый пятнами краски. Картина в этом случае тоже отсутствует. Она возникает только в рамках третьей позиции, когда зритель соединяет, казалось бы, несоединимое. Он понимает, что перед ним размалеванный холст, но любуется гроздьями винограда или складками занавеса. Рассмотрим более детально эту третью позицию, ибо здесь как раз и возникает феномен идеального. Итак, мы понимаем, что перед нами холст и краски, но видим нечто другое, чего на самом деле нет. Имея перед собой определённый предмет с конкретными свойствами, мы относимся к нему так, точно у него есть и совсем другие, отсутствующие на самом деле свойства. Как это возможно? За счет чего возникает столь парадоксальная ситуация? Для большей общности приведем еще один пример, который к тому же в интересующем нас плане является и более прозрачным. Представим себе фигуры на шахматной доске. С одной стороны, это самые обыкновенные деревяшки причудливой формы, но с другой, вдруг оказывается, что они должны занимать на доске строго определенное положение и перемещаться строго определенным образом. Мы при этом хорошо понимаем, что имеем дело с деревянными фигурками и что перемещать их можно многими произвольными способами. Их можно, например, катать по доске, можно встряхивать и бросать, как игральные кости... Но тогда это уже не будут шахматные фигуры. Подбрасывать можно деревяшку, но не ферзя. В такой же степени можно свернуть в трубку картину с изображением горного озера, но мы сворачиваем при этом холст, но не озеро. Ферзь на шахматной доске и озеро на картине очень напоминают друг друга. Но ферзь задан правилами игры, и именно эти условные правила делают обыкновенную деревяшку важным участником шахматного сражения. Спрашивается, а не существует ли аналогичных «правил», определяющих наше восприятие картины? Прежде всего, что считать «правилом»? В шахматах – это словесные предписания, четко сформулированные и записанные в соответствующих учебниках. Разумеется, воспринимая картину, мы не опираемся на правила такого типа. Но нельзя ли посмотреть на происходящее с более общей точки зрения? Правилом принято называть такое предписание, которое выражено в языковой форме. Мы должны, следовательно, владеть языком. А где записаны «правила» использования слов? В конечном счете, нигде, но это не мешает человеку, знающему язык, использовать слова по назначению. Слова очень напоминают шахматные фигурки, но никаких сформулированных правил здесь в большинстве случаев нет. На что же мы опираемся? Вероятно, на образцы. Осваивая язык, человек говорит так, как говорят окружающие его люди, он копирует речь других. И это имеет место не только в речи, но и в процессе освоения огромного количества других норм поведения и деятельности. Явление подражания хорошо известно у животных, оно лежит в основе так называемого опосредованного обучения ... Но намного более глобальную роль оно начинает играть в жизни общества, являясь исходным кирпичиком социальной наследственности и определяя в конечном итоге процессы воспроизводства социальной жизни. Раз возникнув, те или иные элементарные формы поведения или деятельности сразу становятся образцами (нормативами) для других людей и начинают распространяться, подобно волне, образуя то, что мы называем социальными нормативными системами ... Примерами таких систем могут быть практика словоупотребления, традиционные формы приветствия, древние обычаи, сохранившиеся до наших дней, мимика и жесты, сказки и легенды, которые транслируются от поколения к поколению на протяжении многих столетий... Человек живет как бы в силовом поле многих нормативных систем, являясь их участником, они определяют его отношение к миру. Логично предположить, что и отношение к картине, ее восприятие существенно детерминировано нормативными системами той культуры, к которой принадлежит зритель. Можно сформулировать общий принцип, согласно которому любое отношение человека к окружающим объектам всегда опосредовано его отношением к другому человеку. За отношением «человек – вещь» всегда скрывается отношение «человек – человек» в качестве исходного и определяющего. Назовем это утверждение принципом персонификации. Каждый из нас живет в окружении многих привычных вещей, которые он использует строго определенным образом. Может показаться, что способ употребления, способ действия прежде всего определяется свойствами самой вещи, что с ней просто нельзя обходиться иначе. Но это не так. Запустите в свою квартиру стадо обезьян и вы убедитесь, что знакомые вам предметы гораздо более полифункциональны, чем вы думали раньше. И если вы не переворачиваете свой письменный стол, не раскачиваетесь на люстре и не используете книжный стеллаж в качестве шведской стенки, то это вовсе не потому, что названные предметы сами не допускают столь безобразный способ их употребления. Они допускают, но это не принято. Иными словами, ограничивают нас не вещи, а нормативные системы, в рамках которых мы живем, т. е. другие люди. Способ действия с предметом не вытекает непосредственно из его физических, химических и прочих свойств. Эти свойства, конечно, ограничивают круг возможных действий, но оставляют его всегда практически бесконечным. И в этом плане нет никакой существенной разницы между письменным столом и фигурой на шахматной доске. В обоих случаях мы имеем дело с определенным материалом, но письменный стол и ферзь – это не материал сам по себе, а функция, которая закреплена за этим материалом и «записана» в нормативной системе общества. Вернемся теперь к исходному пункту нашего рассуждения. Рассматривая картину, человек должен как бы объединить две позиции: он должен понимать, что перед ним холст, и в то же время относиться к нему как к предмету совсем иной природы, например как к горному озеру. Абсолютизация любой из этих позиций уничтожает картину. Но разве не то же самое мы имеем в случае с шахматной фигурой или письменным столом? Человек должен понимать, что стол – это деревянный предмет, который можно резать ножом, жечь, использовать в качестве плота... Но в то же время он должен видеть в нем нечто такое, с чем совершенно невозможно поступать таким образом. Абсолютизация первой позиции ведет к уничтожению феномена стола, абсолютизация второй – это иллюзия совпадения феномена с материалом. В случае с картиной, например, мы можем настолько впасть в иллюзию, что захотим выкупаться в горном озере, в случае со столом мы можем уверовать, что он на самом деле не горит и не режется ножом. Ясно теперь, что мы имеем здесь дело с общей закономерностью, характерной для отношения человека к любым объектам, включенным в его деятельность. Ясен и механизм возникновения подобного рода ситуаций – это отсутствие однозначного соответствия объективных свойств вещи и способов ее использования. Первые изначально присуши материалу вещи, вторые обусловлены социальными нормативными системами, традициями, историческим опытом. В свете сказанного можно перейти к основному вопросу, который подлежит обсуждению: что собой представляет феномен идеального, с которым обычно связывают восприятие картины? Зритель, понимая, что он имеет дело только с размалеванным холстом, утверждает, что и горное озеро и виноград все же существуют, но существуют не материально, а идеально. Каков смысл этого утверждения и как оно возникает? Заметим, что нам пока при описании ситуации вовсе не требовалось вводить понятие идеального, мы обходились вполне материальными объектами и процессами. Вещи, включаемые в человеческую деятельность, – это материальные вещи. Но в такой же степени материальны и нормативные системы, задающие способы употребления этих вещей, – это вполне материальные процессы воспроизводства деятельности, основанные на способности к подражанию. Восприятие картины требует понимания языка живописи, который, кстати, может быть и очень условным, а усвоение языка – это воспроизведение существующих вокруг нас образцов поведения других людей. Ничего «идеального» здесь нет, оно ускользает от нашего анализа, как некая бесплотная тень. Крестьянин старой русской деревни верил, что у него в хате живет домовой. Что значит верил? Он общался с ним, разговаривал, вел себя соответствующим образом... Казалось бы, вот типичный случай: домового в действительности нет, но он существует идеально, иначе как объяснить поведение крестьянина? Ничуть не бывало! Перед нами обычное явление рассмотренного типа, когда поведение человека не может быть однозначно выведено из ситуации, но определяется социальной наследственностью, традицией, т. е. в конечном итоге нормативными системами общества И все же именно здесь возникает этот загадочный феномен идеального. Платон пишет о геометрах: «Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали а не для той диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же самое относится и к произведениям ваяния и живописи: от них падает тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленный взором» (Платон. Соч. Т. 3(1). С. 318). Что же такое этот платоновский «четырехугольник сам по себе», как он появляется? Ведь ситуация очень напоминает ситуацию с шахматным ферзем или с домовым. Работая с чертежом и строя свои утверждения, геометр не обращает внимания на неровности линий, на то, что диагональ проведена не до конца, и на многие другие небрежности исполнения. Этих небрежностей для него как бы не существует. Иначе говоря, поведение геометра и его утверждения не могут быть выведены из особенностей того объекта, с которым он непосредственно действует, он действует как бы с чем-то других. И Платон вводит представление об особых идеальных объектах. Пора высказать основной тезис, ради которого пишется эта статья. Идеальное – это феномен определенной точки зрения, определенной позиции, точнее, это феномен неполноты выделения исследуемой системы. Стоит нам ограничить себя анализом отношения «человек –предмет», «человек – вещь», стоит забыть принцип персонификации, и сразу оказывается, что поведение человека не выводимо из объективной ситуации, а иногда прямо ей противоречит. Оперируя непосредственно с конкретным, чувственно данным предметом, человек в то же время действует как бы с чем-то другим. Видимый предмет точно одевается невидимыми гранями, которые определяют поведение человека. Это другое и есть идеальное, ибо в рамках выделенной системы его никак нельзя определить, кроме как через противопоставление материальной вещи. Но стоит расширить систему, раздвинуть ее рамки, и станет ясно, что человеческое поведение детерминировано другими людьми, обществом в целом, что оно глубоко социально по своей природе, и что феномен идеального – это только эхо или тени, подлинные причины которых не попали в поле нашего зрения. Значит ли это, что понятие идеального не имеет смысла? Нет, конечно. Далеко не всегда рационально рассматривать ту или иную систему в целом, учитывая все многообразие взаимосвязей. Но за неполноту выделения всегда приходится платить и, в частности, понятиями, подобными понятию идеального. Идеальное в этом плане очень напоминает силы инерции. Представим себе закрытый вагон, который движется равномерно и прямолинейно. На полу вагона лежит биллиардный шар. Допустим теперь, что мы начинаем тормозить, прикладывая каким-либо образом к вагону силу, например, прижимая к колесам тормозные колодки. Вагон замедляет свое движение, а биллиардный шар, продолжая двигаться равномерно и прямолинейно, приобретает ускорение относительно стенок вагона. Так выглядит все с точки зрения внешнего наблюдателя, выделяющего всю систему взаимодействий. Ему, в частности, очевидно, что на шар не действует никакая сила, сила действует на вагон. Совсем иная ситуация складывается для наблюдателя внутри вагона. Он вообще не знает, движется вагон или покоится, но вдруг начинает замечать, что все вещи в вагоне приобретают ускорение. Ускорение можно объяснить только наличием силы, но окружающие его вещи ни с чем не взаимодействуют, что явно противоречит третьему закону Ньютона. И тогда внутренний наблюдатель вводит представление об особых силах, о силах инерции, которые являются фиктивными, но позволяют ему понимать происходящее, не выходя за пределы вагона. Фиктивные силы – это плата за неполноту выделения системы. Также и понятие идеального. Ограничив себя рассмотрением отношения «человек – вещь» или «объект – субъект», мы как бы попадаем в закрытый вагон, но сразу обнаруживаем, что в рамках выделенного таким образом мира мы далеко не все можем объяснить. И тогда ми вводим особые «идеальные силы», которые в действительности есть лишь проявление реальных социальных сил. Специальный детальный анализ этих последних далеко не всегда оправдан, ибо представляет собой особую и чаще всего достаточно сложную задачу. Не всегда поэтому рационально выходить из «вагона». Утверждая, например, что обыкновенная деревянная фигурка идеально является ферзем и поэтому обладает неизмеримо большей ценностью и силой, чем фигурка-пешка, мы, с одной стороны, объясняем, что надо исходить не из материальной природы этих предметов, а с другой, избавляем себя от громоздкого и ненужного в данном случае анализа исторического формирования нормативных систем шахматной игры. Итак, феномен идеального обусловлен нашей позицией, нашей точкой зрения при описании человеческой деятельности. Единство мира в его материальности. Однако любое отношение человека к объекту определяется не только его индивидуальными свойствами или свойствами объекта, но и сложной совокупностью социальных сил, имеющих свои особые законы развития. Упрощая эту картину и замыкаясь в рамках отношения «объект – человек», мы вынуждены взамен реальных сил вводить фиктивные идеальные «силы» в качестве своеобразной платы за неполноту выделения системы. Это нужно для объяснения тех явлений, которые никак не вытекают из материальных характеристик взаимодействующих сторон. В такой же степени и силы инерции в нашем примере предназначены для объяснения ускорений, не связанных с взаимодействием тел внутри вагона. Вопросы 1. Какие три позиции может занимать человек, рассматривая произведения живописи? 2. В какой из них отсутствует и в какой из них присутствует феномен идеального? 3. Что именно люди имеют в виду, когда употребляют слово «идеальное» в данном случае? 4. Что общего между шахматной фигурой и художественным изображением (изображенным на холсте горным озером)? 5. В каких двух формах передается опыт деятельности от человека к человеку? Как они связаны друг с другом? 6. Что такое социальная нормативная система? Чем она напоминает волну? Как понять утверждение, что человек живет в силовом поле многих нормативных систем? 7. В чем состоит принцип персонификации? Как помогает его выявить поведение стада обезьян, запущенных в нашу квартиру? 8. Что общего между письменным столом и шахматной фигурой? 9. Какую общую закономерность можно выявить в отношении человека к любым объектам, включенным в его деятельность? 10. Материальная природа социальных нормативных систем и источник возникновения загадочного феномена идеального, когда поведение человека не может быть однозначно выведено из ситуации, в частности, из материала вещей, с которыми он оперирует. 11. Идеальное как феномен определенной точки зрения при описании человеческой деятельности: – феномен неполноты выделения системы; – феномен невыводимости поведения человека из объективной ситуации; – феномен идеального как тень или эхо, подлинные причины которых не попали в поле нашего зрения; – идеальные силы как проявление (материальных) реальных социальных сил. Розов М.А. Способ бытия математических объектов (Методологические проблемы развития и применения математики. М., 1985) Онтологический статус математических объектов или, что то же самое, способ их бытия – это одна из проблем философии математики, которая, начиная еще с Платона, породила огромную литературу. Мы не претендуем в этой маленькой заметке на анализ существующих здесь дискуссий и точек зрения, а ограничимся рядом соображений, цель которых показать тесную связь названной проблемы с аналогичными фундаментальными проблемами современных гуманитарных наук. Впрочем, на наличие такой связи в принципе уже указывали и сами математики (1). В качестве отправного пункта для рассуждения возьмем точку зрения Р. Л. Гудстейна на природу натуральных чисел. Гудстейн сопоставляет арифметику с шахматами и пишет: «...шахматный король – это одна из ролей, которую фигура играет в шахматной партии, – роль фигуры, а не сама фигура. Точно так же различные роли, которые цифры играют в языке, это и есть числа. Арифметические правила, аналогично шахматным правилам, формулируются в терминах дозволенных преобразований числовых знаков» (2). Шахматные фигуры можно сделать из дерева или из пластмассы, цифры можно писать карандашом на бумаге или вырезать на камне... Материал не имеет значения, все определяют правила «ходов», которые и задают роли. Приведенную точку зрения не трудно обобщить, ибо большинство окружающих нас предметов тоже выполняют определенные роли в нашей жизни и практической деятельности, роли, которые отнюдь не заданы однозначно самим материалом этих вещей, но предполагают наличие некоторых правил, обычаев, традиций... Да и сами мы постоянно играем определенные социальные роли. Мы сталкиваемся здесь с двумя разными подходами к одному и тому же явлению. Можно играть в шахматы, углубляясь в анализ позиций, и совершенно не интересоваться тем привычным, но, вообще-то говоря, удивительным фактом, что обыкновенные деревяшки вступают друг с другом на доске в многообразные отношения, напоминая чемто актеров на сцене. Мы как бы попадаем в этом случае во власть некоего «гипноза» шахматной игры и «грезим» наяву, наблюдая, как борются друг с другом деревянные фигурки. Но можно посмотреть на все и с другой точки зрения, поставив вопрос о механизмах этого «гипнотического» воздействия, о причинах возникновения самой шахматной иллюзии. Это другой подход, неинтересный принципиально важный для философа, для гносеолога. для шахматиста, но Аналогичным образом можно впадать в иллюзию искусства, сопереживая героям художественного произведения, а можно ставить вопрос о способе бытия этого мира, который удивительным образом вырастает со страниц книги. Мы подходим здесь к традиционной проблеме литературоведения: что такое литературное произведение, каков его онтологический статус? (3). Применительно к математике эту проблему достаточно четко поставил еще Платон. Ему было ясно, что геометр, рисуя на песке четырехугольник и проводя диагональ, говорит при этом о каком-то другом четырехугольнике и о другой диагонали. Что же собой представляют эти идеальные геометрические объекты? (4). Речь при этом идет не о свойствах этих объектов, не о способах их построения, а о способе их бытия. Разницу выделенных подходов можно проиллюстрировать с помощью следующей аналогии. В калейдоскопе мы наблюдаем смену различных узоров, но ничего не узнаем при этом о строении калейдоскопа. Иными словами, нам не ясен при этом способ бытия или механизм существования этих узоров. Напротив, разобрав калейдоскоп, мы получаем возможность описать его устройство, но не наблюдаем при этом никаких узоров. Выяснение способа бытия математических объектов, как и другие указанные нами аналогичные проблемы, требуют разборки «калейдоскопа». Но вернемся к ролевой концепции натуральных чисел. С шахматами дело обстоит, казалось бы, просто, ибо роли фигур заданы здесь достаточно четкими правилами ходов, и трудно представить себе шахматы без этих правил. Но так ли в случае арифметики? Натуральные числа и навыки счета появились в практике человека много тысячелетий тому назад, чуть ли не на заре развития человечества (5), а аксиоматизация арифметики – это дело второй половины XIX века. «До XIX века, – пишет Н. Бурбаки, – ученые, повидимому, не пытались определить сложение и умножение натуральных чисел иначе, чем путем прямого обращения к интуиции» (6). Но тогда возникает принципиальный вопрос: чем задана роль числовых знаков в языке в условиях отсутствия явно сформулированных правил? Вопрос этот не новый, и прежде всего он уводит нас в лингвистику, в проблему выяснения механизмов существования самого языка. Очевидно, что носитель языка может и не знать правил грамматики. Как же он говорит? Можно ли считать, что те правила, которые формулирует грамматика, до этого как бы существуют имплицитно, т. е. в скрытом виде, в сознании говорящего? Как он приобрел эти правила, если они не являются врожденными? Все эти вопросы породили немало дискуссий и точек зрения (7). Мы сформулируем здесь одно из возможных решений, которое будет иметь принципиальное значение для всего дальнейшего обсуждения. Ребенок заимствует язык непосредственно из той языковой среды, в которой он развивается. Но это значит, что у него нет никаких иных путей усвоения языка, кроме как воспроизведения образцов речевого поведения, которые демонстрируют ему взрослые. Мы можем отвлечься от конкретных физиологических или психологических механизмов такого воспроизведения. Важно следующее: так называемые имплицитные правила грамматики существуют для ребенка только в виде конкретных образцов, ребенок усваивает язык, подражая взрослым. Речевое поведение воспроизводится и передается от поколения к поколению как своеобразная эстафета, и подражание – это механизм передачи эстафетной палочки. Системы, которые воспроизводят себя на уровне подражания, на уровне процессовэстафет, мы будет называть нормативными системами (8). К их числу относится не только язык, не только речь, но в конечном итоге и все остальные виды человеческой деятельности, включая и деятельность в рамках науки. Шахматы – это тоже нормативная система. Во-первых, правила игры не могут быть сформулированы без языка, а во-вторых, далеко не весь шахматный опыт вербализуется в виде правил. Социальные процессыэстафеты напоминают волну, которая бежит по поверхности водоема, вовлекая в движение все новые частицы жидкости. Обычаи и традиции, научные школы, литературные направления – это частные случаи такого рода «волн». Они давно стали объектом специального исследования в гуманитарных науках, но в основном в плане диахронии, а не синхронии, в плане анализа исторической преемственности, а не при выяснении способа бытия отдельных социальных явлений. Мы возвращаемся к двум способам описания, о которых уже говорилось выше. Можно описывать шахматы путем формулировки правил ходов, а можно говорить о традиции комбинационной игры или о традициях советской шахматной школы. Это два, казалось бы, совершенно разных типа подхода, два разных предмета исследования. Но мы забываем при этом, что сами шахматы как таковые с их правилами ходов воспроизводят себя только как нормативная система, т. е. существуют только в рамках определенных процессов-эстафет. Эти процессы есть механизм существования шахмат, способ их бытия. Возвращаясь к основной теме нашей статьи, можно сказать, что эстафеты – это способ бытия и математических объектов. А два вида описания, если продолжить аналогию с волной, напоминают следующее: можно описать распространение круговых волн на воде от упавшего камня, а можно выделить отдельную частицу жидкости и описать ее траекторию. Фиксируя правила шахматных ходов или правила оперирования с числовыми знаками, мы описываем не социальную «волну», а только то «возмущение», которое она вызывает в нашей деятельности, перекатываясь от поколения к поколению. Соотношение двух видов описания имеет принципиальное значение для гуманитарных наук. Начнем с примера. Допустим, что историк математики изучает «Начала» Евклида и хочет описать способы рассуждения древнегреческого геометра. Он легко обнаружит, что Евклид в своих доказательствах исходит из некоторых допущений, которые нигде в явной форме не сформулированы. Как он должен поступить? Первый путь – сформулировать эти допущения, т. е. те правила, по которым действовал Евклид. Но сделав так, историк получит новую аксиоматику, может быть, аналогичную аксиоматике Гильберта, и не столько опишет работу Евклида, сколько продвинет геометрию вперед. Второй путь – предположить, что Евклид действовал вовсе не по правилам, а просто воспроизводил существующие в его время образцы математических рассуждений. Но каково содержание этих образцов? Описать их – это значит сформулировать некоторые правила или допущения, которых у Евклида не было, а простое указание делает описание почти бессодержательным. Вопрос упирается в следующее: можно ли объединить два типа описания, насколько правила, которые мы формулируем, адекватно передают содержание образцов? Ответ предполагает уточнение того, что мы понимаем под воспроизведением социальных образцов. Известно, что акты подражания имеют место уже у животных, было бы, однако, большой ошибкой рассматривать человеческую способность действовать по образцам как чисто биологическое подражание. Животные за редким исключением сильно ограничены в своем выборе как способов действия, так и объектов оперирования. Что касается человека, то он, вообще говоря, имеет здесь огромное количество степеней свободы. Проиллюстрируем возникающие в связи с этим трудности на примере так называемых остенсивных определений. Представьте себе, что вам указали на предмет, имеющий форму раковины, и сказали: «Это пепельница». Что обозначает введенное таким образом слово и как вы должны его в дальнейшем употреблять, следуя образцу? Вероятно, словом «пепельница» вы должны обозначать все то, что похоже на продемонстрированный предмет, но в том-то и дело, что на него в том или в другом отношении похоже почти все. Слово может обозначать предмет, стоящий на столе, определенный цвет или материал, форму раковины, функциональное назначение и многое, многое другое. Это значит, что отдельно взятый образец не задает четкого множества возможных реализаций или, что то же самое, соответствующая нормативная система не является стационарной. Чем же тогда объяснить, что в обществе мы сталкиваемся с достаточно устойчивыми традициями, что шахматисты не нарушают правила игры, что, используя язык, мы в основном понимаем друг друга? Объяснить это можно социальным контекстом, тем, что человек имеет дело не с изолированными образцами, а с множеством взаимосвязанных образцов. Именно социальный контекст и ограничивает наши степени свободы. В приведенном примере с пепельницей мы не будем, скажем, использовать новое слово для обозначения цвета, ибо соответствующее обозначение уже есть, не будем обозначать предмет, стоящий на столе, ибо уже имеем для этого другие языковые средства ... Сказанное означает, что стационарность нормативных систем – это социальный, а не биологический феномен. Впрочем, если быть точным, то можно говорить только об относительной стационарности. Вернемся теперь к поставленному вопросу. Описывая содержание образца, мы стремимся сформулировать некоторое правило деятельности, т. е. задать четкое, насколько это позволяет стационарность системы языка, множество возможных реализаций. Суть, однако, в том, что сам образец этого множества не задает. Мы, следовательно, приписываем ему отсутствующие у него характеристики. Можно, разумеется, брать не отдельный образец, а некоторую их систему, но и в этом случае указанная трудность имеет место, если, конечно, мы не сталкиваемся с идеальным случаем абсолютно стационарной нормативной системы. Думается, однако, что таких систем вообще не существует. А это значит, что стремление максимально точно описать содержание образцов неминуемо связано с некоторым искажением этого содержания (9). Конкретные трудности, которые при этом возникают, можно проиллюстрировать на примере фиксации языковых норм. Очевидно, что для такой фиксации нам необходим определенный языковый материал, т. е. определенный набор текстов. Но чем больше текстов мы соберем, тем больше они будут «размазаны» во времени и тем меньше наши правила будут соответствовать реальному употреблению языка, ибо сам язык изменяется. Казалось бы, надо, наоборот, ограничить набор текстов, сузив одновременно и отрезок времени. Но, как уже отмечалось, отдельно взятые образцы не задают множества возможных реализаций. «Неадекватность кодификации литературной норме, – пишет В. А. Ицкович, – объясняется ... ретроспективностью кодификации, ее ориентацией на образцы хронологически удаленные от современности» (10). Вернемся теперь к математическим объектам и подведем некоторые итоги. Основная наша мысль в том, что объекты математики такие, например, как натуральные числа,– это некоторые роли соответствующих обозначений, которые воспроизводят себя по принципу нормативных систем. Иными словами, математические объекты существуют как нормативные системы. Это и есть их «устройство» или способ их бытия. Сказанное выше означает их независимость от индивидуального человеческого сознания, ибо они в своем бытии обусловлены всем контекстом культуры, всей практикой человечества и противо- стоят отдельному человеку или целому поколению как явление не менее объективное, чем язык. Но будучи явлением культуры, они и развиваются не по законам естественнонаучных объектов, а вместе с культурой и по ее законам. Здесь стоит вернуться к аналогии с калейдоскопом, ибо ее необходимо существенно дополнить. Наблюдение узоров и разборка калейдоскопа – это два несовместимых эксперимента, однако, описания устройства и узоров вполне совместимы. Не так в гуманитарных науках, ибо выделенные выше два типа описаний выступают как несовместимые, но дополнительные. Указание на образцы не дает возможности точного прогнозирования характера деятельности, а по возможности точное описание того, что и как делается, не соответствует полностью содержанию образцов. Последние могут быть описаны различным образом в разных культурных контекстах и в этом плане потенциально бесконечны по своему содержанию. Сказанное означает, в частности, что аксиоматизация и формализация математики, связанная с заменой непосредственных образцов, задающих те или иные роли, строгими «правилами» – это есть перестройка и самого объекта математики. Впрочем, скорей всего, мы имеет здесь нечто подобное развитию языка. Кодификация последнего в виде различного рода словарей, учебников и грамматических справочников, конечно, влияет на его развитие, но отнюдь не исключает роль непосредственных образцов речевой деятельности. Потенциальная бесконечность содержания образцов невольно вызывает ассоциации с некоторыми аспектами интуиционистского понимания математики. Излагая метафизику интуиционистов, X. Карри отмечает, что они постулируют, в частности, следующую характерную черту своей изначальной интуиции: «она не может быть адекватно описана никакими заранее составленными правилами: доказательство справедливо, когда оно является построением, отдельные шаги которого непосредственно очевидны; независимо от того, каковы данные правила, можно найти правильное доказательство, которое не согласуется с этими правилами» (11). Мы не собираемся полностью присоединяться к метафизике интуиционизма, но в данном конкретном пункте она допускает вполне рациональную экспликацию в рамках введенных представлений. И суть дела не в характере «изначальной интуиции», а в нестационарности нормативных систем и в невозможности вполне адекватно и точно описать содержание образцов деятельности. Но в этом, как нам представляется, залог вечной молодости математики. Вопросы 1. В чем суть вопроса о способе бытия математических объектов? 2. Покажите однотипность вопросов о способе бытия числа, литературного произведения, шахматной фигуры. 3. В чем состоит «гипноз» шахматной игры или иллюзия искусства, когда мы сопереживаем героям драматической постановки, хотя артист на сцене вовсе не убивает героя? 4. Какие два вида описания выделяет М.А. Розов при исследовании шахмат, узоров калейдоскопа, чисел? 5. В чем различие постановки вопроса о способе бытия числа и шахматной фигуры? чем задана роль числовых знаков в языке в условиях отсутствия явно сформулированных правил? 6. Очевидно, что носитель языка может и не знать правил грамматики. Как же он говорит? Можно ли считать, что те правила, которые формулирует грамматика, до этого как бы существуют имплицитно, т. е. в скрытом виде, в сознании говорящего? Как он приобрел эти правила, если они не являются врожденными? 7. Какое возможное решение предлагает автор статьи, которое имеет принципиальное значение для всего дальнейшего обсуждения?. 8. Что такое воспроизведение социальных образцов? Чем они отличаются от актов подражания у животных? 9. Как Вы понимаете тезис о том, что отдельно взятый образец не задает четкого множества возможных реализаций 10. Какова роль контекста в стационарности нормативных систем (социальных эстафет)? 11. Какое решение вопроса об «устройстве» или способе бытия математических объектов предлагается в статье? 12. Как Вы понимаете тезис о том, будучи явлением культуры, «математические объекты» и развиваются не по законам естественно-научных объектов, а вместе с культурой и по ее законам»? 13. Поясните тезис: «аксиоматизация и формализация математики, связанная с заменой непосредственных образцов, задающих те или иные роли, строгими «правилами» – это есть перестройка и самого объекта математики» (стр. 74) Приведите примеры. С. П. Новиков Математика на пороге XXI века (http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50768) Предлагаемая вниманию читателей статья написана известным российским математиком академиком С. П. Новиковым, работающим в настоящее время в Мэрилендском университете (США). Не всегда солидаризируясь с оценками некоторых событий и деятельности отдельных ученых, данными автором, редколлегия разделяет его обеспокоенность за будущее физико-математического сообщества у нас в стране и в мире. Введение Вторая половина XX века и ее итог: кризис физико-математического сообщества в России и на Западе Физико-математическое сообщество для меня - это математика и теоретическая физика. В нем я вырос, работал и работаю. Именно к нему относятся большинство тех тревожных мыслей, которые я постараюсь здесь изложить. Немалая их часть зародилась у меня два-три десятилетия назад и созревала много лет. Однако тогда я связывал все эти процессы только с общим гниением и распадом коммунизма, нарастанием его несовместимости с высокоразвитым интеллектуальным сообществом, с углублением деловой некомпетентности верхов, особенно возросшим в брежневский период. Я думал, что эти процессы характерны только для научного сообщества в СССР, распад которого неизбежен исторически (хотя никто из нас не ожидал, что этот распад произойдет так скоро). Сейчас, поработав ряд лет на Западе и посмотрев на ситуацию в наиболее развитых странах, я скажу так: тревога по поводу эволюции и судьбы физикоматематического сообщества у меня в последние годы неуклонно нарастает. Я говорю о судьбе нашего сообщества во всем современном цивилизованном мире, а не только в России, переживающей уже десять лет трудный переходный период, который вряд ли завершится даже еще за десять лет. Эволюция математики XVI—XIX веков Мое поколение математиков и физиков-теоретиков не ожидало встретить подобный кризис. В 50-х гг. XX в., когда мы учились в университетах, это сообщество стояло очень высоко. Позади было уже четыре-пять веков неуклонного развития наших наук. Думали, что так и будет продолжаться всегда. Эволюцию математики и математического мышления о законах природы в этот период я представляю себе так. XVI в.: развилась алгебра многочленов; решили алгебраические уравнения 3-й и 4-й степени; как главный продукт было кардинально усовершенствовано учение о числе, ввели и начали использовать отрицательные и комплексные числа - отрицательные числа прижились сразу, а вот борьба за комплексные числа была долгой, до нашего времени. XVII в.: появились координаты, позволившие перевести геометрию на язык алгебраических формул и расширить ее предмет; стал развиваться анализ; были сформулированы математические законы, лежащие в основе многих явлений природы, вариационный принцип Ферма для световых лучей, принцип Галилея, закон Гука, универсальный закон гравитации, общие законы Ньютона. Возникли первые значительные прецеденты математического вывода законов природы из фундаментальных принципов (недостаточно оцененный современниками вывод закона преломления света на границе двух сред из вариационного принципа Ферма и вывод законов Кеплера Ньютоном, ставший основой современного научного метода). Появились идеи теории вероятностей. XVIII в.:развитие анализа превратилось в мощный поток, включая линейные дифференциальные уравнения и метод собственных колебаний, вариационное исчисление и многое другое. Возникли дифференциальная геометрия, теория чисел, развилась теория вероятностей. Механика, включая небесную механику, стала зрелой далеко развитой наукой. Возникла гидродинамика. XIX в.: математический поток, включая теорию вероятностей, продолжает набирать силу. Возникает комплексный анализ; проблема разрешимости алгебраических уравнений порождает теорию римановьгх поверхностей и теорию групп; создается линейная алгебра; углубляется изучение симметрии и возникают алгебры Ли; геометрия, теория чисел, теория римановых поверхностей, теория дифференциальных уравнений, теория рядов Фурье и др. превращаются в мощные развитые дисциплины. Появились новые разделы физики со своими математическими законами: электричество и магнетизм, рожденная техникой термодинамика, затем - статистическая физика и кинетика. В конце XIX в. возникли первые ростки абстрактных разделов математики - такие, как теория множеств и функций действительного переменного. Возникли качественно-топологические разделы математики (качественная теория динамических систем и топология). Появились первые идеи математической логики. В сообществе физиков стало утверждаться глубокое осознание недостаточности и даже противоречивости классической физики, построенной на механике Ньютона и законах классической электродинамики. Следует иметь в виду, что за этот период произошел грандиозный скачок в развитии технологии. Безусловно, развитие физики было в значительной мере его продуктом. Математическое понимание законов природы, о котором мы говорили, предварялось экспериментальными открытиями. Такой пришла наша наука к началу XX в. Лидеры математики этого периода Пуанкаре, Гильберт, Г.Вейль - олицетворяют собой рубеж, отделяющий XIX в. от XX, историю от «нашего» времени (нашего - в глазах моего поколения, для которого многие из математиков, выросших в 20-30-х гг. XX в., были старшими современниками, с которыми довелось общаться). Говоря о теоретической физике, предыстория завершается для меня вместе с Эйнштейном и Бором, т.е. с возникновением релятивистской и квантовой физики. Уже их, так сказать, научные преемники - это ученые, у которых учились люди моего поколения. Я не претендую здесь на изложение истории. Да простят мне читатели, если я не назвал многих важных областей. Моя цель совершенно другая: продемонстрировать, что это развитие было мощным подъемом уровня знаний; прошлые достижения осваиваились следующими поколениями, подвергались унификации и упрощению. Новое органически соединялось со старым. Образование до середины XX века Мощный постоянно усиливающийся поток знаний в точных теоретических математизированных науках постоянно требовал пересмотра и модернизации образования. В конце концов, к началу XX в. сложилась устойчивая система, где первый важнейший этап составила общеобразовательная школа - «гимназия» - от самого начала до 17—18-летнего возраста (всего 10-11 лет), и за тем специализированная высшая школа - университет. В XX в. потребовалось еще добавить «аспирантуру» - несколько лет еще более специализированного обучения, направленного на освоение глубины узкой математической специальности и на раскрытие творческих способностей, на начало научных исследований. В разных странах эта система незначительно варьировалась, поразному называлась, но цифра 8-9 лет на полный курс (высшая школа + аспирантура) всюду была примерно одной и той же. Даже гимназическое образование не было еще общеобязательным в первую половину XX в., но требуемый «для всех» уровень постепенно повышался в передовых странах. Во второй половине XX в. последний этап гимназического образования стали делать более специализированным, чтобы успеть освоить больше математики, физики и др. Основной чертой этой системы была весьма жесткая система экзаменов: по математике, например, экзамены были ежегодно, начиная с 10-летнего возраста. Начальные этапы - арифметика, геометрия, алгебра - изучались очень твердо. Любой важный предмет кончался экзаменом, но математика изучалась особенно назойливо - как и умение грамотно писать. Создавался твердый фундамент, на котором можно было строить будущее математическое (и прочее) образование. Что особенно важно, этот фундамент создавался достаточно рано: надо успеть потом освоить и высшую математику, и науки, на ней построенные (как теоретическую физику, например). Упустишь время, отложишь обучение - потеряешь очень много. Чем больше возраст, тем труднее влезают в голову знания, да и жизнь начинает предъявлять свои требования, мешает учиться бесконечно долго. Не последним по важности является и необходимость рано выработать устойчивую привычку к напряженной работе, к изучению математики, к логической точности, необходимое упорство и способность концентрировать свой мозг на этом. Эта способность дается от природы не всем людям, и без тренировки с раннего возраста она теряется. Чтобы облегчить эту тренировку, привить навыки и любовь к математике и подобным наукам, с какого-то времени стали практиковаться добровольные математические кружки и олимпиады. Они срабатывали весьма эффективно. Весь этот образовательный комплекс - достижение, от которого нельзя было отказываться без риска потерять все научное образование в математике. Математика: XX век Первая половина XX в. - это период безраздельного господства теории множеств в идеологии математики. Развитие самой теории множеств привело к столь общим абстрактным концепциям и мысленным построениям, что возник вопрос об их осмысленности, непротиворечивости. Это способствовало интенсивному развитию математической логики, обсуждению непротиворечивости аксиоматической полноты самой теории множеств и всей математики. На первый план математических исследований выдвинулись основания математики, а также проблемы обоснования, строгого доказательства даже при взаимодействии математиков с естественными науками и приложениями. Сообщество математиков в 20-х гг. окончательно оторвалось от сообщества физиков-теоретиков. Изучение высшей математики стало ориентироваться исключительно на единое строгое изложение. Это привело к сильному сокращению содержательного изучения тех разделов математики, которые ориентировались на использование в естественных науках. В особенности это относится к современной теоретической физике, которую сообщество математиков не освоило. В СССР возникла парадоксальная ситуация, когда механики-классики оставались вместе с математиками, в то время как современная физика ушла в отдельные факультеты университетов. Нечто в этом роде произошло в 20-х гг. и на Западе, но там механики, близкие к приложениям, в большей степени разошлись с математиками, чем у нас: с математиками остались только те, кто «доказывает строгие теоремы» хотя бы как часть своей работы. Система того образования, которое получило мое поколение математиков в СССР, складывалась в 30-50-х гг. Общая физика еще изучалась, но изучения современной теоретической физики практически не было. В конечном счете, лишь самые элементы специальной теории относительности вошли в завершающие курсы физики (в МГУ передовые механики внедрили спецтеорию в начальные курсы для механиков еще через 30 лет, в 70-е гг.); общая теория относительности и квантовая теория оставались неизвестными математическому образованию. Первые попытки их внедрить начинаются примерно с 1970 г., и их нельзя назвать успешными. В этой истории немало субъективных моментов: еще в 20-х гг. консервативные механики вроде Чаплыгина пренебрегали этими новыми науками, считали их западной чушью. П.С.Александров рассказывал мне, что Чаплыгин запретил П.Урысону включать новую тогда общую теорию относительности в его аспирантский экзамен. Это - наша специфическая русская черта - склонность к консерватизму, к отрыву от мировой науки. Даже Чебышев в XIX в., при своем блестящем аналитическом таланте был патологическим консерватором. В.Ф.Каган рассказывал, что, будучи молодым приват-доцентом, он встретил старого Чебышева, пытался поведать ему о современной геометрии и т.д., а тот презрительно высказался о новомодных дисциплинах типа римановой геометрии и комплексного анализа. Созданная им школа была сильной, но и с сильной склонностью к провинциализму. Французская школа после Пуанкаре, начиная с Лебега и Бореля, пошла по ультраабстрактному пути и создала в Париже (и затем в мире) глубокий ров между математикой и естественными науками. Отдельные звезды (вроде Э.Картана и Ж.Лере), которым этот ров не нравился, при всем своем личном авторитете оказались изолированы. Блестящие группы парижских математиков, возникшие в XX в., культивировали и углубляли этот разрыв, выступили идеологами полной и единой формализации математического образования, включая школьное. Мы называем эту программу «бурбакизмом». По счастью, хотя основатели Московской математической школы Егоров и Лузин - вывезли теорию множеств и функций из Парижа в начале XX в., ряд их учеников в 20-х гг. (когда были еще открыты контакты) попал под влияние наиболее мощной и идейно богатой тогда школы Гильберта. В результате московско-ленинградская школа пошла по более разумному пути, чем парижская, не исключая, а допуская и даже поощряя взаимодействие с внешним научным миром. Хотя Гильберт и провозгласил программу единой аксиоматизации математики и теоретической физики, но понимал он ее нетривиально. Например, еще на заре общей теории относительности он доказал замечательную глубоко нетривиальную теорему лагранжевости уравнений Эйнштейна релятивистской гравитации, которая долго оставалась недостаточно оцененной и впоследствии оказала большое влияние. Тем самым Гильберт подтвердил всесилие аксиомы, требующей, чтобы каждая фундаментальная физическая теория была лагранжевой. Это было абсолютно неясно в случае теории Эйнштейна. Каждый физик поймет ценность такого понимания «аксиоматизации и формализации» - это вам не деятельность по доказательству теорем существования и единственности сотен типов уравнений или строгое доказательство результатов, уже полученных физиками или инженерами. Из учеников Гильберта Г.Вейль сторонился теории множеств и формализации; он тесно взаимодействовал с физиками, внес фундаментальные идеи. Дж. фон Нейман был в числе идеологов формализации и аксиоматизации, но (как и Э.Нетер) понимал ее нетривиально, следуя примеру Гильберта. Они внесли большой и полезный вклад в эту программу, мы все работаем с введенными или упорядоченными ими понятиями. Школа Гильберта проводила в жизнь идеологию единства математики самой, и ее единство с теоретической физикой, идеологию «полезной формализации», пока она способствует единству. Не нужно искусственно, без нужды простое делать сложным. Например, общая теорема фон Неймана в спектральной теории самосопряженных операторов - это глубокая сложная теоретико-множественная теорема; но не следует ею подменять в процессе образования теорию простейших важных классов дифференциальных операторов, где можно и без нее. Изредка бывает, однако, что без общей теоремы не обойтись, особенно если коэффициенты сингулярны. А уж создавать тяжелую теоретико-множественную аксиоматизацию анализа начиная с элементов (как Бурбаки) - это уже чепуха, которая может только убить весь реальный анализ. Но это уже идеология математики более позднего периода. Математика и физика: 1930—1960 годы К сожалению, немецкая физико-математическая школа (включая австро-венгерскую) была рассеяна нацизмом. Выжившая часть звезд уехала в США и воспитала послевоенное блестящее поколение американских ученых. Как мне рассказывали французские физики, когда я работал в Париже в 1991 г., во Франции развитие квантовой физики пресек герцог Луи де Бройль, сыграв роль Лысенко во французском обществе физиков, несмотря на личный вклад в начало ее развития. Говорят, он оказался редкостно глуп и невероятно упорен в своей глупости. И при этом он имел громадное влияние. Все это вместе дало очень плохие результаты. В старой России не было серьезной школы теоретической физики до Первой мировой войны. Первые русские звезды мировой теоретической физики (Гамов, Ландау, Фок) возникли в 20-30-х гг. прямо из контакта с лучшей ультрасовременной европейской школой квантовой теории Н.Бора. Гамов вскоре остался на Западе, а Ландау и Фок создали в Москве и Ленинграде сильные школы. Мне кажется, Ландау вынес свой подход к созданию школы и стилю ведения семинара из общения с кругом Гильберта. Ландау разработал и реализовал в 30-50-е гг. фундаментальную идеологию - как и чему следует учить физика-теоретика. Мы еще обсудим его схему позднее. В СССР новые школы Ландау и Фока дополнились «автохтонами России», - сообществом, выросших из сильной школы классической физики Л.И.Мандельштама и др., особенно сильной в прикладных разделах; некоторые из них тоже внесли важный вклад в современную квантовую теорию. Любопытна история того, как круг чистых математиков 30-х гг. научно не принял, даже оттолкнул такую яркую личность, как Боголюбов. Конечно, дефекты в его совместных работах с Н.М.Крыловым были реальны, но разгром этих работ А.А.Марковым в 1930 г. был чрезмерен. После этого Боголюбову не верили. Он решил проблему Лузина о почти периодических функциях - проверять попросили Меньшова, который подменял серьезную проверку цеплянием - всегда чисто формально. Он и увидел множество ничтожных огрехов. Они поставили работу под сомнение. Будучи студентом в конце 50-х гг., я слышал от отца, что была такая работа Боголюбова в 30-х гг., но сомнения так и не развеялись. Позднее я узнал, что в мировой литературе по теории функций эта работа считается давно проверенной и классической, и сказал об этом отцу. Он презрительно отозвался о стиле Меньшова подменять проверку цеплянием. Так или иначе, Боголюбов со своим интуитивным, неточным стилем представлять доказательство, был отвергнут. Это оказалось для него полезным. Он потратил годы на изучение квантовой физики. Позднее, сделав в 40-х гг. блестящие работы по теории сверхтекучести, ему пришлось испытать серьезные трудности, входя в круг физиков: непривычный для него характерный стиль реальной и острой критики со стороны Ландау отравил ему первые выступления. С этой критикой он позднее справился (хотя и не сразу) и убедил Ландау, но отношения у них всегда оставались напряженно-ревнивыми. Играло роль и то, что личности типа Виноградова и Лаврентьева не без успеха использовали слабости Боголюбова, его склонность поддерживать сомнительных людей, в своей борьбе с «еврейской физикой». Позднее, в 70-е гг., после ссоры с Виноградовым, Боголюбов выкинул из своей головы весь этот балласт противных ссор. Все эти годы Боголюбов очень тщательно скрывал от своих друзей типа Лаврентьева, что именно он думает о его претензиях считать себя физиком, не зная, что это такое - современная теоретическая физика (хотя Лаврентьев был очень талантлив). Он говорил мне в начале 70-х гг., что круг математиков не представляет себе, сколько нужно выучить, чтобы понять, о чем говорят современные квантовые физики, облачая свои мысли в очень образные выражения, которые я не буду пытаться здесь передавать. В конце 30-х гг., как мне рассказывал отец, они пригласили Ландау в «Стекловку» прочесть им курс лекций - что такое квантовая механика и статфизика. Прослушав его, они были очень раздражены, им сильно не понравилась логическая путаница, как говорил мне отец. Потом, после выхода книги фон Неймана, двое из них - Колмогоров и он - с удовольствием ее прочли. Аксиоматически точный стиль - вот что им было нужно. Они хотели понять логику, а не квантовую механику. Третий - Гельфанд - решил выучить этот кусок физики так, как его представляют себе физики. Он присоединился к семинару Ландау, провел там десяток лет (или более). Гельфанд был единственным из прикладных математиков, который мог говорить с реальными физиками, а не только с механикамиклассиками, в период выполнения важных закрытых задач в 40-50-х гг. Он получил от физики много и для своей математики, - например, начал теорию бесконечномерных представлений, подхватив ее начало из мира физиков, решил поставленную физиками обратную задачу теории рассеяния (в этих исследованиях участвовали также Наймарк, Левитан и Марченко). Его ученик Березин вынес из семинара Ландау задачу построения фермионного аналога интеграла и т.д. Кроме названных, остальные ничего не учили более. Контакт с квантовой физикой закрылся для них; правда, бескорыстный любитель науки Меньшов и без тени понимания ходил на физический семинар еще много лет. Я думаю, что здесь перечислены все представители старшего поколения знаменитых московских математиков 30-40-х гг., чтото знавшие о квантовой физике XX в. Кстати, еще Хинчин пытался начать заниматься обоснованиями статистической физики, но его попытки были встречены физиками с глубоким презрением. Леонтович говорил моему отцу, что Хинчин абсолютно ничего не понимает. Из выдающихся ленинградских математиков в молодости А.А.Марков написал полезную работу об упорядочении основ теории идеальной пластичности, но позднее к естественным наукам не возвращался. Такой блестящий геометрический талант как А.Д.Александров, писал какую-то чушь, выводя из аксиом преобразования Лоренца стыдно даже вспоминать труды его школы на эту тему; хотя он и был физиком по образованию, но тут его склонность к аксиоматизации привела к абсурду. Квантовая физика пришла в ленинградскую математику позже, в 60-х гг., вместе с Л.Фаддеевым, который был в юности учеником Фока, прежде чем стал аспирантом Ладыженской и стал доказывать строгие теоремы. Впрочем, уши физика, дыры, вылезали из его доказательств. Лучшее он сделал, когда вернулся к роли квантового математического физика, близкого к кругу физиков. Особую роль в московской математике длительный период играл Колмогоров. Будучи идеологом теории множеств, аксиоматизации науки и оснований математики, он в то же время обладал замечательным умением решить трудную и важную математическую проблему, а также - быть разумным и дельным в приложениях, в естественных и гуманитарных науках. От аксиоматизации теории вероятностей на базе теории множеств он мог перейти к открытию закона изотропной турбулентности, от математической логики и тонких контрпримеров в теории рядов Фурье - к эргодической теории, к аналитической теории гамильтоновых систем, решая абсолютно по-новому старые проблемы. Он внес немаловажный вклад даже в алгебраическую топологию. В то же время, у него были странные, я бы сказал психические, отклонения: в образовании - школьном и университетском - он боролся с геометрией, изгонял комплексные числа, стремился всюду внедрить теорию множеств, часто нелепо. Болтянский рассказывал мне в лицах смешную историю, как Колмогоров изгонял комплексные числа из школьных программ. Короче говоря, как это ни нелепо, он имел те же самые идеи в образовании, что и бурбакизм, иногда даже более нелепые. Современной теоретической физики он не знал, базируясь лишь на классической механике, как естествоиспытатель. У Колмогорова, однако, был замечательный дар - находить узловые точки, открывать то, что будет впоследствии нужно очень многим. Посмотрите, как широко разошлись в современной науке конца XX в. его открытия 50-х гг. в динамических системах (вместе с его учениками). По счастью, сверхпрестижный Московский университет с его новым шикарным дворцом был отдан Сталиным под руководство крупного ученого и - что было весьма редко в этом поколении ведущих математиков-администраторов - порядочного человека, И.Г.Петровского. Идейное руководство математическим образованием было фактически отдано Колмогорову. Особенно важно было то, что на семинары мехмата и на заседания Математического общества во второй половине 50-х гг. по вечерам собирались все математики Москвы, кто хоть чего-то стоил творчески. Я нигде впоследствии не встречал во всем мире столь мощного, сконцентрированного в одном месте сообщества, покрывающего вес разделы математики. Таким был мехмат, когда я на нем учился. В обществе блистали молодые ученики Колмогорова - Арнольд, затем Синай, выросшие из теории множеств, теории функций действительного переменного, теории меры и динамических систем. Области, которыми они занимались у Колмогорова, представлялись мне последним взрывом идей теории множеств, лебединой песней Колмогорова. Это было очень модно, но мне теория множеств не нравилась. Я считал, что это - лишь наследие 30х гг., и слишком многих подлинно новых идей здесь уже не будет. Мое поколение: 60-е годы Вместе с Аносовым мы изучали современную топологию, но я - профессионально, а Аносов - как хобби. Он ориентировался на динамические системы и вскоре, под влиянием Смейла, сделал блестящую работу. Напротив, Арнольда стало явно тянуть к топологии. Некоторые вышедшие из нее новые подходы к анализу как идеология трансверсальности, общего положения, которые он узнал от меня, произвели на него большое впечатление. Я же с его помощью начал знакомиться с идеями геометрии, лежащими в основе гамильтоновой механики и гидродинамики несжимаемой жидкости, он навел меня на задачи теории слоений. Вскоре я начал посещать знаменитый семинар Гельфанда, много с ним беседовал. Его взгляд на математику мне был ближе всего, у нас возникло взаимопонимание. Я кончил аспирантуру в 1963 г., будучи уже известным топологом. Авторитет этой области в обществе быстро возрастал. В течение всех 50-х гг. шло много разговоров об этой новой замечательной области, не понятой Гильбертом, и ее потрясающих открытиях, где рывок в начале 50-х гг. был сделан блестящей французской школой. Считалось, что после Понтрягина в СССР возник длительный перерыв: первоклассных топологических работ, сравнимых с западными, не было 10 лет. Влияние топологии на алгебру, дифференциальные уравнения с частными производными, алгебраическую и риманову геометрию, динамические системы было весьма впечатляющим. Я видел свою цель в восполнении этой лакуны в советской математике. Пока я не набрал международный вес, я ни о чем другом не думал, хотя охотно слушал людей из других областей - старался понять их основы. В 1960-1965 гг. научная фортуна была на моей стороне, и я выполнил свои задачи. Продолжая работать в топологии, я стал думать: в чем смысл нашей деятельности? Где и когда возможны применения тех идей, которые мы сейчас развиваем? Для психически нормальной личности этот вопрос естественен и даже необходим. Любовь к математике его не отменяет. Уже тогда я ясно видел определенный комплекс неполноценности на этой почве у ряда чистых математиков, болезненное нежелание задавать этот вопрос. Напротив, другие математики, зарабатывая себе на хлеб в прикладном учреждении, работали там не без пользы, но без энтузиазма, так сказать, на ремесленном уровне, обслуживая кого-то; они не чувствовали никакой ущербности, но также видели истинную науку только в чистой математике, которой они занимались все свободное время. В начале 60-х гг. резко усилилась антиматематическая агрессивность нового класса вычислителей-профессионалов. Они начали пропаганду против чистой математики, говорили, что истинное развитие математики - это только вычислительная математика. Из старшего поколения математиков, безусловно, так считали А.Н.Тихонов и А.С.Кронрод. В среде вычислителей говорили, что чистые математики - это странное сообщество полусумасшедших, с птичьим языком, непонятным остальным, в том числе физикам и прикладным математикам, и их - чистых - скоро будут показывать в зоопарках. Видя все это, я много думал и стал для себя изучать соседние области математики механику, а затем и теоретическую физику. Другие разделы математики, которые считались менее абстрактными и более прикладными, чем топология, не дали мне ответа на мои вопросы: на самом деле ни с какими естественными науками и приложениями их сегодняшнее развитие связано не было, как я обнаружил, к сожалению. Еще худшее впечатление произвели на меня проблемы «теоретической прикладной математики», где используя терминологию, взятую из реальности, доказывают строгие теоремы о чем-то внешне похожем на реальность, но на самом деле от реальности бесконечно далеком. Престижной считалась только строгая теорема, и чем сложней доказательство, тем лучше; разумный реализм постановки, как и сам результат, ценились гораздо меньше. К сожалению, даже Колмогоров много пропагандировал «теоретическую прикладную математику». У него вообще была странная противоречивость личности: рекомендуя математикам заниматься подобными вещами, сам он, занимаясь естественными науками, включал у себя в голове какую-то кнопку и становился совсем другой личностью, далекой от чистой математики, и работал на основе других критериев. Я решил потратить годы и изучить теоретическую физику. Начал с квантовой теории поля, но понял, что начинать надо с элементов, а не с конца. Мое решение можно объяснить тем особенным авторитетом, которым обладала физика в моих глазах. Лекции Эйнштейна, Фейнмана, Ландау и ряда других крупных физиков произвели на меня громадное впечатление. Ясность и простота при изложении математических методов резко отличалась от того, как пишут современные математики за очень редким исключением. Эту естественность рождения математических понятий я увидел впервые в юности, изучая топологию периода наивысшего расцвета в изложении наиболее выдающихся топологов, где сложный и глубокий алгебраический аппарат как бы естественно и легко рождался из качественной геометрии и анализа, создавая двустороннюю интуицию об одних и тех же вещах. В физике похожие черты становились огромными, несравнимо более многообразными и доминирующими. Не случайно, кстати, в период трудностей фундаментальной физики в 80-90-х гг. квантово-полевое сообщество нашло прибежище именно в топологии. Кроме топологов, из математиков моего поколения к этому стилю стремился также Арнольд, - вот его скоро и потянуло в топологию. Удивительная математическая красота и необыкновенно высокий уровень абстрактности потребовала физика для формулировки законов природы; этот уровень еще далеко возрос в XX в., но именно сейчас физика соединила все это с невероятной практической эффективностью и произвела революцию в технологии. В этот период, я бы сказал, физика возглавляла прогресс человечества, а математика шла за ней, около нее. Атомные и водородные бомбы, компьютеры, революция в технологии, многие чудеса техники, преобразившие мир вокруг нас, - все это начиналось с идей и программ, выдвинутых такими лидерами физико-математических наук, как Ферми, фон Нейман, Бардин. В этом приняли участие многие физики. Все знают А.Д.Сахарова, например, вклад которого в создание водородной бомбы стал общеизвестен после того, как он стал диссидентом. В нашей стране в создании и развитии ракетно-комического комплекса на раннем этапе внесли большой вклад некоторые математики и механики, например М.В.Келдыш (брат моей матери). Советская власть долго держала заслуги таких людей в глубоком секрете, подставляя (не без собственного недальновидного участия Келдыша) фальшивые имена «псевдотворцов» на Запад, когда спрашивали - кто лидер, в период всемирного шума в конце 50-начале 60-х гг. Видимо, хотели сбить с толку империалистов, утаить от них реально важных людей хотя бы временно. Впоследствии реальные имена стали как-то называться публично, но было уже поздно - до мирового сообщества уже они не дошли - слишком много лжи было сказано до этого, такой туман напустили, что и не развеять. Что же - сами виноваты, эту ложь создавали с их участием. У нас, однако, весь круг ученых каким-то образом об этих людях знал по разговорам и слухам. Келдыш пользовался громадным уважением. Созданный им Институт прикладной математики (ИПМ) пользовался большим авторитетом в СССР. Считали в начале 60-х гг., что учреждение типа «Стекловки» - это нечто, уходящее в прошлое, ненужное. Математики должны работать вместе с учеными из других наук, в свободное время делая и чистую математику. Такова была точка зрения наиболее просвещенных прикладных математиков в тот период, включая Келдыша и Гельфанда. Да и антисемитизма в том институте не было; «Стекловка» казалась нелепым уродом. В отличие от сообщества механиков, ИПМ в большей степени держал тогда курс на союз с реальной современной физикой - быть может, не без идейного влияния Гельфанда на начальство. Все это разрушилось в конце 60-х гг. из-за брежневских политических перемен: из-за «грехов» математиков начальство испугалось и озлобилось, ИПМ деградировал полностью. «Стекловка» в конечном счете, оказалась более устойчивой: начальство там тоже усердствовало в злобе, она тоже деградировала в тот период, но потом воспрянула. Математическая красота физики: как ее понять? Красота и сила физики манили к себе. Я систематически изучал весь курс учебников в 1965-1970 гг. Кроме двух-тpex книг (по статистической физике и квантовой электродинамике) я учился по книгам Ландау-Лифшица. Еще раньше я увидел, что круг физиков не только богаче круга математиков научно, но и честнее. Так было в СССР, не на Западе. Ученики Л.И.Мандельштама - А.А.Андронов, М.А.Леонтович, И.Е.Тамм и позднее его ученик А.Д.Сахаров - при своем влиянии как ведущие прикладные теоретические физики, считались эталоном порядочности в физико-математическом сообществе страны, более того - во всем научном сообществе СССР. Да и аналога П.Л.Капицы среди математиков не было. Позднее Сахаров стал эталоном порядочности и во всем мире. Еще с 20-х гг. круг учеников Мандельштама - это круг близких друзей моих родителей. Руководящий круг математиков нашей страны в тот период был талантливым, но редкостно аморальным, я бы сказал бессовестным. Например, в 60-х гг. весь список академиков-математиков, за честность которых я бы поручился, состоял из моего отца П.С.Новикова, а также С.Н.Бернштейна, Л.В.Канторовича и единственно порядочного человека из крупных И.Г.Петровского - математиков-администраторов. Ленинградцы говорят, что В.И.Смирнов был абсолютно порядочным человеком, но он был посредственным математиком, я его не замечал. Мой брат, известный квантовотвердотельный физик Л.М.Келдыш, посмеиваясь, сказал мне в начале 60-х гг.: раньше считали, что математики удалены от жизни, а вот сейчас говорят, что математик - это чтото бесчестное, первейший жулик. Такие начали ходить среди физиков разговоры о математиках. В начале 60-х гг. он съездил за границу (в США) и, вернувшись, тайком сказал мне: «Звонили американские физики в Госдепартамент, при мне, согласуя мою поездку куда-то по США, а там им ответили: "Мы думали, что Келдыш - это женщина".». Очевидно, имелась в виду наша мать Л.В.Келдыш - известный специалист по теории множеств и геометрической топологии, она уже съездила пару раз за рубеж (не в США). Значение этой ремарки, поразившей Леонида Келдыша в США, было очевидно. Он не ожидал, что Мстислав Келдыш абсолютно неизвестен на Западе как ученый. Тот и сам это понял позднее, и это было для него трагедией. Возвращаясь к своей основной линии, я замечу, что тогда, в первой половине 60-х гг., травля чистой математики со стороны вычислителей не развилась далеко. Одной из важнейших причин этого было замечательное открытие новых частиц с помощью теории групп Ли и представлений. Возник целый мир кварков, новых скрытых степеней свободы в микромире. Немало надежд связывали тогда и с теорией функций многих комплексных переменных. Так или иначе, физики снова стали говорить, что нет законов природы, кроме законов математики. Они сочли, что необходимо резко усилить изучение современных математических идей. Вычислители - это что-то вроде ремонтных или строительных рабочих, надо начать самим их воспитывать, чтобы они стали более грамотны в физике, а вот абстрактная современная математика - это настоящая наука, ее ничем не заменишь. Усиление интереса к эйнштейновской гравитации и космологии в 60х гг. возродило необходимость римановой геометрии; начали поговаривать о привлечении к делу топологии. Все это отсрочило кризис во взгляде общества на математику на несколько десятилетий. Математики успокоились. Для меня этот период был важным. Я воспринял его как указание на необходимость приложить усилия и изучить путь от математики к естественным наукам, стал изучать теоретическую физику. Кроме меня это стали делать еще в 60-е гг. также Синай и Манин, из близких мне топологов - А.С.Шварц. Каждый из нас преследовал свои цели и шел своим путем. Надо сказать, что никто из западных математиков этим путем не пошел тогда (разве что И.М.Зингер, позднее А. Конн). На Западе в сообществе чистых математиков доминировала идеология наподобие «религиозной теории чисел». Крупные и идейно влиятельные в западном мире математики - например, А.Вейль - усиленно пропагандировали тезис, что нет нужды обращаться к естественным науками и приложениям, - чтобы стать великим ученым, можно обойтись и без этого, времена изменились. Этот тезис, безусловно, размагничивал ту часть математического сообщества, которая могла бы пойти по направлению к естественным наукам и приложениям. Любопытно, что такие математики как М.Атья, Дж.Милнор, Д.Мамфорд в конечном счете тоже полностью разошлись с идеологией религиозно-чистой математики. Сообщество чистых математиков на Западе выработало такую точку зрения: для заработка я преподаю математику в университете, это и есть мой долг обществу. Остальное же время я занимаюсь своей чистой математикой. С этой точкой зрения, они прожили ряд десятилетий. У нас в стране было не так, этот подход не работал: никто не хотел преподавать. Кроме очень малого числа главных университетов, условия для людей, занимающихся преподаванием, были плохие. Педагогическая нагрузка была слишком большой, ни о каких поездках за границу и подумать было нельзя, на научную работу не было времени. Так или иначе, западное сообщество математиков оторвалось от внешнего мира дальше и глубже, чем наше. Даже в блестящих центрах прикладной математики, как например «Институт Куранта» в Нью-Йорке, с течением времени сообщество все более понимало прикладную математику как набор строгих доказательств, вопросы обоснования Постепенно у меня выработалась такая точка зрения: конечно, математика или во всяком случае ее большая часть, включая современную абстрактную математику - это очень ценное для человечества знание. Но эту ценность не так-то просто реализовать. Лидеры математики должны быть людьми общенаучно грамотными, знать пути, соединяющие математику с внешним миром, уметь искать новые связи, помочь ориентировке молодежи. В противном случае я не вижу, как внутриматематические достижения могут стать полезны обществу. Не надо уподоблять математику музыке: та обращается непосредственно к эмоциям; она будет отвергнута, если люди никаких эмоций от нее не испытывают. Надо помнить, что математика - это профессия, а не развлечение. В прошлых поколениях математиков всегда было сообщество лидеров, высоко енимых внешним миром. Вспомните Пуанкаре, Гильберта, Г.Вейля, Дж. фон Неймана, А.Колмогорова, Н.Боголюбова... Из крупнейших ученых старшего поколения я много беседовал с Гельфандом. Он как-то сказал: «Меня беспокоило в юности, полезен ли тот функциональный анализ, который мы развивали. Поработав в приложениях, я нашел для себя ответ на этот вопрос и успокоился. Но, имея дело с физиками, не заблуждайтесь. Открыв что-то ценное, исходя из ваших знаний, которых у них нет, Вы с удивлением нередко обнаружите, что они пришли к тому же из каких-то других соображений. Никоим образом нельзя недооценивать то знание, которым они обладают». Я понял в процессе изучения, что теоретическая физика, изученная систематически, с самых начал до современной квантовой теории, - это единое и нераздельное, обширное и глубокое математическое знание, замечательно приспособленное к описанию законов природы, к работе с ними, к эффективному получению результатов. Нельзя не согласиться с Ландау: чтобы понять это, необходимо изучить весь его «теоретический минимум». Это - костяк, определяющий Ваш уровень цивилизации. Человек, не изучивший его, имеет убогое неполноценное представление о теоретической физике. Такие люди могут оказаться вредны для науки, их не хочется допускать к теоретической физике. Их влияние будет способствовать распаду образования. К сожалению, сообщество математиков того времени не изучало даже элементы этого знания, включая и тех, кто называл себя прикладными математиками. К примеру, я быстро обнаружил, что практически никто из специалистов по уравнениям с частными производными не знает точно, что такое тензор энергии-импульса, и ни за что не сможет математически четко определить это понятие. У механиков некоторые сдвиги начались раньше. А.Ю.Ишлинский говорил мне много лет назад: «Мы с Баренблаттом сделали ошибку в 50-х гг., кто-то из физиков указал нам на неправильное поведения энтропии на гребне волны в нашей работе. Только после этого мы твердо выучили термодинамику, четыре потенциала, правила Максвелла и т.д.». Значит, до этого сообщество механиков таких вещей не изучало. Передовые, лучшие механики - выучили в 50-60-х гг. Математики же и тогда еще не выучили ничего подобного. Я спросил недавно С.В.Иорданского, ученика М.А.Лаврентьева, ставшего впоследствии хорошим квантовым физиком: «Сергей, скажи мне, что твой учитель Лаврентьев, считавший себя физиком, но ее определенно не знавший, думал о цикле учебников Ландау-Лившица? Тоже ругал их?» Тот ответил: «Нет, он сказал так: "Спецфункции хорошо знают...".». Так что Лаврентьев математик талантливый, старающийся быть объективным, -что-то похвалил, но существования теорфизического знания там вообще не увидел. Или счел, что там все не имеет отношения к математике, кроме спецфункций. Это легкомыслие Лаврентьева, пренебрежение к глубокому комплексу знаний, созданному десятками громадных талантов и многократно опробованному, отсутствие даже понимания того, что это знание существует, имеет свои последствия: его сын, например, неплохой администратор (как директор Института математики в Новосибирском Академгородке) опровергает специальную теорию относительности. Не сомневайтесь, он вырос под полным научным влиянием отца. Вообще, у М.А.Лаврентьева при его способностях, была редкостная безответственность. Вспомнить только, как он спаивал всех вокруг себя, не понимая, что люди и здоровьем, и «водкоустойчивостью» гораздо слабее него, способного легко перепивать даже Хрущева. Его безответственность погубила немало хорошего в его же собственных блестящих начинаниях. Хочу сказать, однако же, что Лаврентьев и Петровский вдвоем провели в 1960-1966 гг. гигантскую полезную работу по раскрытию советской математики для мира, и мое поколение им этим обязано. Так или иначе, но 60-е гг. - это период расцвета моего поколения, той первой фазы расцвета, когда старшее блестящее поколение еще было живо; многие из них еще действовали как ученые или администраторы, в то время как мы с большой энергией осуществляли свой первый тур развития математики и готовились к следующим. Как я уже написал выше, некоторые из нас - Синай, Мании, А.Шварц и я - стали изучать различные разделы теоретической физики, независимо друг от друга. В то же самое время различные волны теоретических физиков разными путями стали двигаться в сторону математики. В квантовой теории поля появилось аксиоматическое направление, целью которого было непротиворечиво и математически строго построить теорию, исходя из современного функционального анализа. Этого, конечно, не удалось сделать, но возник математически нетривиальный цикл строгих исследований по функциональному анализу с красивым алгебраическим и квантовополевым аспектом. Ряд специалистов по статистической механике (вышедшие из физиков) стали заниматься доказательством математических теорем. Например, интересен случаи Э.Либа: как известно, он начинал с блестящих широко признаннных в физике работ по точному решению проблем статистической физики; он всегда хорошо знал исследования физиков, сам внес важный вклад. Тем не менее, он выбрал профессию строгого математического физика, и не он один. Возникло сообщество современных математических физиков, доказывающих строгие теоремы. Большинство их имело первоначальное физическое образование Они стали, по существу, математиками. Именно на эту область держал курс Я.Г.Синай, изучая теоретическую физику, - на новую область математики, где доказывают строгие теоремы. Кроме Либа, никто из них не занимался даже в прошлом точно решаемыми моделями, это - другая, не та математическая физика. Основой моей программы стало глубокое желание внести вклад на рубеже современной математики и теоретической физики базирующийся на идеях современной математики - на геометрии и топологии (включая геометрию динамических систем), на алгебраической геометрии и т.д. Могут ли они быть реально полезны, так сказать, в деле? Всем был очевиден нарастающий компьютерный поток, который постепенно наполнял естественные науки, приложения и даже чистую математику, давая им новые гигантские возможности, особенно в приложениях. Но здесь я не могу ничего изменить, считал я: это будет развиваться и без меня, это уже становится разделом технологии. Что же касается внедрения в физику идей топологии или алгебраической геометрии, то здесь у меня могут возникнуть такие идеи, что никто меня заменить не сможет. Да и физики начали очень интересоваться современной математикой в конце 60-х гг. Взаимодействие с физиками в «Институте Ландау» - с Халатниковым, Горьковым, Дзялошинским, Поляковым, Захаровым, Питаевским, Воловиком, Мигдалом - оказалось плодотворным. Немало получил я от этого взаимодействия для своей программы, в чем-то помог им. В атмосфере этого взаимодействия выросли и мои ученики (кроме первого поколения, не пошедших со мной изучать основы теоретической физики, хотя некоторые из самых лучших, как например Бухштабер, внесли вклад в приложения). Думаю, что цели Шварца и его программа были не очень далеки от моих, хотя мы и «осели» потом в разных областях. Шварц много сделал для развития квантовой теории поля как нового раздела математики, иногда нестрогого, близкого к геометрии и топологии. Я старался развить нетрадиционные методы (к сожалению, их освоение встречает трудности у физиков), решать некоторые задачи, возникшие в общей теории относительности и квантовой механике, современной физике нелинейных волн, конденсированных сред и теории гальваномагнитных явлений, нередко вступая в конкуренцию с физиками. В некоторых, хотя и редких случаях, новая математика, возникшая в XX в., была реально полезна. Отсюда возникли также и новые задачи самой математики. Что касается Манина, то его программа, как мне кажется, была совсем другой: несомненно, его особенно интересовали математический язык и логика теоретической физики. Он вообще жаждал внести вклад в формализацию науки. При этом склонность к изучению многих разнообразных вещей вообще всегда была его сильной стороной - он любил и умел это делать. О формализации математики мы поговорим особо. Мне кажется, у нее есть сторона, сыгравшая важную роль в развитии кризиса сообщества математиков. базирующийся на идеях современной математики - на геометрии и топологии (включая геометрию динамических систем), на алгебраической геометрии и т.д. Могут ли они быть реально полезны, так сказать, в деле? Вторая половина XX века: непомерная формализация математик Когда я в юности читал работы 20-30-х гг. по теории множеств, я обращал внимание на то, что несмотря на абстрактность предмета эти работы написаны ясно и прозрачно. Вам хотят объяснить свою мысль и как можно проще. Этот предмет очень абстрактен, но о формализации речи не идет. Изучая топологию в 50-е гг. я видел, что лучшие из книг и статей знаменитых топологов, по которым я учился (Зейферт-Трельфаль, Лефшец, Морс, Уитни, Ионтряпш, Серр, Том, Борель, Милнор, Адаме, Атья, Хирцебрух, Смейл и др.), были написаны очень ясно. Сам предмет не был прост, но запутывать Вас никто не хотел. Излагали предмет так просто, как только это возможно, чтобы помочь Вам понять и освоить. Но уже начали появляться и другие источники - например, еще в ранней юности я увидел, что в монографии моего учителя М.М.Постникова, где излагались его лучшие работы, содержание обросло ненужной формализацией, затрудняющей понимание. С течением времени количество текстов такого рода возрастало. Этот процесс шел особенно быстро там, где было много алгебры, много теории категорий. Формализация алгебраической геометрии вследствие этого шла быстрее. Топология еще держалась до конца 60-х гг., когда алгебра и алгебраическая геометрия уже были затоплены этим стилем. Затем, уже в 70-е гг. сдалась и топология. Впрочем, это совпало с периодом ее сильного падения, с потерей ориентации на общематематические контакты. Формальный язык непрозрачен, он всегда является узкопрофильным, он защищает Вашу область от понимания ее соседями, от видимого всеми взаимного влияния идей. Если Вам удалось позаимствовать идеи из соседней области, Вы можете заформализовать их так, что первоисточник не будет виден. Так или иначе, почему-то имеется много математиков, заинтересованных в развитии формального языка, разделяющего даже очень близкие разделы до непонятности. В чем тут дело? Возможно, имеется много желающих быть, как говорят, «первыми в своей деревне», закрыв занавески от соседей, - хотя, вероятно, это не единственная причина того, что формальный язык стал так нравиться обширному сообществу математиков. У меня нет полного понимания природы этого процесса, его движущей силы, причины его широкого общественного успеха. Мне кажется, это - болезнь, сопровождающая одностороннюю непомерно раздутую алгебраизацию: ее нужно проводить было бы осторожно и сбалансированно, не хороня под ней суть дела, чтобы она была полезной, и это сделать нелегко. Здесь мой подход сильно отличался от Манина: в ряде случаев он действовал в новых разделах математической физики как идеолог, внедряющий алгебраизацию в стиле Дьедонне, искусственно затрудняющую понимание. Например, в 70-е гг. я стал вести активную деятельность на мехмате МГУ, пропагандируя различные начала теоретической физики. Я убедился в том, что простое естественное изложение элементов идет с большим трудом: способная аудитория чистых математиков мехмата не хочет видеть даже несложных конкретных формул классического типа. Поэтому объяснить начала, например, общей теории относительности или электродинамики, вообще - элементарной теории поля, было очень трудно: моих студентов, обязанных слушать, я принуждал пройти какие-то азы и привыкнуть. После этого дело шло легче; остальные же нередко уходили, не дослушав начал. Лишь единицы сумели пройти и понять. Я интересовался опытом коллег и узнал, что Мании подходил иначе. Он сообщал аудитории что-то сверхформальное и затем говорил, что они теперь узнали, что такое, например, уравнение Дирака. Общественный успех был бесспорный - у них глаза горели, но я не захотел идти таким путем: как показал опыт, узнать, что такое уравнение Дирака на самом деле, этим людям после такого начала будет во много раз трудней. Известен ряд успехов теории солитонов середины 70-х гг., в которых мне довелось участвовать с самого начала в роли инициатора и затем развивать их вместе с моими лучшими учениками (особенно Дубровиным и Кричсвером). Тогда современная математическая физика впервые стала использовать методы алгебраической геометрии - были построены алгебро-геометрические (периодические) решения KdVи его аналогов. Манин написал вскоре очень формализованные учебно-обзорные статьи на эту тему. Многие молодые математики, склонные к алгебре, охотно читали именно их. Статьи и книги тех, кто создал эти области, были написаны простым общепонятным языком, целью которых было всего лишь прозрачное изложение предмета, использующего нетрадиционную для приложений математику, чтобы можно было ее изучить и пользоваться. Однако склонной к алгебре молодежи они кажутся трудными, чужими. Четких критериев - что нужно, что есть суть дела - у нее нет. Формализованные тексты, где суть дела не обсуждается, нравятся - они их читают как тексты из своей области, абстрактной алгебры. На самом деле из этих текстов они ничего не узнают, как я считаю, хотя будут думать, что все полезное освоили. Пожалуй, это относится ко всей математической молодежи, не прошедшей азов современной математической физики-. Бурбакистские тексты по математической физике - нелепость двойная, они затрудняют и проникновение физиков в эти методы, создавая у них иллюзию сверхсложности и недоступности этих разделов математики, которые они ранее никогда не изучали. Да и Манин, как я заметил позднее, писал несравнимо прозрачнее, когда считал, что он сам что-то существенное сделал и хотел, чтобы это поняли и физики, так что я не знаю, сохранил ли он приверженность к формализации. Однако тогда подобные взгляды некоторых авторитетных ученых способствовали распространению этой болезни. Казалось бы, наша область науки - современная математика - на первый взгляд, облегчить изучение, делая изложение как можно более прозрачным. Ведь формализация языка науки, осуществленная в бурбакистском стиле, - это не полезная формализация Гильберта, упрощающая понимание. Это - паразитная формализация, усложняющая понимание, мешающая единству математики и ее единству с приложениями. Я полагаю, что ультраформализованная литература возникла, в частности, потому, что можно было предвидеть ее успех у широкого слоя алгебраически ориентированных чистых математиков. Надо идти против течения, чтобы бороться за сохранение прозрачного общенаучного стиля, который может сохранять единство математики, объединить математику с физикой, с приложениями. Это - лишь для очень немногих математиков сейчас. Сегодняшнее сообщество не поймет. Более того, оно не хочет слушать голосов, предупреждающих о необходимости преодолевать какие-то барьеры, если рядом появляются авторитетные люди, говорящие, что ничего этого им не надо. «Дайте им то, чего они хотят; ни к чему другому они не способны» - к такой оптимальной стратегии ведет демократическая эволюция абстрактной науки и образования, когда людям неизвестно, есть ли какая-нибудь цель их исследований, и они отказываются этот вопрос обсуждать. Все критерии легко смещаются, если нет цели, которую нужно достигнуть. Общественный успех остается единственным критерием. Однако я замечу, что тем немногим, кто мог бы преодолеть барьер, бурбакистская литература сильно мешает найти правильный путь, дезинформирует их в сегодняшнем хаосе. Бесполезная всеусложняющая алгебраическая формализация языка математики, экранирующая суть дела и связи между областями, - это слишком широко распространившаяся болезнь, даже если я привел и не самые лучшие примеры, это проявление кризиса, ведущего к определенной бессмысленности функционирования абстрактной математики, превращения ее в организм, потерявший единый разум, где органы дергаются без связи друг с другом. Как говорится, чтобы остановить построение вавилонской башни, Бог рассеял языки, и люди перестали понимать друг друга. Строительство остановилось. Излишне усложненный формальный абстрактный язык захватил не только алгебру, геометрию и топологию, но также и значительную часть теории вероятностей, и функциональный анализ. Анализ, дифференциальные уравнения, динамические системы оказались несколько менее ему подвержены. Здесь еще в 50-60-е гг. было сделано несколько хороших вещей, которые впоследствии широко распространились и стали общеполезны. Но другие нелепости захватили все это сообщество: математики специалисты в этих областях - продолжают до сего дня программу, признающую лишь стопроцентно строгие теоремы, длина которых стала зачастую немыслимой. Очень малый процент их потратил труд на самообучение и научился вступать в контакт с миром естественных наук, где ведутся конкретные исследования, без заботы о математической строгости. Но и те математики, кто вступает в подобные контакты, преследуют, как правило, одну цель: узнать какие-нибудь результаты физиков или инженеров, которые можно начать строго обосновывать. Это и называется «анализом», «прикладной математикой», «математической физикой». Строгомания постепенно превратилась в мифологию и веру, где много самообмана: спросите, кто читает эти доказательства, если они достаточно сложны? За последние годы выявилось много случаев, где решения ряда знаменитых математических проблем топологии, динамических систем, различных ветвей алгебры и анализа, как выяснилось, не проверялись никем очень много лет. Потом оказалось, что доказательство неполно (см. мою статью в томе журнала GAFA 2000, посвященного конференции «Vision in Mathematics - 2000», Tel Aviv, August 1999). При этом отнюдь не во всех случаях пробелы могут сейчас быть устранены. Если никто не читает «знаменитых» работ, то как же обстоит дело со сложными доказательствами в более заурядных работах? Ясно, что их в большинстве просто никто не читает. Я могу понять, что решенные в тот же период проблемы Ферма и четырех красок стоят и длинного доказательства, и их проверят. Но постоянно жить в мире сверхдлинных доказательств, никем не читаемых, просто нелепо. Это - дорога в никуда, нелепый конец программы Гильберта. Следует обратить внимание еще на одну сторону дела, когда обсуждается ценность строгих математических обоснований. В естественных науках строгая математика требует такого уточнения модели, которое уводит от реальности гораздо дальше, чем нестрогость физика, и тем самым приводит к общенаучно менее строго обоснованному результату. Это еще один аргумент, кроме потери контроля за доказательствами. Наверное, сам Гильберт давно бы уже сказал, что этим нецелесообразно больше заниматься. Наличие кризиса сообщества математиков с его системой образования и подходом к науке надо отделять от вопроса: есть ли кризис математики как науки? Может быть, кризиса и нет, просто лучшие работы в ряде областей стали делать другие люди, выходцы из физики? В 70-80-е гг. довольно значительные коллективы физиков-теоретиков, включая прикладных физиков, по существу, стали математиками. Они много сделали для развития современной математики, дали ей большой импульс. Я назову несколько таких волн. 1. Завоевание вычислительной математики физиками. Этот естественный процесс шел долго. Каждому ясно теперь, что физик будет лучше считать задачи, суть дела которых он понимает, в отличие от вычислителя-математика. 2. Освоение физиками некоторых основных теоретико-множественных идей теории динамических систем, созданных в основном еще до 60-х гг., но ставших сейчас общим достоянием. Развитие компьютерно-базированного творчества на этой основе. 3. Фундаментальная роль физиков в создании такого цикла идейно богатых новых разделов математики, как теория классических и квантовых точно решаемых систем: теория солитонов и вполне интегрируемых гамильтоиовых систем, точно решаемые модели статистической физики и квантовой теории поля, матричные модели, конформные теории, суперсимметрия и точно решаемые модели калиброванных полей. 4. Приход квантовых физиков (как считают, временный) в такие разделы, как алгебраическая геометрия и топология, вызванный остановкой в развитии физики фундаментальных взаимодействий. Совместный вклад физиков и математиков в эти области за последние 20 лет очень велик. Если будет подтверждена суперсимметрия в реальном мире элементарных частиц или что-то подобное, часть этих людей сразу уйдет обратно в реальную физику, как онисчитают. 5. Приход большой волны квантовых физиков в проблемы математически строгих обоснований физических результатов. Любопытно, что эта волна, называющая только себя «математическими физиками», отдельна от тех, где развивается топология или точно решаются модели. Сюда входят люди, глубоко поверившие в идеально строгий подход, в программу Гильберта. Идеологически эти волны сильно расходятся, те - делая нестрого чистую математику, называют себя «физиками»-, эти - доказывая теоремы, называют себя «математическими физиками». Эта волна является развитием того, что математики называют «анализом». Безусловно, богатство принесенных ими в математику знаний ставит этих людей выше в моих глазах, чем сложившийся до них «анализ» чистых математиков, не знавших современной физики. Но все равно - я духовно не с ними, а с темп, другими, хотя скажу откровенно о своей личной научной программе: я потратил многие годы на изучение теоретической физики для того, чтобы искать новые ситуации, где топологические идеи могут быть полезны в приложениях и естественных науках. Новая топология, создаваемая физиками, — это замечательная вещь, но я достаточно изучил теоретическую физику, чтобы знать, что это - не раздел физики; пусть в это верят те, кто ничего не изучал. Физика - это наука о явлениях природы, которые могут реально наблюдаться. Платоновская физика - это набор стоящих за ними идеальных понятий. Большая группа талантливых физиков-теоретиков увлеклась платоновской физикой и незаметно отошла от реальности очень далеко. В последней четверти XX в. их вера в то, что реальная физика будет, следуя опыту последних 75 лет, подтягиваться и подтверждать наиболее красивые теории, перестала оправдываться. Застряло на 25-30 лет, например, подтверждение суперсимметрии в физике элементарных частиц. Его пока нет, хотя гипотеза суперсимметрии сильно улучшает математическую теорию. Квантовая гравитация и все ее проявления - струны и т.д. - безумно далеки от возможности подтверждения. В то же время эти теории оказались столь красивы математически, что они породили немало результатов и идей в чистой математике. Уход из реальной физики такого талантливого сообщества теоретиков оголяет физику, лишает ее слоя, способного соединять реализм физики с высокой современной математикой. В самой реальной физике ряд областей стал ориентироваться сейчас не на познание законов природы, на инженерного типа разработки все больше и больше. Мне кажется, такая тенденция имеется и в реалистически мыслящей части математики. Само по себе это не так уж и плохо. Каждому времени характерны свои цели и задачи. Было бы важно сделать совокупность достижений математики XX в. тоже максимально доступной, как можно более компьютеризованной - включая и классическую алгебраическую топологию: это помогло бы возродить нормальное изложение, прекратить представление этой замечательной области в виде абстрактной бессмыслицы, которую даже сами математики перестали понимать и не могут поэтому с ней работать. Говоря о современных инженерно-ориентированных направлениях, я хотел бы указать, что жажда общества породить здесь успех ведет к возникновению любопытных общественных феноменов. Что такое «квантовые компьютеры»? Возможность развить теорию квантового аналога процесса вычислений сама по себе интересна как раздел абстрактной математической логики квантовых систем. Когда же мы говорим о создании компьютера, возникает первый вопрос: можно ли указать какую-либо возможную физическую реализацию, чтобы грубо оценить числовые параметры для границ, преодоление которых было бы необходимо для реализации, для оценки возможностей, скорости. Без этого подобный объект существует только в платоновской физике. Об этом пока можно только писать романы наподобие Жюль Верна. Высокопарный разговор о всесилии технологии будущего неконкретен: оставим будущее будущим людям; пока мы просто ничего не знаем. Никто не знает, можно ли реально построить достаточно большую полностью когерентную квантовую систему, способную реализовать классически управляемые квантовые процессы по заданному довольно сложному алгоритму. Физику таких процессов надо долго изучать. А если и окажется, что можно, то будет ли основанная на этом модель вычисления работать лучше обычной в реальном мире? Не увлекайтесь сравнением числа шагов - они здесь не те, что в обычных машинах Тьюринга и Поста. Инженерной идеи пока не видно, как и физической. Есть только абстрактная квантовая логика. Машины Поста и Тьюринга создавались одновременно с реальными компьютерами; это не то, что квантовые компьютеры, которых нет. В такой ситуации мне непонятны восторги по поводу уже якобы решенных с помощью квантовых компьютеров проблем типа расшифровки кодов, нужных как частным фирмам, так и структурам типа КГБ, ЦРУ и т.д. Боюсь, КГБ-подобным организациям, придется подождать. Возможно, здесь действует логика рекламы: «Почему не устроить шум и не получить у них деньги на исследования? У них много денег, они платили и экстрасенсам». Во всяком случае, гениев типа Ферми, предложившего проект создания атомной бомбы, который мог бы поддержать и Эйнштейн, здесь пока не видно. Без гениев такие вещи не создаются, люди совсем об этом забыли. А вот возникновение шума без серьезной основы стало нормой в сообществе конца XX в. Впрочем, скажу откровенно, что мне эта теория нравится. Возникший здесь шум может быть полезен, заставляя математиков наконец-то выучить квантовую механику. Да и денег сейчас, действительно, без шума не достанешь. Так что остается лишь пожелать здесь хоть какого-нибудь успеха. Совсем нелепые антинаучные фантомы возникли недавно. Они произвели (и производят) большой шум. Один из этих фантомов - это история так называемых «библейских кодов»: с помощью компьютеров некоторые профессора математики «доказали», что Библия написана не человеком. Глубоко веря в святость Библии, я позволю себе твердо стоять на той точке зрения, Что каждая математическая работа, чистая или прикладная, должна проверяться и анализироваться математически, независимо от ее темы. Второй фантом, также произведенный чистыми математиками это псевдоистория Фоменко, созданная в Московском университете. Здесь всемирная и русская история древности и средних веков были «опровергнуты» также средствами прикладной математической статистики. Общими чертами этих историй являются: 1. Принадлежность авторов к кругу уважаемых математиков. 2. Поддержка их работ целым рядом авторитетных математиков. 3. Некомпетентность в прикладной математике. В обоих случаях ошибки абсолютно стандартны. Несомненно, эти фантомы нанесли и нанесут большой ущерб профессии математика, репутации самой математики в современном обществе. Эти фантомы и им подобные показатели глубокого кризиса математики, ее высшего слоя, глубокое общественное непонимание взаимодействия прикладной математики с реальным миром, непонимание таящихся здесь опасностей. Раньше, еще в юности, я усвоил от старших такую точку зрения: деятельность в чистой науке не избавляет ученого от общественного долга перед наукой; напротив, будучи материально и политически независимыми, ведущие математики должны защищать ценности науки от новоявленных аналогов Лысенко, всяких сумасшедших и безграмотных. Защита ценностей науки - их обязаннность перед обществом. Прикладники слишком утонули в материальных проблемах. Если верховный слой математиков не может этого делать - грош ему цена. Слава Богу, западные математики (включая людей религиозных) наконец-то выступили по поводу компьютерных теорем о библейских кодах. В России же я пока не псевдо-математико-исторической чуши. Впрочем, и на западе упомянутую защиту организовали ученые старшего поколения, Б.Саймон и Ш.Штернберг, тесно связанные с идеологией математической и теоретической физики. У физиков, пришедших заниматься чистой математикой, возникло естественное пожелание обучить математиков квантовой теории поля. Виттен устроил что-то вроде «курсов» в Принстоне, продолжавшихся, кажется, около года. Прекрасная цель, я тоже пытался это сделать когда-то и даже обучил чему-то несколько своих учеников - об этом уже упомянуто выше. Видимо, несколько человек благодаря Виттену сейчас что-то освоили. Один мой старый друг, Д.Каждан, очень хороший математик, всего на несколько лет младше меня, освоил, в частности, начала теории поля. Они ему так понравились, что он стал их пропагандировать и дальше; читал несколько лекций и у нас, в Мэриленде. Правда, ои читал лекции на формализованном «гарвардском» языке, к сожалению. Это, безусловно, сильно затрудняло понимание более широкому кругу математиков, но дело не только в этом. Мой друг еще в юности обладал необыкновенной способностью выучивать сложные вещи, смог он выучиться и сейчас, в пожилом возрасте. Я полагаю, еще пара первоклассных математиков старшего поколения что-то выучила вместе с ним. А где же математическая молодежь? Было бы хорошо, если бы основы теории поля вплоть до квантовой теории были освоены математиками. Не пора ли кончить брать даже в топологии результаты, нестрого полученные физиками, и их строго доказывать? Самим пора освоить тот комплекс идей, который позволяет угадать результат. Делать это на формализованном языке безнадежно. Надо принять этот новый анализ, созданный физикой второй половины XX в. и пока еще нестрогий, в принципе, таким, каков он есть. Хорошо бы создать прозрачные упрощенные учебники с ориентацией больше на математиков, но надо согласиться с неформализованным изложением. Нужных учебников пока нет, да и учить нужно более широкому курсу, чем теория поля. Как это сделать? Годится ли для этого современное западное образование? Распад образования и кризис физико-математического сообщества Здесь мы подходим к узловому вопросу, главной причине кризиса физикоматематических наук - к процессу распада образования. Смогут ли еще имеющиеся сейчас поколения компетентных математиков и физиков-теоретиков обучить столь же компетентных молодых наследников для XXI в.? Ключ ко всему - в образовании, причем трудности проблемы, симптомы распада, начинаются с начальной и средней школы и продолжаются в университете. Уже в 60-х гг. в СССР и на Западе стала нарастать резкая общественная критика трудности школьных математических программ, стали сокращать число экзаменов. Вероятно, это было связано с тем, что все 10—11 лет обучения стали общеобязательными. После этого выяснилось, что «всем» это слишком трудно - каждый год сдавать экзамены, начиная с 10 лет, особенно трудно учить математику. При этом, разумеется, «на всех» не хватало педагогов нужной компетентности. Да и математики-идеологи ряда стран (в СССР это был Колмогоров) стали неосторожно разрушать устоявшиеся схемы поэтапного обучения математике, внедряли идеи теории множеств «для всех». Колмогоров сделал много полезного, обучая наиболее способных в специальных школах, но в общее математическое образование он внес немало чепухи. Так или иначе, общество потребовало сокращения и упорядочения, поднялся крик. Ситуация в СССР усугубилась из-за политических грешков и антисемитизма, как это бывало, особенно при Брежневе. Образование сильно облегчили, сняли большинство экзаменов. Начался процесс постепенного падения уровня. Одновременно шло снижение уровня обучения на математических и физических факультетах университетов. Это случилось везде, но в СССР еще были и антисемитизм, и рост бесчестности персонала, особенно на приемных экзаменах, и возрастание влияния соответствующих бесчестных «профессоров», мало известных мировой науке, и выращивание нового типа администраторов с высокими научными званиями, которые сами не делали даже свою собственную кандидатскую диссертацию, т.е. вообще на самом деле никогда не были учеными. Таков был процесс распада образования и науки в СССР, причем ВУЗы, университеты разлагались несравненно быстрее, чем Академия, сохранившая научное лицо в гораздо большей степени. Замечу, кстати, что мировая наука вне бывшего социалистического лагеря незнакома с понятием «стопроцентно фальсифицированного крупного ученого» - эту схему особенно развил поздний СССР. Все бывшие советские ученые это знают, могут в частной беседе назвать ряд имен; но, как я многократно убеждался, будучи на Западе все почему-то молчат об этом, даже те, кто выехал и там работает. Имена и мне письменно трудно назвать - попадешь под суд, ведь экзамена им никто не устроит для проверки уровня. Поразительно, сколь высокий процент высшей администрации науки и образования в позднем СССР на самом деле был таков; в большей степени это относится к образованию. И такие «фальшивые крупные ученые» занимали места, которые по праву должны были быть заняты серьезными учеными. Вследствие этого, когда железный занавес пал, очень широкий слой способных компетентных людей, уже давно неуютно себя чувствовавших, подобно «рыцарю лишенному наследства», — весь выехал, потерял контакты. ВУЗы, университеты внутри России, в отличие от Академии, сами эти контакты пресекали, так что потеря этого слоя для будущей России - это лишь фиксация распадной ситуации, уже сложившейся в позднем СССР. Трудности с зарплатой можно было бы пережить: поработают на Западе и вернутся, когда будут сносные условия. Получилось хуже: с самого начала было ясно, что возвращаться некуда, в России тебя не ждут, все занято «фальшивыми учеными». Таков был процесс распада в СССР/России. Однако на Западе тоже произошел кардинальный спад уровня университетского и школьного физико-математического образования за последние 20-25 лет, причем в США падение школьного обучения, по-видимому, особенно низко. Я вижу ясно, что нынешнее образование не сможет воспитать физика-теоретика, способного сдать весь теоретический минимум Ландау. Уход большой группы талантливых теоретических физиков в математику никем не будет восполнен. В самой математике образование дает гораздо меньше знаний, чем 30 лет назад. Из лучших университетов Запада выходят очень узкие специалисты, которые знают математику и теорфизику беспорядочно и несравнимо меньше, чем в прошлом. Они не имеют шансов стать учеными типа Колмогорова, Ландау, Фейнмана и др. Я не хочу обсуждать здесь детали процесса, приведшего к этому результату. В те годы я деталей жизни на Западе не видел. Так или иначе, демократический прогресс образования привел к тому же результату в физико-математических науках, как и брежневский режим. Вывод очень прост: мы в глубоком кризисе. Учтите при этом, что математики и физики-теоретики контролировали также уровень физико-математического образования инженеров, это -одна из основ их грамотности. Значит, и там происходит распад. Падение уровня математического и физического образования в отделениях компьютерных наук также очевидно всем. Там происходит переориентация на обслуживание бизнеса, торговли. Само по себе это неплохо: если бизнес идет вверх, молодежь туда пойдет, там большие деньги. Но как воспитать разносторонне грамотного математика и физика-теоретика? Даже если правда, что эти области несколько переразвились и могут подождать, все равно потеря круга знающих их людей может оказаться опасной для человечества. Потеряв однажды этот слой, его очень трудно и долго будет восстанавливать, когда придет необходимость, если вообще возможно. Это может при определенном повороте событий сильно ударить по технологическим возможностям человечества, которые могут оказаться жизненно необходимыми при некоторых сценариях эволюции. Что-то нужно делать. Чисто демократическая эволюция образования, где люди свободно выбирают курсы, в этих науках работает плохо: следующий слой знаний должен ложиться на тщательно подготовленные предыдущие этажи, и этих этажей много. Надо покупать все здание, а не отдельные этажи в беспорядке: эволюция, которая произошла, подобна естественному термодинамическому процессу с ростом энтропии, с уменьшением качества информации в обществе. Здесь должны быть предприняты централизованные действия, под контролем очень компетентных людей. Физикоматематическое образование - это не демократическая структура по своему характеру, она не подобна свободной экономике. Считают, что эти области оживут при наличии крупномасштабных военных проектов. Но это лишь полуправда, этого не достаточно (если это вообще будет). Когда не будет достаточно компетентных людей, никакие деньги не помогут. Итак, мы встречаем XXI в. в состоянии очень глубокого кризиса. Нет полной ясности, как из него можно выйти: естественные меры, которые напрашиваются, практически очень трудно или почти невозможно реализовать в современном демократическом мире. Конечно, мы вошли в век биологии, которая делает чудеса. Но биологи не заменят математиков и физиков-теоретиков, это совсем другая профессия. Хотелось бы, чтобы серьезные меры были приняты. Вопросы 1) В чем Новиков видит кризис физико-математического сообщества? 2) Почему в математике, начиная с XYI века «велась борьба» за комплексные числа? В чем это выражалось? Какие шаги привели к принятию комплексных чисел математиками? 3) Что собой представляло математическое образование до середины ХХ века? 4) В чем выражалось безраздельное господство теории множеств в первой половине ХХ века? Почему сообщество математиков оторвалось от сообщества физиков-теоретиков? Каковы были ценностные ориентации математического сообщества? Личность ученого и программы научных исследований в математике, механике. 5) В чем состояла программа «бурбакизма»? Разрыв между математикой и естественными науками во французской математической школе. 6) Как формировалось сообщество математиков и физиков-теоретиков в 19301960 годах в СССР? 7) Как отвечали на вопрос «в чем смысл нашей деятельности?», «где и когда возможно применение тех идей, которые мы сейчас развиваем?» математики в 60е годы? 8) Почему происходит отрыв математического сообщества от задач физики, механики? Каким ценностным ориентациям следовали физики? Математики? Р. Коллинз, С. Рестиво Пираты и политики в математике (Отечественные записки. 2002. № 7) В социологии науки традиционно считалось, что научные скандалы и нечестное поведение ученых представляют собой результат функционирования науки как института, стремящегося восстановить изначально присущую ему нормативную структуру. Это идеализированное представление о науке предполагает, что поведение ученых определяется такими «нормами» функционирования науки, как 1) бескорыстное стремление к знанию; 2) общественное признание индивидуальных заслуг и 3) совместное владение интеллектуальной собственностью, или коммунизм (Merton, 1957. P. 551-561; (Barber, 1952. P. 122-134, (Parsons, 1949. P. 343-345). Сами нормы привлекаются для объяснения отклонений от норм. Так, споры о научном первенстве якобы демонстрируют приоритетность ценностного аспекта знания для ученого и заботу научного сообщества о награждении достойного. Случаи, когда знаменитые ученые получали большее признание, чем новички, проделавшие такую же точно работу, показывают, что институт науки защищает себя от фрагментации, ориентируясь на авторитетные фигуры и идеи (Merton, 1973. P. 286-324; Cole and Cole, 1973). Предложенная Куном (Kuhn, 1962;1970) модель смены научных парадигм и революций в науке лишь незначительно отходит от этой идеалистической картины. Его работа часто рассматривается как релятивистская альтернатива идеализированной социологии науки, однако в действительности позиции Куна и Мертона довольно близки. Для Куна сопротивление новым идеям и новым открытиям не противоречит преданности чистому знанию, но скорее свидетельствует о поддержании консенсуса, необходимого условия для беспрепятственного повседневного «решения головоломок». Кун, как и Мертон, интерпретирует отклонения от научных норм в высшей степени позитивно. Более того, весь социальный механизм в модели Куна предназначен для объяснения консерватизма науки: научные революции вызываются не социальными причинами, а накоплением эмпирических аномалий, заставляющих в конце концов ввести новую парадигму. Несмотря на социально обусловленное запаздывание, наука, по Куну, в целом — вполне эффективный институт установления эмпирических истин[1]. Мы предлагаем иной подход к пониманию скандалов и нечестного поведения в науке. Крупные скандалы и споры вскрывают значительные исторические сдвиги в социальной организации науки. Не существует неизменного набора норм, которые руководят поведением ученых. Неизменна лишь деятельность ученых (и соотносимых с ними других типов интеллектуалов), направленная на стяжание богатства и славы, а также на получение возможности контролировать поток идей и навязывать свои собственные идеи другим. Организация ученого сообщества определяет природу системы вознаграждений, получаемых учеными. При определенных условиях идеи считаются особенно ценными, если держать их в секрете: в этом случае они могут стать основанием авторитета или оружием в соревновании. Иногда эгоистичные «пираты» от науки присваивают или замалчивают идеи других ученых, чтобы создать новые или сохранить старые господствующие организации или интеллектуальные системы. В других случаях преданные сообществу ученые — образцы научной «святости» — добросовестнейшим образом следят за признанием вклада своих коллег и подчиняют себя идеалу научного прогресса. Научное поведение разнообразно. Идеалы науки не предопределяют научного поведения, но возникают из борьбы за индивидуальный успех в различных условиях соревнования. Нормы публичности или секретности, индивидуальная или общественная интеллектуальная собственность, признание чужого первенства или беззастенчивое самовозвеличивание возникают в особых организационных условиях. Крупные скандалы случались в истории науки именно потому, что изменялись условия организации. Устоявшиеся модели поведения становятся все менее и менее пригодными, по мере того как меняется природа ресурсов, за которые ведется научное соревнование. Предпринятое нами исследование некоторых крупных скандалов в истории математики можно уподобить изучению разломов, по которым проходят границы между геологическими эрами. Перемена в науке — это не результат внезапной ломки привычных парадигм под давлением накопившегося опыта. Модель Куна слишком полагается на консервативную природу социальной организации науки и преувеличивает роль эмпирических находок как «агентов» изменения. В математике противодействие инновациям обычно исходит не от консервативных защитников старых парадигм, но от соперников-новаторов. Нововведения в математике всегда вызывались не накоплением эмпирических (или логических) аномалий, а скорее стремлением найти общие правила, которые могли бы ускорить решение задач. Это не куновское «решение головоломок» как норма науки. Математики любят задавать загадки друг другу, но не потому, что обладают парадигмой их решения. Наоборот, они бросают вызов друг другу, выбирая загадки, которые слишком трудны для существующих концепций и методов. Инновации и революции укоренены в социальной структуре интеллектуального соревнования. В куновской модели инновации непредсказуемы. На наш взгляд, вероятность появления инноваций меняется в зависимости от организационных условий научного соревнования. Наличие некоторого минимального уровня соперничества создает условия для рождения новых идей. При смене организационных ресурсов возникают новые формы соревнования, стимулирующие прогресс математической мысли. Анализ скандалов вскрывает эти аспекты развития математики. Математика является теоретической сердцевиной большинства эмпирических наук, которые достигли определенного уровня сложности. Поскольку математика раскрывает динамику теоретического соревнования в более или менее чистом виде, она может служить моделью инноваций во всех науках — в той степени, в какой развитие этих наук стимулируется теорией. Мы начнем с разбора примеров из «пиратской» эпохи в истории математики. Предпринятое нами исследование конфликта Георга Кантора [Cantor] и Леопольда Кронекера [Kronecker] в конце XIX века сосредоточено на переходе от эгоцентристской «пиратской» соревновательности к конфликтам между школами, характерными для математики XX века. Во главе этих школ стоят «праведные» ученыеполитики, выдвигающие на первый план коллективную и неэгоистическую сторону науки. Каждый описываемый нами случай знаменует переход к новым соревновательным условиям[2]. Пираты: Кардано против Тартальи В начале XVI века в крупных торговых городах Северной Италии были популярны математические состязания. Математики публично вызывали соперников на поединок, причем на победителя обычно делались денежные ставки. В это время быстро распространялось преподавание арифметики, необходимой в торговле, и публичные состязания обеспечивали соперничающим преподавателям известность и привлекали учеников. Задачи формулировались для числовых значений, но иногда требовали решения алгебраических уравнений более высокого порядка[3]. Результаты состязаний обнародовались, но методы решения математических задач — оружие в борьбе за репутацию и доходы — каждый из участников противоборства предпочитал держать в секрете. В 30-е годы XVI века в Милане жил врач, астролог, игрок и скандалист Джероламо Кардано [Girolamo Cardano (Cardan)]; отстраненный от занятий медициной после ссоры с местной коллегией врачей, он зарабатывал на жизнь преподаванием практической арифметики. В это время при Миланском дворе и в окружении кардинала города Мантуи (что на полпути от Венеции до Милана) вошли в моду математические диспуты. Один из таких поединков, посвященный решению двух кубических уравнений (x3 ± bx = c и x3 + ax2 = c), выиграл венецианский преподаватель математики Николо Тарталья [Niccolo Tartaglia], победивший двух противников — Фьоре [Fiore] и Дзуанне да Кои (Колла) [Zuanne da Coi (Colla)]. Фьоре удалось справиться только с первым уравнением, решение которого ему завещал его учитель Сципион дель Ферро [Scipione del Ferro]. Узнав о победах Тартальи, Кардано пригласил его в Милан, представившись богатым аристократом и обещая покровительство. Это предложение привлекло бедствующего Тарталью: прибыв в Милан и обнаружив обман, он был, должно быть, весьма разочарован. Однако под давлением Кардано, который, по его же собственному признанию, был склонен к проявлениям грубой силы, Тарталья в конце концов раскрыл свою формулу. Сначала он зашифровал ее в криптостихе, но позднее (после того как Кардано поклялся держать формулу в секрете) предоставил и полное объяснение. Впоследствии Кардано использовал этот секрет в математических состязаниях (в частности, приняв вызов Коллы). В 1542 году Кардано познакомился с зятем Сципиона дель Ферро — Аннабале делла Наве [Annabale della Nave], к которому перешло после Сципиона профессорское место в Болонье. Он сообщил Кардано (очевидно, желая перед ним похвастаться), что в 1500-е годы Сципион нашел ту же самую формулу, которой теперь владел и Кардано. Кардано воспользовался этим фактом, чтобы нарушить данную Тарталье клятву: в 1545 году он издал книгу по математике «Ars Magna», где опубликовал решение для кубических уравнений. Кардано признал первенство открытия за Ферро и заметил, что Тарталья пришел к тому же решению («в подражание Ферро») в поединке с Фьоре. Строго говоря, это не было правдой: Ферро решил частный случай x3 ± bx = c, тогда как Тарталья нашел (и сообщил Кардано) решение для x3 + ax2 = c. Тарталья был взбешен и в следующим году, в свою очередь, опубликовал это решение в своей книге «Invenzioni», а заодно и выбранил Кардано за вероломство. Последовал обмен оскорбительными посланиями, в ходе которого помощник Кардана по имени Феррари [Ferrari] обвинил Тарталью в плагиате и клеветнических нападках на своего учителя. Наконец, стороны согласились решить вопрос традиционным способом — на математической дуэли. Поединок состоялся в 1548 году, «на территории» Кардано — в одной из церквей Милана, а судьей выступал правитель города. Представителем Кардано на состязании был Феррари. В конце концов Тарталья отказался от участия, заявив, что буйствующие сторонники Кардано не дали ему возможности изложить свои доводы. Феррари был признан победителем. Кардану достались все лавры. Метод решения кубических уравнений получил известность как «правило Кардана». Отчасти это произошло и потому, что Кардано издал свою книгу на латыни — языке науки[4]. Тарталья же писал по-итальянски, и к тому же опубликовал свое решение в приложении к практическому курсу по баллистике, компасам, топографическому ориентированию и т. п. Кардано, происходивший из богатой семьи, учился и преподавал в университетах. Он стал знаменит в Европе благодаря своей медицинской практике и публикациям. У Тартальи, напротив, не было формального образования, а зарабатывал он уроками арифметики. Неудивительно поэтому, что Кардано написал гораздо более теоретическое и всеобъемлющее сочинение, чем Тарталья. В своей работе Кардано прояснил значение нового решения и обобщил его для всех кубических уравнений, в то время как Сципион и Тарталья представили лишь частные случаи, произведя линейные преобразования, чтобы избавиться от квадратичного элемента в уравнении x3 + - ax2 + - bx = c. Общее наблюдение, сделанное Кардано, состоит в том, что уравнение степени выше единицы имеет более одного корня. Он также отметил соотношение между корнями и коэффициентами уравнения и между последовательностью знаков при элементах и знаков при корнях. Если ранние европейские математики искали лишь численные решения, то Кардано первым начал работу в области общей теории алгебраических уравнений. Спор между Кардано и Тартальей знаменует переход от положения, при котором секретность была нормой, к положению, при котором нормой стало обнародование интеллектуальной собственности. Как мы видим, Тарталья, Ферро и Фьоре стремились скрыть свои методы решения математических задач, а Кардано пришлось прибегнуть к хитроумным уловкам, чтобы выпытать тайну у Тартальи. И в этом не было ничего удивительного: в этот период многие математики кормились победами в состязаниях, используя полученные от других методы. Кардано же удалось упрочить свою репутацию посредством публикации формулы кубических уравнений. В отличие от большинства математиков своего времени, Кардано был ориентирован на публикацию научных книг: еще до того, как обратиться к математике, он писал трактаты по медицине и астрологии. В результате благодаря Кардано битвы за репутацию в ученой среде переместились из области математических состязаний в поле, где основой репутации стало печатное слово. Соперники Кардано были возмущены тем, что он раскрыл решения, которые они содержали в секрете, зарабатывая ими победы в поединках и средства к существованию. Но этот переход от математических состязаний к книгам стимулировал развитие математики, обеспечив благоприятные условия для выведения общих правил решения задач. Кардано отклонился от норм, предписывающих хранить в тайне методы решения математических задач, но не ушел от традиционных для его эпохи отношений собственности. Его можно отнести к разряду «пиратов» того времени, когда соревнование между частными коммерчески ориентированными математическими кланами уступало место интеллектуальному состязанию на печатном листе вокруг более обобщенных и становящихся все более абстрактными материй. Помимо только что описанных примеров интеллектуального пиратства история науки знает еще несколько примеров присвоения чужой интеллектуальной собственности — как со стороны Кардано, так и со стороны Тартальи. Так, Кардано опубликовал научные материалы, весьма напоминающие неопубликованные работы Леонардо да Винчи. Дюхем [Duhem] и другие историки предполагают, что Кардано использовал записки да Винчи, которые он мог получить от отца, младшего современника да Винчи. Тарталья в свою очередь опубликовал под своим именем перевод Архимеда, сделанный в XIII веке Вильгельмом из Мербеке [William of Moerbeke]. Ему также случалось присваивать разработанные другими учеными изобретения практического характера (например, способ поднятия со дна затонувших судов). Кроме того, Тарталья приписал себе решение задачи о равновесии тела на наклонной плоскости, которое нашел в рукописи Йордануса де Немура [Jordanus de Nemure]. Как видно из работ многих интеллектуалов того времени, такой вид «научной» деятельности вовсе не являл собой исключение. Например, в 1494 году во время написания своего математического трактата, ставшего одной из крупнейших работ в этой области, итальянский математик Пачоли [Pacioli] свободно заимствовал из более ранних, не получивших признания источников. Другой неотъемлемой частью культурной ситуации того времени было обыкновенное физическое насилие. Ссора Кардано и Тартальи вынудила Феррари покинуть дом Кардана. Впоследствии Феррари был отравлен — либо своей сестрой, либо зятем; одного из сыновей Кардано казнили за убийство жены; что же до самого Кардано, то, обидевшись за что-то на своего второго сына, ученый отрезал ему уши. Неудивительно, что подобные же моральные нормы во многом характеризуют и интеллектуальные взаимоотношения Кардано и его соперников[5]. Из всего сказанного следует, что соперничество между учеными способствовало интеллектуальному прогрессу. Соревнование между Коллой, Тартальей и Фьоре не только подстегнуло вторичное открытие и распространение методов решения кубических уравнений, но и привело к резкому росту интеллектуальных стандартов. К 1540 году частный случай биквадратных уравнений был предложен Коллой и решен Феррари. Кардано, с его склонностью к систематизации и обобщению, стал основателем абстрактной дисциплины — теории уравнений. Его деятельность и новая соревновательная среда, отражением которой она явилась, стали знаком начала важного этапа в развитии математики. Лейбниц и Бернулли против Ньютона Дух соперничества продолжал играть важную роль в математике и в последующую эпоху. Например, учрежденное в 1576 году место главы кафедры математики в Королевском колледже в Париже мог занять любой претендент, победивший действующего руководителя кафедры в публичном состязании. Считается также, что математическая карьера Декарта началась в 1611 году, после того как в голландском городе Брезе ему попалось на глаза объявление о состязании по решению геометрической задачи. Позднее в похожих конкурсах принимали участие Паскаль, Лейбниц, Ньютон и Бернулли. Однако в этот период социальный контекст математических состязаний постепенно меняется. На место учителей коммерческой математики, создающих себе репутацию для привлечения учеников, приходят математики, стремящиеся посредством победы в конкурсах заручиться покровительством королевских домов Европы. Так, Виета [Vieta], во многом заложивший основы современной математики, обосновался при французском дворе в 90-х годах XVI века и сделал себе имя, принимая вызовы на математические поединки. Начиная с 60-х годов XVII века институт высочайшего покровительства наукам укореняется в академической жизни многих европейских стран: в этот период создаются Английское королевское общество (1662), Парижская академия наук (1666), Прусская академия наук (Берлин, 1700) и Российская академия наук в Санкт-Петербурге (1725). Если в математике XVI века доминировали преподаватели арифметики, то в XVII веке появляется все больше математиков, работающих в стенах академий и университетов. К числу наиболее влиятельных математиков этого времени принадлежали Барроу [Barrow], а впоследствии Ньютон в Кембридже, Уоллис [Wallis] в Оксфорде и Грегори [Gregory] в Эдинбурге. И все же это было время сокращения числа университетских студентов и заката интеллектуальной деятельности в университетах. Главными центрами научной активности становились королевские дворы и академии. Исаак Ньютон В этот период наблюдается и другое важное организационное изменение: развивается книгоиздательская индустрия. Если в XVI веке было опубликовано незначительное количество книг, целиком или хотя бы частично посвященных математике, то в XVII веке возникает гораздо более эффективная и специализированная структура обмена научной информацией. Еще в начале XVII века роль неформальных «информационных центров» часто играли частные лица (такие как Мерсенн [Mersenne] в Париже, а немного позже Генри Ольденбург [Oldenburg] и Джон Коллинз [Collins] в Лондоне); поддерживая активную переписку с учеными и математиками в своих странах и за границей, они могли держать «референтную группу» заинтересованных лиц в курсе текущих интеллектуальных достижений. Однако когда в 60-70-х годах XVII века августейшее покровительство науке ad hoc трансформировалось в распределение официальных постов в академиях, неофициальные сети научной коммуникации стали замещаться первыми научными журналами. Эти две организационные перемены будут контекстом следующего математического конфликта, который мы рассмотрим. В середине 1600-х годов математикам, работавшим над решением квадратуры круга, измерением площади криволинейных фигур и алгебраическими последовательностями, удалось достичь определенных успехов в исследовании бесконечно малых величин. Во второй половине 1660-х годов молодой кембриджский математик Исаак Ньютон разработал общий метод в области, которая известна нам ныне как математический анализ. Совершенно очевидно, что Ньютон не представлял себе всей важности своего исследования и пользовался неуклюжей и неустоявшейся терминологией. В 1669 году Ньютон по просьбе Коллинза послал ему довольно темный трактат, посвященный этому предмету, а вскоре стал работать над пространным трактатом о «методе флюксий», который так и не был закончен ученым. В то время Ньютона гораздо больше интересовала возможность публикации в «Философских трудах Королевского общества» разработанной им теории оптики. Однако эта работа была раскритикована покровителями Ньютона, что заставило его на какое-то время отойти от научной деятельности и посвятить себя теологии и алхимии. В 1672 году в Париж прибыл молодой германский дипломат Готфрид Лейбниц, получивший юридическое и философское образование. С математикой в то время Лейбниц бы практически не знаком. Однако, будучи чрезвычайно честолюбивым человеком, он уже тогда обдумывал проект реформирования всего интеллектуального дискурса на базе универсальной логической символики. В тот период учреждение новой Академии в Париже возбудило огромный интерес к наукам. Оказавшись в столь благоприятной атмосфере, Лейбниц устанавливает личные связи с ведущими учеными и учится математике у Христиана Гюйгенса и других ученых. В 1673 году он приезжает в Лондон как участник дипломатической миссии и быстро завязывает связи в научных кругах. За изобретение элементарной вычислительной машины Лейбница избирают членом Королевского общества. Однако непомерные амбиции Лейбница и, в частности, присвоение им авторства алгебраической последовательности для квадратуры круга, уже опубликованной несколькими математиками, создала ему плохую репутацию в ученых кругах. Эта дурная слава помешала его назначению на пост в Коллеж де Франс в 1675 году. Тем не менее Лейбниц все же стал одним из участников корреспондентской сети Ольденбурга и Коллинза и интересовался работой английский математиков. Через посредничество Ольденбурга и Коллинза Ньютон и Лейбниц обменивались письмами в 1676 и 1677 годах. В ходе переписки Лейбниц убедил Ньютона прислать ему описание работы о бесконечно малых величинах. Явно не доверяя Лейбницу, Ньютон упомянул флюксионный анализ в единственном зашифрованном предложении в форме анаграммы. Ту же стратегию, как мы помним, применил Тарталья в своем первоначальном ответе на просьбы Кардано выдать ему тайную формулу для кубических уравнений. Не получив от Ньютона сколько-нибудь конкретной информации, Лейбниц, тем не менее, быстро разрабатывает на основе циркулировавших в Европе английских математических идей свою собственную теорию, в которой использует более ясную нотацию, чем Ньютон. Закончив работу, Лейбниц описывает ее Ньютону, но тот не принимает ее всерьез. Возможно, Ньютон недооценил математические способности Лейбница, зная о том, что тот только начинает свою математическую карьеру. Через некоторое время Лейбниц покидает Париж, чтобы приступить к дипломатической службе при дворе германского герцога Брауншвейгского. Отчасти благодаря генеалогическим изысканиям и дипломатическим маневрам Лейбница, в 1692 году его покровитель возвысился до курфюрста Священной Римской империи, а впоследствии стал наследником английского трона и в 1714 году был коронован как Георг I. Во время своих путешествий Лейбницу удалось установить важные контакты в набирающем силу прусском государстве, а также заручиться покровительством императоров России и Австрии. Лейбниц становится респектабельным и успешным политиком при нескольких дворах. Его политические связи и репутация ученого работают друг на друга. В 1682 году в Лейпциге выходит первый в Германии специализированный ученый журнал «Acta Eruditorum», основанный интеллектуалами из окружения Лейбница в противовес журналу «Memoires», издаваемому Французской академией наук, и «Философским трудам» Английского королевского Общества. Получив контроль над изданием, не зависящим ни от английских, ни от французских влияний, Лейбниц опубликовал алгебраические последовательности, которыми он хвалился в Лондоне, без ссылок на каких-либо предшественников. В 1684 и 1686 годах Лейбниц опубликовал краткое описание своего математического анализа, высказав предположение, что он может открыть новую эпоху в истории математики. Предложенное Лейбницем изложение было крайне сжатым, но давало представление о программном значении метода. Краткой публикации оказалось достаточно, чтобы метод Лейбница обратил на себя внимание швейцарских математиков Якоба и Иоганна Бернулли (Якоб Бернулли занимал в то время пост профессора в Базеле). После серии работ, опубликованных в «Acta Eruditorum», новый метод математического анализа получает распространение в математических кругах континентальной Европы. Парижский аристократ маркиз де Лопиталь (de l’Hospital) приглашает Иоганна Бернулли с просьбой обучить его новому методу математического анализа. В 1696 году де Лопиталь публикует первый учебник по математическому анализу и становится лидером стремительно разраставшейся группы французских математиков. Сам Лейбниц опубликовал сравнительно небольшое количество математических трудов, но через переписку с обоими Бернулли, Лопиталем и многими другими учеными стал известен как один из ведущих математиков Европы. А благодаря своей обширной переписке с Арно [Arnaud], Бейлем [Bayle] и другими ведущими интеллектуалами ему удается также создать себе репутацию в кругу философов. Фактически это происходит независимо от публикации его работ, большая часть которых была напечатана после 1710 года. На протяжении большей части этого времени Ньютон остается в тени. В этот период Кембридж перестает быть интеллектуальным центром, Ольденбург и Коллинз умирают, и Ньютон оказывается изолирован от интеллектуальной жизни Лондона. Его репутация ученого начала возрождаться лишь после того, как он опубликовал свой знаменитый труд «Principia» (1687). Вскоре после этого Ньютон становится горячим защитником революции 1688 года. Он агитирует против католической реставрации и представляет Кембриджский университет в парламенте. В 1690 году, получив за свои заслуги пост главы Монетного двора, Ньютон покинул Кембридж. В течение следующего десятилетия, в годы создания конституционной монархии и парламентской партийной системы, популярность Ньютона как первого интеллектуала Англии росла. В 1703 году он стал пожизненным президентом Королевского общества. А в середине 1690-х годов националистически настроенные последователи Ньютона озаботились его притязаниями на первенство в создании математического анализа и начали кампанию против Лейбница. Под давлением своих защитников Ньютон, наконец, опубликовал свою старую работу о флюксионном анализе в приложении к книге «Оптика» в 1704 году и вторично в 1711 году. Когда нападки на него усилились, Лейбниц ответил анонимной рецензией на ньютоновскую «Оптику», опубликовав свой опус в журнале «Acta», который поддерживал его собственные притязания на первенство. Вслед за тем в «Acta» анонимно было опубликовано письмо Иоганна Бернулли, в котором Ньютон обвинялся в плагиате. Лейбниц и Бернулли проявляли вежливость по отношению к Ньютону в своих публичных заявлениях, но продолжали тайно нападать на него. Возможно, в этом споре присутствовали и политические мотивы. Порядок монархической преемственности, установленный в ходе переговоров между английскими партиями в 1701 году сделал курфюрста Ганноверского (являвшегося покровителем Лейбница) претендентом на наследование английского трона, поэтому для Лейбница было важно не испортить отношений с английскими политическими кругами. И наоборот, нападки на Лейбница и континентальную научную верхушку со стороны поддерживающих Ньютона англичан усилились именно в то время, когда в Англии укрепились политические позиции этой группы. Должно быть, англичане усмотрели для себя угрозу в том, что хорошо организованная континентальная машина Лейбница может оказаться в Лондоне под королевским покровительством[6]. Ссора Ньютона и Лейбница стала предметом официального расследования. В 1713 году Ньютон добился благоприятного для себя заключения комиссии Королевского общества, в которую входили представители международных дипломатических кругов. Лейбниц и Ньютон обвиняли друг друга в плагиате, искажали факты и анонимно публиковали якобы беспристрастные статьи в свою защиту. Их сторонники вели себя еще хуже. Результатом этого противостояния стал крупный раскол между английской и континентальной наукой. Ньютонова физика была осуждена лейбницианцами как квазирелигиозная система, включающая в себя элементы «оккультизма» (сила гравитации), а стало быть, как отказ от картезианского материализма в пользу средневековой метафизики. Коротко говоря, она рассматривалась как переход с либеральных интеллектуальных позиций к позициям реакционно-клерикальным[7]. В конце концов физика Ньютона проложила себе путь в Голландию в 1720-х годах и Францию в 1730-х, но Германия держалась своих лейбницианских позиций вплоть до конца века. Британцы же оставались верны ньютонову флюксионному анализу до конца 1800-х, оставшись таким образом в стороне от крупнейших математических достижений целого столетия. Социологическое значение спора между Ньютоном и Лейбницем — не просто вопрос первенства в научных открытиях. Представление о том, что сама по себе логика развития науки предполагает возможность параллельного совершения одного и того же открытия разными учеными, выдает скорее идеалистическую, чем социологическую позицию. Как показывают многочисленные примеры из истории науки, решающим условием интеллектуального прогресса является сам по себе факт наличия эксплицитно поставленной задачи, равно как и факт существования решения этой задачи. Хотя кубическое уравнение не имело решения на протяжении нескольких тысячелетий, это решение (в общем виде, а не только для частных случаев) было выработано всего через несколько лет после состязания между Тартальей и Фьоре. Также и биквадратное уравнение было предложено, решено и обобщено в процессе соревновательной деятельности Кардано, Колла, Феррари и Бомбелли [Bombelli]. Социальная ситуация, породившая в высшей степени дерзкие амбиции Лейбница, стала решающим фактором для продвижения от фрагментарных усилий ранних математиков к обобщенной программной формулировке математического анализа. Личные амбиции и соревновательный дух усиливались за счет организационных сдвигов в сфере социальных ресурсов, служивших стимулом для математиков во времена Кардано — Тартальи и Ньютона — Лейбница. Интеллектуально амбициозные личности, подобные Лейбницу, неизбежно должны были появиться благодаря тем возможностям, которые обеспечивались усилением академического патронажа (таким как контроль над собственными, субсидируемыми патроном изданиями, новыми научными журналами). Лейбниц был адептом новых форм организации науки и их проводником par exellence. Он создал первый в Германии научный журнал и использовал свои политические связи, чтобы основать Берлинскую и Санкт-Петербургскую академии, став пожизненным президентом последней. Он также пытался (хотя и безуспешно) учредить академии в Дрездене и Вене. Лейбниц контролировал академические публикации и раздавал хорошо оплачиваемые академические позиции своим последователям. Несколько поколений семейства Бернулли, их ученик Леонард Эйлер [Euler] и другие крупные европейские математики, такие как Лежандр [Legendre], занимали математические позиции в академиях Берлина и Санкт-Петербурга в 1700-х годах и использовали ресурсы этих организаций для того, чтобы продвигать лейбницианский анализ. Лейбница следует отнести к наиболее успешным организаторам в истории науки. Он создал как формы организации, так и наполняющее их интеллектуальное содержание. Лейбница можно сравнить с новатором-промышленником в пиратский век. Он не упускал ни одной возможности — ни организационной, ни политической, ни интеллектуальной. В начале своей карьеры в Париже и Лондоне он проложил себе путь в наиболее влиятельные круги и жадно впитывал наиболее важные интеллектуальные тенденции современности. Нет никаких свидетельств того, что он занимался плагиатом, — скорее, он старался как можно больше узнать о том, над чем работают ведущие интеллектуалы, и использовал плоды их работы в своих интересах. Он прочитал неопубликованные рукописи Декарта и Паскаля. Ему удалось заставить Спинозу показать рукопись «Этики», где система философии представлена в геометрической (аксиоматической) форме. Философия Лейбница (которая идет дальше Спинозы) получила признание, тогда как трактат Спинозы остался ненапечатанным и был забыт. Лейбниц умел уловить намек, развить его и опередить первооткрывателей в печати. Прочитав обзор ньютоновых «Principia», он спешно написал серию статей для «Acta», в которых наметил свою собственную теорию астрономической физики, не упоминая Ньютона. Ньютон, хотя и не проявлявший такого организаторского новаторства, как Лейбниц, тоже действовал вполне в духе дерзкого интеллектуального пиратства. Он вел себя тиранически на посту президента Королевского общества, лично контролируя членство ученых в Обществе и резко ограничивая дебаты. Ньютон и его сотрудник Галлей [Halley] опубликовали наблюдения Королевского астронома Флемстида [Flamsteed] без позволения автора. Пользуясь своим положением, Ньютон распределял позиции на Монетном дворе между своими научными последователями. Вполне очевидно, что в последние годы жизни Ньютон был больше заинтересован в создании своей «собственной» школы, чем в развитии математики. В споре с Лейбницем он был озабочен прежде всего признанием своего первенства в совершении открытия (с опережением в 40 лет), а не проблемами усовершенствования математической науки. Лейбниц смотрел в будущее, в то время как Ньютон скорее был интеллектуальным консерватором и редко осознавал значение своих открытий. Его «Principia» написаны вполне в стиле традиционной Евклидовой геометрии и едва ли содержат хоть какие-то указания на математический анализ (несмотря даже на то, что он использовал в работе свои новые методы). Если бы Ньютон заботился о прогрессе науки, он бы признал превосходство формулировок Лейбница, принял бы их и использовал для развития английской математики. По иронии судьбы, именно возвращение Ньютона в математику (после занятий физикой) сделало его влиятельной фигурой в Лондоне и поставило во главе научной школы, которую уже давно противопоставляли континентальной математике как реакционную. Деятельность Ньютона протекала в консервативной интеллектуальной среде. Он был университетским профессором эпохи заката средневековых университетов. Он добился славы, когда функционировала сеть обмена корреспонденцией, и сошел со сцены, когда она перестала существовать. В сущности, конфликт Ньютона — Лейбница показал слабость системы неформального информационного обмена. Этот способ научной коммуникации слишком сильно зависел от нескольких ключевых фигур — так, в Британии сеть распалась после смерти Ольденбурга и Коллинза в 1670-х годах. Подобная система не могла транслировать идеи очень широко, поскольку обмениваться информацией таким образом мог весьма ограниченный круг ученых. Отправка письма за границу была особенно дорогой, поскольку не существовало никакой почтовой системы и «центры обмена корреспонденцией», подобные Коллинзу или Мерсенну, вынуждены были пользоваться курьерскими услугами путешественников. Кроме того, зависимость этой системы обмена научной информацией от доброй воли посредников затрудняла решение споров, даже если они не шли дальше различия во мнениях. Ольденбург часто терял контакт с корреспондентами, которых почему-либо обижало то, что он сообщал. Подозрительность Ньютона в переписке с дотошным Лейбницем чрезвычайно характерна для этой системы коммуникации, не гарантировавшей первооткрывателю признания его первенства и не обеспечивавшей открытого и свободного обмена информацией. Известны и другие примеры «пиратского» поведения в этот период. Учебник по анализу де Лопиталя в действительности был написан Иоганном Бернулли, который под давлением своего покровителя сообщил ему свой метод. Эта ситуация напоминает отношения между Кардано и его помощником Феррари и наследием Сципиона дель Ферро. Семейство Бернулли также фактически подчинялось закону наследственной передачи знаний: творчество в нем являлось не индивидуальной заслугой, а собственностью главы семьи. Иоганн Бернулли научился математике от своего старшего брата Якоба. Впоследствии к нему перешло и место Якоба — должность профессора математики в Базеле. На новом космополитическом рынке, который начинал складываться в математике, семейное владение интеллектуальной собственностью больше не принималось как неоспоримое правило. Между Якобом и Иоганном Бернулли происходили жестокие схватки из-за интеллектуальной собственности, и в итоге Якоб выгнал младшего брата из своего дома. После смерти Якоба в 1705 году Иоганн опубликовал под своим именем решенную Якобом задачу о равных периметрах. Во время споров с Ньютоном Иоганн притязал на первенство в обнаружении математической ошибки, которую на самом деле отыскал у Ньютона племянник Бернулли, Даниил. Подобным же образом шотландский математик Дэвид Грегори получил признание за результаты исследований, которые унаследовал от своего родного дяди и предшественника на посту заведующего кафедрой математики в Эдинбурге. Если не считать организационных подвижек, о которых только что шла речь, патриархальное научное хозяйство не претерпело больших изменений. Право главы научного клана на интеллектуальный продукт остальных его членов могло быть предметом раздора не в большей степени, чем право главы гильдии продавать изделия подмастерьев. Сыгравшие выдающуюся роль в организационных переменах XVII века Лейбниц, Ньютон, де Лопиталь и братья Бернулли были уже не только «пиратами», они стали участниками создания настоящей математической империи. Абель и Галуа против Коши и Французской академии Организационные формы, впервые испытанные Лейбницем, господствовали в европейской математике до начала XIX века. Лейбницианские идеи определяли также и интеллектуальное содержание европейской математики. Опасность системы национальных академий состояла в том, что контролировавшие их сравнительно небольшие группы могли с течением времени утратить свою интеллектуальную мощь. С наибольшей вероятностью это должно было случиться, когда рожденные новыми возможностями энтузиазм и амбиции с течением времени постепенно сходили на нет. Во главе академии могли оказаться интеллектуалы «средней руки» и даже не-ученые, как это произошло в нескольких европейских академиях в начале XVIII века. Существовала также опасность, которой подверглось в XVIII веке Английское королевское общество: академии могли стать националистическими и репрессировать исследователей-иностранцев и их творческий продукт. На рубеже XVIII-XIX веков в мировой математике доминировала Французская академия. Она предоставляла несколько хорошо оплачиваемых постов для своих ведущих членов и продвигала их математические исследования в своих изданиях. Тем не менее, с начала XIX века в Академии наблюдается стагнация. Новаторская математика теперь ассоциируется с конкурирующей организационной формой: новым университетом, ориентированным на исследовательскую деятельность. Первым таким университетом становится в самом конце XVIII века Геттинген, а расцветом новой системы можно считать 1810 год, когда был основан Берлинский университет. Новая университетская форма сопровождалась подъемом государственного начального и среднего образования, а потому важной задачей новых университетов была подготовка школьных учителей. Франция, как и Англия, не реформировала свои университеты, а государственные школы были учреждены в этих странах лишь в конце XIX века. В результате новаторство в таких областях науки, как математика, шло из Германии и других периферийных стран, в которых в результате развития националистического движения произошла реформа образования. Крупнейший математический скандал начала XIX века отражает конфликт между старой академической системой и математическим сообществом, сложившимся на базе новых университетов. В 1826 году молодой норвежец Нильс Хенрик Абель [Neils Henrik Abel], получив скромную стипендию от своего правительства, отправился в Париж, чтобы представить свое великое математическое открытие в мировом центре математики. Норвегия лишь недавно отделилась от Дании и создала независимую систему образования. Абель учился в первом норвежском национальном университете. Его отец был одним из ведущих национальных политиков, однако после его смерти Абель был вынужден существовать на весьма скудные средства. Открытие Абеля состояло в том, что ему удалось разрешить величайшую математическую загадку своего времени: он доказал невозможность решения уравнения пятой степени через общие формулы, предназначенные для решения кубических и биквадратных уравнений. Кроме того, Абель создал теорию трансцендентных функций, став основателем нового направления в математике — общей теории интегралов алгебраических функций. Парижская математическая элита проигнорировала оба открытия. Доклад молодого ученого о трансцендентных функциях, представленный в Академию, был «утерян» одним из членов жюри, Коши [Cauchy]. У Абеля не было возможности добиться чего-то протестами и не хватало средств на то, чтобы задержаться в Париже. В 1829 году он умер от туберкулеза без копейки денег, так и не получив никакой академической должности. Скандал разразился, когда кто-то из германских математиков, знавший о других работах Абеля, опубликовал во Франции его исследование по трансцендентным функциям, а норвежское правительство формально опротестовало потерю доклада Абеля. Под этим давлением Коши нашел доклад Абеля, за который автор был посмертно награжден Гран-при Академии в 1830 году[8]. Похожий случай произошел несколькими годами позже. В 1829 году Эварист Галуа [Galois], молодой радикально настроенный студент парижской Высшей нормальной школы, представил в Академию доклад по общей теории решения уравнений посредством теории групп. Принявший этот доклад Коши заявил, что первенство в этом открытии принадлежит Абелю (хотя в действительности это не соответствовало истине), и отклонил работу Галуа, не сделав формального сообщения в Академии. Галуа подготовил второй доклад, который был официально подан на соискание академической премии в 1830 году. Рецензентом был назначен престарелый математик Фурье [Fourier]. Через несколько месяцев он умер, и доклад затерялся среди его бумаг. Академия не вела поисков, а протесты Галуа были проигнорированы. В 1832 году третья версия доклада получила отвод члена жюри Пуассона [Poisson], который назвал его непонятным. Вскоре после этого Галуа был убит на дуэли (ссора возникла на почве политики), и его научное наследие оказалось похоронено на 14 лет. Случаи Абеля и Галуа отражают академическую структуру, которая наделяла научную элиту практически неограниченной властью. Единоличная воля одного человека, «похоронившего» научное открытие, могла закрыть молодому ученому путь к признанию. Коши скрывал от Лежандра даже само существование доклада Абеля 1826 года; никому не известно, что случилось со вторым докладом Галуа после смерти Фурье; третий доклад Галуа был отвергнут по рецензии единственного судьи Пуассона, посредственного математика, получившего верховную власть в парижской элите после смерти Коши. В централизованной до крайности Академии отсутствовал какой-либо внутренний контроль, и сама Академия не была застрахована от посредственностей или пристрастности в своих рядах. Эти эпизоды не свидетельствуют о наличии консервативной старой гвардии, отвергающей новаторство молодой гвардии — разрушительницы прежних парадигм. Скорее это противостояние соперничающих между собой «новых гвардий». Хотя в приведенных выше примерах Коши и предстает негодяем, он, тем не менее, был отнюдь не консерватором, а одним из двух великих математиков (вместе с Гауссом [Gauss] в Геттингене), возглавивших движение математического сообщества XIX века к вершинам высшей математики. Коши уже был лидером в тех областях, в которых работали Абель и Галуа, и просто защищал свою «вотчину». Поведение Коши было «пиратским», но не в смысле организационных установок, как в случае с Лейбницем. Он только использовал возможности, заложенные в созданной Лейбницем организации науки. Коши относился к изданиям Академии как к личной печатной продукции. Члены Академии могли публиковать свои работы без рецензирования. Коши трудился в бешеном темпе, заваливая работой типографии и став одним из двух наиболее плодовитых математиков всех времен (другим был Эйлер в Берлинской и Санкт-петербургской академиях, который также обладал привилегией публиковать все, что писал). Возможность немедленно публиковать свои сочинения предопределяла господство Коши в европейской математике. В спешке он часто представлял идеи конспективно (напоминая этим молодого Лейбница) и часто даже не давал себе труда оценить их научное значение. Коши специализировался на снятии сливок с каждой новой открытой им области научного знания. Он часто пользовался своим положением референта Академии для собственной выгоды: мог задерживать у себя поданные в Академию доклады, пока сам не писал что-нибудь на ту же тему, публиковал свое исследование первым, а затем требовал от автора признания своего первенства. Коши был участником многочисленных споров о первенстве, и его часто обвиняли в алчности и нечестной игре. В отличие от сторонника политических свобод Лейбница, Коши был убежденным консерватором. Наука для него была источником элитарных привилегий, и он привык смешивать научные и политические приоритеты. Вполне естественно предположить, что Коши был настроен против Абеля и Галуа по политическим мотивам. Оба молодых человека являлись радикалами: Абель был норвежским националистом, а Галуа сочувствовал революционерам и впоследствии участвовал в революции 1830 года. Трудно поверить в политическую незаинтересованность Коши, когда он отклонил доклад Галуа незадолго до революционного взрыва. Возможно, крайний консерватизм был вполне подобающей политической позицией для последней великой фигуры Французской Академии, каковой являлся Коши. Когда период господства Академии подходил к концу, она становилась интеллектуально реакционной силой. Поведение Коши соответствовало централизованной структуре французского научного мира с ее ставкой на научную элиту. Власть надо всей системой была сконцентрирована в руках нескольких парижских функционеров, контролирующих организации, которые считались наиболее престижными институциями во всем мире. Такая структура поощряла разнузданный эгоизм власть имущих. Поведение Коши находит себе параллели и в других областях науки более раннего времени. Известно, например, что высшей степени честолюбивым человеком был Лавуазье [Lavoisier] — великий систематизатор, заложивший номенклатурные и теоретические основы современной химии. Он не испытывал никакого морального неудобства от публикации чужих открытий без ссылок на источник. Открытие им кислорода в 1775 году произошло после обеда с Пристли [Priestly], который впоследствии обвинил Лавуазье в присвоении своих идей. Возможно, поведение Лавуазье было связано с его убеждением, что химия как наука в его работах подошла к завершающему этапу своего развития. Лаплас [Laplace], другой честолюбивый систематизатор и политический оппортунист, также не отличался щепетильностью. Значительная часть написанного им по теории универсальной гравитации была дословно позаимствована из более ранних работ Лагранжа [Lagrange]. Лаплас, видимо, также полагал, что его роль состоит в приведении науки к окончательному совершенству. Подобное убеждение было широко распространено среди французской ученой элиты конца XVIII века. Даже скромнейший Лагранж написал в 1781 году, что, по его мнению, в математике больше нечего открывать. Французская научная элита была избавлена от необходимости встречаться в открытом единоборстве с какой-либо соперничающей силой. Ученые зачастую считали, что если они чего-то не сумели достичь, значит, достичь этого не сумел бы и никто другой. Однако сами по себе научные скандалы указывают на возникновение сил, оппозиционных доминирующей структуре. Имена Абеля и Галуа в конце концов выдвинулись на первый план в центрах, соперничающих с теми, которые находились в епархии Коши. Конкурирующий центр в Берлине встал на защиту Абеля. В новом германском университете во множестве учреждались независимые журналы, открытые для самых разных ученых. В 1826 году Август Крелль [Crelle] основал первый в мире журнал, посвященный исключительно математике. В первом томе Крелль опубликовал некоторые работы Абеля, в том числе его великое исследование по уравнениям пятой степени. Благодаря протежированию работ Абеля германский математик Якоби [Jacobi] услышал об утраченном докладе по трансцендентным функциям и стал запрашивать Французскую академию об обстоятельствах его утраты. Доклад был, в конце концов, обнаружен и представлен вниманию математиков. Подобным же образом Галуа был заново открыт Жозефом Лиувиллем [Liouville], чьей целью было создание альтернативы публикациям Академии. Доклад Галуа был опубликован в первом номере нового журнала Лиувилля в 1846 году. В отличие от времен Лагранжа, когда ведущие интеллектуалы считали науку «исчерпанной», в эру Коши организационная структура все более ориентировалась на отражение и поиск новых путей. Новые реформированные университеты стали конкурировать с французской системой централизованной элитарной науки. Острота научного соперничества резко возросла, обусловив в математике переход к гораздо более строгим и абстрактным методам. Это было началом конца пиратской эры. С этого момента институт соревнования между организационными центрами больше не допускал беззастенчивого научного эгоизма, характерного для математиков прошлого[9]. Кантор против Кронекера: переход к «праведным» ученым-политикам В математике XIX века росло влияние университетских профессоров, особенно в соперничающих между собой германских университетах. Тенденция к обобщению и систематизации знаний, являющаяся одним из принципов университетского образования, превратила математику в дисциплину, весьма удаленную от эмпирического мира и категорий здравого смысла. Конфликты стали разгораться вокруг вопроса об уровне абстрактности математики. Георг Кантор (1845-1918) был несомненным лидером среди ученых, выступавших за крайнюю отвлеченность математики и нисколько не смущавшихся парадоксальными выводами, к которым могла привести такая позиция. В 1870-1880-х годах Кантор развивал теорию трансфинитных последовательностей. В противоположность ему берлинский профессор Леопольд Кронекер (1823-1891) признавал существование лишь натуральных (положительных целых) чисел, полагая, что вся математика должна выводиться из них посредством конечной серии операций. Кантор и Кронекер стали жестокими соперниками, и каждый из них пытался помешать публикации работ другого. Кронекер был одним из редакторов «Журнала Крелля» [Crelle’s Journal] (он редактировал журнал в сотрудничестве с Борхардтом [Borchardt], к которому перешел пост Крелля [Crelle]) и в 1878 году пытался не пропустить публикацию главной работы Кантора об измерениях. Статья в конце концов была напечатана Борхардтом, но после этого Кантор отказался печатать свои работы в «Журнале». Кронекер пытался также не пропустить работу Гейне о тригонометрических функциях, поскольку она шла вразрез с его «натуральной» программой. Тактика Кронекера очень сильно напоминала тактику Коши: он задержал статью, не поставив об этом в известность Гейне. Однако в этот период академические структуры были уже не столь централизованы, чем во времена Коши, и, в конце концов, Гейне смог добиться от Борхардта публикации своей работы. Правда, для этого ему пришлось лично приехать в Берлин. В начале противостояния Кронекер имел в своем арсенале больше средств, чем Кантор. Он был членом Берлинской fкадемии и многих иностранных академий, после смерти Борхардта в 1880 году Кронекер возглавил «Журнал Крелля». Кроме того, значительное личное состояние обеспечивало ему независимость. У Кронекера были влиятельные связи в правительстве, и его мнение имело большой вес при подборе ведущих математиков на университетские профессорские должности. Кантор учился в Берлине (где одним из его учителей был Кронекер), а также в Геттингене (другом крупном математическом центре Германии), но ему никак не удавалось получить должность ни в одном из этих университетов. Он с горечью замечал, что он зарабатывает половину того, что получают другие профессора, и относил свои карьерные неудачи за счет противодействия Кронекера. И все же Кантор также располагал определенными возможностями: ему удалось публиковать свои исследования в конкурирующем с «Журналом Крелля» журналом «Acta Mathematica», который издавал Миттаг-Леффлер [Mittag-Leffler]. Когда в 1884 году Кронекер предложил прислать в «Acta Mathematica» статью, дезавуирующую результаты современных теорий функций и множеств, Кантор пригрозил лишить журнал своей поддержки, если в нем появится какая-то из полемических работ Кронекера. Примерно таким же образом Кантор пытался помешать деятельности итальянского математика Веронезе [Veronese], с которым полемизировал в споре о бесконечно малых величинах[10]. В ответ Кантор создал новую организационную базу для борьбы с влиянием Кронекера на германских математиков. Он стоял за учреждением отдельного математического общества, независимого от более старой ассоциации, объединявшей германских математиков и астрономов в одну из секций Gesellschaft Deutcher Naturforscher Und Arzte (Общество немецких естествоиспытателей и врачей). В 1891 году был основан Deutcher Mathematiker-Vereinigung (Союз германских математиков), и Кантор стал его первым президентом. Прилагая дальнейшие усилия по разрушению «берлинского заговора», Кантор организовал первый международный конгресс математиков, который состоялся в Цюрихе в 1897 году. Усилия Кантора имели как интеллектуальный, так и организационный успех. Возрастающая численность математиков, а также углубление специализации в математической науке способствовали продвижению работ Кантора. На волне стремительного увеличения числа практикующих математиков быстро набирающие силу периферийные университеты выходили из-под контроля таких центров мировой математики, как Берлин и Геттинген. Борьба между Кронекером и Кантором, однако, представляла собой конфликт не между традиционными и новаторскими формами математики, но между соперничающими новыми парадигмами. Кронекер не был традиционалистом от математики: противопоставляя актуальную бесконечность иррациональным, трансцендентным и трансфинитным числам, он пришел к перестройке математики на радикально новой основе. Он предвосхитил интуитивистскую школу XX века и, так же как и Кантор, проложил путь к формалистской программе. Обе стороны боролись за большую строгость математики, но решительно расходились в том, как ее достичь. К рубежу веков, в силу возрастания численности математического сообщества и наличия у него академической установки на строгость и систематизацию, прямые личные состязания между математиками в решении частных задач отошли в прошлое. Социальные условия, которые породили «пиратство», уступили место коллективным конфликтам между школами с конкурирующими программами. Даже Кронекер и Кантор не просто боролись за индивидуальное признание, как это было в более ранние периоды развития математики. А их последователи кардинально изменили стиль и «слились» с коллективом. Пираты уступили дорогу «праведным» ученым-политикам. В XX веке математики впервые начали издавать работы в соавторстве. К 60-м годам 60 процентов математиков хотя бы несколько раз публиковались в соавторстве. Одним из первых математиков, опубликовавшим работу в соавторстве, был кембриджский профессор Г. Х. Харди [Hardy]. Харди опубликовал сотни совместных работ, многие из которых были написаны вместе с не имевшим математического образования индийцем Рамануджаном [Ramanujan]. Математик XVI-XVII веков мог бы ничтоже сумняшеся присвоить результаты, полученные никому не известным индусом, однако Харди открыл Рамануджану путь в Англию и признал независимую работу индийского математика. Соотечественник Харди Бертран Рассел [Russell] предпринял подобные же шаги для признания и публикации работ Фреге [Frege], невзирая ни на то, что Рассел завершил собственный труд до того, как прочитал Фреге, ни на то, что Фреге жил в другой стране и был совершенно не известен в это время. Издав свою самую знаменитую работу «Principia Mathematica» (Whitehead, Russell, 1910), Рассел стал в ней вторым автором, хотя эта работа содержала доктрину, которую он уже разработал самостоятельно и опубликовал в своих «Началах математики» (Russell, 1903). Лидер геттингенской формальной школы Давид Гильберт [Hilbert] был «праведным политиком», заслуживающим всяческого уважения. В отличие от Коши, он брал под защиту побежденную в академическом споре сторону, боролся против притеснения женщин и политических радикалов (несмотря на то, что его собственные политические убеждения носили консервативный характер) и преследовал академический антисемитизм. В отличие от националистически окрашенного поведения ученых эры Ньютона — Лейбница, Гильберт в Германии (так же как и Рассел в Англии) противостоял шовинизму в математике и воздавал должное математикам из враждебных стран даже во время Первой мировой войны. Математики XX века словом и делом подчеркивали, что наука — это коллективное предприятие. Крайний предел этой тенденции представляет история Никола Бурбаки [Bourbaki] — вымышленной фигуры, за которой скрывалась группа работавших коллективно французских математиков. «Бурбаки» являет собой попытку объединить современную математику в терминах теории множеств. Подобным же образом Рассел и Уайтхед [Whitehead] стремились вывести всю математику из простой логической основы, а формальная программа Гильберта развивала программу его геттингенского предшественника Феликса Клейна [Klein] по объединению геометрии вокруг единой для всей математики аксиоматической структуры. Эти «объединители» рассматривали историю математики как историю коллективного предприятия. Они не только со всей щепетильностью признавали заслуги всех предшествующих поколений, но также старались смирить собственные амбиции перед лицом грядущих достижений математической науки. Этим они отличались от Лавуазье, Лапласа и Лагранжа, убежденных, что в исследуемых ими областях скоро не будет новых открытий. Рассел подробно описывал, в каком направлении его работа должна быть продолжена, и отдавал должное методам, которые, как он полагал, превзойдут его собственный. Гильберт, горячо поддерживавший Международный конгресс математиков, произнес на его втором съезде в 1900 году знаменитую программную речь, в которой наметил ряд нерешенных проблем для будущих поколений математиков. «Наука полна жизни, когда она в изобилии предлагает нам нерешенные вопросы, — сказал он. — Отсутствие вопросов есть признак смерти». Пятью годами позже лидер группы «Бурбаки» Андре Вейль [Weil] высказал аналогичные мысли по поводу развития математической науки: Антуан Лоран Лавуазье «…Существует совсем немного проблем, тесным образом не соотнесенных с другими, которые, на первый взгляд, кажутся далекими от них. Когда какая-то область математики начинает интересовать только специалистов, она очень близка к смерти или, во всяком случае, находится в опасной близости к параличу, от которого ее может спасти только подключение к живительному источнику науки». Взгляд на математику как на продолжающую развиваться систему, элементы которой тесно взаимосвязаны между собой, побуждал математиков подчинить себя коллективу. Коллективистский подход в математике XX века предопределен структурно. Математикам, стремящимся удовлетворить свои научные амбиции, поневоле приходится становиться альтруистами. В силу роста математического сообщества и развития многочисленных специальных областей независимым математикам становится очень трудно (если вообще возможно) в одиночку добиться признания своих публикаций. Чтобы выжить в новых обстоятельствах, ученый уже не может полагаться только на себя самого при решении всего комплекса стоящих перед ним математических проблем, как это было во времена Кардано. Невозможно уже и, подобно Лейбницу, разработать интеллектуальную программу, способную доминировать в математическом мире. Невозможно также, подобно Коши, лично править математическим миром, опираясь на собственную фанатичную преданность работе и тотальный контроль над издательской системой. В XX веке честолюбивый математик должен давать результаты, применимые во многих разнообразных отраслях математики. Предмет его исследований должен быть системообразующим на высоком уровне абстракции. Несмотря на произошедшие структурные изменения, стимулом математического новаторства продолжает оставаться и дух соревнования. Но только сегодня агрессивное, соревновательное поведение ученых скрыто за коллективными, организационными формами. Успешный строитель империи больше не может создавать личную империю. Он должен действовать политически и создавать организации. В нынешней ситуации к успеху ведут исключительная вежливость, признание чужих заслуг, вовлечение в работу коллег и коллективное, организационное сознание. Мы не хотим сказать, что коллективизм и альтруизм в современном мире не знают пределов. Адепты одной научной школы могут признавать и поощрять заслуги ученых, принадлежащих к этой же школе, и жестко критиковать представителей конкурирующих школ. Это особенно верно в отношении антагонистических школ, таких как интуитивизм Брауэра [Brouwer], выросший из противостояния систематизаторам[11]. Однако даже анти-системные движения становятся в современной ситуации конкурирующими системами. Эра строителей систем поощряет идеалы альтруизма, само-отвержения, преданности коллективным целям, ориентацию на вечные ценности или, используя выражение Гильберта и Вейля, деятельность «во славу человеческого духа». Мертонианский образ науки основан на идеалах XX века. Под этими идеалами покоится структура коллективного соревнования, внутри которой честолюбивые индивидуумы могут преуспеть только в качестве бескорыстных представителей научной группы — коротко говоря, «святых» интеллектуалов-политиков. Заключение В рассмотренных нами примерах отразились не только личностные особенности отдельных людей. Личность частично формируется условиями работы и отражает их: серьезные интеллектуалы вкладывают в свою работу долю себя, свое время и энергию. Описанные нами случаи не являются и банальным копанием в чужом «грязном белье», или побочным продуктом интеллектуальной жизни. Общее решение кубических уравнений было эпохальным событием. Впервые в истории европейские ученые разрешили задачу, с которой не в состоянии были справиться древние греки. В этом смысле можно утверждать, что «Ars Magna» Кардано стала отправной точкой научной революции. Она также зачинает эру новых алгоритмов в решении задач и открывает дорогу ко все более и более высоким уровням абстракции. Лейбниц и Ньютон занимались развитием базисных методов математического анализа. Они открыли математикам новые горизонты и заложили основы практически всей математики XVIII века. Коши, Абель и Галуа разрабатывали теорию множеств и ввели в употребление новые абстрактные методы и строгие доказательства — ключ к великим достижениям высшей математики XIX века. Обращение Кантора к бесконечно малым ознаменовало начало периода, в который проблемы оснований стали центральными в математической работе. Гильберт, Рассел и Бурбаки были величайшими систематизаторами за все время существования математики начиная с Эвклида и, так же как и их оппоненты Брауэр и Гедель, создали величайшие школы математики XX века. Упомянутые конфликты не сводимы также к проблеме параллельных открытий и вопросам первенства. Если этот мотив и присутствует в случае Ньютона — Лейбница, то в других случаях мы сталкиваемся также с проблемами нарушения тайны (Кардано — Тарталья), притеснения конкурирующих идей (Коши – Пуассон – Абель — Галуа), полного присвоения чужих идей (де Лопиталь, Грегори, Бернулли), националистической пристрастности (последствия конфликта Ньютона — Лейбница) и борьбы за контроль над университетскими позициями, журналами и научными обществами (Кантор — Кронекер). Для объяснения этих эпизодов истории науки не годится ни мертонианская, ни куновская модель. Ни в одном из этих случаев мы не встречаемся с переменами в математике, обусловленными борьбой между адептами и критиками существующих парадигм. Источник изменений — всегда соперничество новаторов. Более того, основная тенденция, длительное время существующая в западной математике, развивается не в сторону единичных, доминантных парадигм, но скорее в сторону конкуренции школ, которые по-своему решают фундаментальные вопросы о методиках и математическом познании. Если математика — самая «взрослая» из наук, то в период своей «зрелости» она движется к наибольшему, чем когда-либо в истории парадигматическому плюрализму. Поэтому она сблизилась с социальными науками или другими отчетливо «до-парадигматическими» полями гораздо сильнее, чем это допускает образ науки, предложенный Куном. Рассмотренные нами скандалы и конфликты и сопутствовавший им интеллектуальный прогресс следует анализировать в свете изменения организационных форм, стоящих за этими конфликтами. Ссора Кардано — Тарталья знаменует начало падения патриархальной организации интеллектуальной собственности и системы состязаний между математиками: засекреченность общих методов и публикация отдельных задач и решений уступали место интеллектуальному состязанию вокруг более абстрактных идей. Конфликт Ньютона — Лейбница вскрывает переход от традиционных форм патронажа к более стабильному правительственному патронажу, осуществляемому через академии, и связанный с этим переход от неофициальной коммуникационной сети, формировавшейся вокруг «центров» обмена научными посланиями, к более «безличной» арене научных журналов. Скандал с Абелем и Галуа во Французской академии, в свою очередь, указывает на закат института централизованного патронажа и на подъем университетов, ориентированных на исследовательскую деятельность. Споры Кантора — Кронекера происходили в эпоху, когда относительно малая элитарная университетская сеть преобразовывалась в математическое сообщество в мировом масштабе. В каждом случае амбиции интеллектуалов, преследовавших собственные интересы, такие как слава и богатство, выигрывали от использования организационных ресурсов, предлагавшихся новой ситуацией. Появление «праведных» ученых-политиков является одним из источников развития тех идеалов, которые Мертон ошибочно рассматривает как универсальные нормы науки. Однако даже в XX веке соревнование ученых, преследующих личный интерес, продолжает оставаться источником интеллектуального прогресса. Структурные условия лишь вынуждают ученых изыскивать коллективные, а не индивидуалистические формы интеллектуальной борьбы. Подобно экономическим «пиратам», интеллектуальные «пираты» не столько исчезли вовсе, сколько поменяли «окраску». Вульгарное пиратское поведение сошло на нет в той мере, в какой интеллектуальное сообщество достигло плюрализма. Коллективные формы научной деятельности до определенной степени маскируют это поведение. «Праведные» ученые-политики — это цивилизованные «пираты». Эра «праведных политиков» не лишена своих скандалов. Крупнейшие скандалы последнего времени произошли не в математике, а в биомедицинских науках. Одни разгорелись вокруг фабрикации экспериментальных данных, другие — вокруг воровства идей из работ, отданных на рецензию в научный журнал. Пользуясь большим числом публикаций, некоторые ученые стали издавать чужие исследования под другим названием. Учитывая, что степень фрагментации и специализации в математике крайне высока и что количество читателей той или иной математической статьи весьма ограниченно, можно предположить, что подобные случаи происходят и в математике: фрагментация этой науки так велика, что этого просто никто не замечает. Однако интеллектуальный прогресс в науке не может остаться незамеченным. Отсутствие крупных скандалов или острых конфликтов позволяет предположить, что ныне математическое сообщество не переживает серьезных организационных перемен. По крайней мере, перемен, затрагивающих основания организационной системы этой науки. Математика и другие науки совсем не обязательно проходят все описанные нами организационные стадии. Математические поединки в Ренессансной Италии, академии XVII и XVIII веков, реформы в германских университетах начала XIX века — все это имело особые исторические причины, накладывавшие свой отпечаток на интеллектуальную жизнь. Другая констелляция условий могла привести к иным последствиям. Несмотря на то, что засекреченность методов решения задач характерна для математики в относительно ранние периоды ее развития в разных культурах, а также на то, что со временем эта засекреченность уступила место открытому соревнованию, нет оснований считать, что секретность не станет «нормой» в будущем. В наше время на такую возможность намекает нам стремление многих правительств превратить релевантные для криптографии математические достижения в «информацию с грифом секретности». Организационную структуру математики может изменить также природа и доступность организационных и материальных ресурсов. Если математики будут становиться все более зависимыми от военного финансирования или дорогостоящих компьютеров, они могут стать свидетелями именно такой организационной перестройки. Согласно предположению Поля ди Маджо [DiMaggio], старая патриархальная организация интеллектуальной собственности вполне может обрести новую жизнь, если большая часть математиков будет работать в коммерческих лабораториях, где открытия считаются скорее собственностью компании, чем индивидуальной собственностью. Нельзя ожидать, что организационное развитие науки пойдет по пути простой линейной эволюции. Более того, мы полагаем, что развитие математического знания, которое коренится в организационных формах науки, следует этим формам, а не является отражением простой линейной эволюции, наделенной некой «внутренней логикой». Задача социологической теории науки состоит в том, чтобы вывести общие закономерности из анализа единичных происшествий, подобных рассмотренным выше. Ни теория Мертона, ни теория Куна не могут предсказать изменений в интеллектуальной сфере. Куновская модель предполагает только, что доминирующие парадигмы в конце концов разрушаются вследствие накопления эмпирических аномалий. Модель Мертона выглядит еще более слабой, потому что она описывает статичный набор норм и не учитывает переменные предпосылки, которые могут оказать влияние на продуктивность интеллектуальных процессов. Единственная модель, которая, как нам кажется, согласуется с нашими данными, — это модель теоретических групп, предложенная Гриффитом и Маллинзом [Griffith and Mullins, 1972; 1973]. Основателем такой теоретической группы был Лейбниц, являвшийся как интеллектуальным, так и организационным лидером. Бернулли и де Лопиталь обеспечили организацию центров теоретической подготовки в Базеле и Париже и стандартный текст. Все это создает, по выражению Гриффита и Маллинза, «сетевую стадию». Атаки англичан на школу Лейбница и контратаки лейбницианцев вкупе с нарастающим догматизмом периода 1700-1720 годов хорошо укладываются в описываемую этой моделью «стадию объединений». Хронологические рамки этих стадий приблизительно согласуются с данными Маллинза для теоретических групп в социальной науке XX века и других областях. Предлагаемая Гриффитом и Маллинзом модель могла бы быть интегрирована в более общую картину научных инноваций, если бы включала также структуру соперничающих теоретических групп и длинной последовательности стадий, через которые они проходят. Интенсивность научного творчества наиболее высока в период наиболее серьезных прорывов к новым организационным формам, структурирующим научную деятельность и коммуникацию. Организационные прорывы оказываются также главной причиной научных скандалов, из чего следует, что в эпоху, свободную от научных скандалов, снижается и вероятность интеллектуальных прорывов. Влияние различных видов научного соревнования и частных институциональных учреждений на содержание интеллектуального творчества еще предстоит яснее определить, уточнить и формализовать в ходе дальнейшего анализа. Такая теория могла бы быть приложима не только к математике, но и, в соответствующей модификации, ко всем теоретическим наукам. Библиография Ball, W.W. Rouse. A Short Account of the History of Mathematics. [1908] New York: Dover, 1960. Barber, Bernard. Science and the Social Order. New York: Free Press, 1952 Barkill J. C. ”Hardy, G. G.” In Dictionary of Scientific Biography, 6: 113-114. New York: Scribners, 1972. Barnes, B. T. S. Kuhn and Social Science. London: Macmillan, 1982. Bell, E. T. Men of Mathematics. New York: Simon and Schuster, 1937. Ben-David, J. The Scientist's Role in Society. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1971. Bloor, D. Knowledge and Social Imagery. London: Routledge and Kegan Paul, 1976. Boas, R. P., Jr. “Bourbaki.” In Dictionary of Scientific Biography. 2: 351-352. New York: Scribners', 1970. Bos, HJ. M. and H. Mehrtens “The interaction of mathematics and society in history: some explanatory remarks.” Historia Mathematica 4: 7-30, 1977. Bourbaki, N. “The architecture of mathematics.” In Great Currents in Mathematical Thought, Vol. 1, pp. 23-36. [1947] New York: Dover, 1971. Broad, C. D. Leibniz. New York: Cambridge University Press, 1975. Broad, W. and N. Wade Betrayers of the Truth. New York: Simon and Schuster, 1983. Cajori, F. A History of Mathematical Notation. [1928] LaSalle, Illinois: Open Court, 1962. Cajori, F. A History of Mathematics. Second edition. [1919] New York: Macmillan, 1974. Cardan, J. The Book of My Life. [ 1570] New York: Dover, 1962. Clark, T. N. Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973. Cohen, I. B. “Newton.” In Dictionary of Scientific Biography. 10: 42-103. New York: Scribners', 1974. Cole, S. and J. Cole. Social Stratification in Science. Chicago: University of Chicago Press, 1973. Collins, R. Conflict Sociology. New York: Academic Press, 1975. Collins, R. “Crises and declines in credential systems.” In Sociology Since Midcentury, by R. Collins, pp. 191-215. New York: Academic Press, 1981. Costabel, P. “Poisson,” in Dictionary of Scientific Biography, supplement. 15:480-491. New York: Scribners', 1978. Dauben, J. W. Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979. Freudenthal, H. “Cauchy.” In Dictionary of Scientific Biography. 3: 131-148. New York: Scribners', 1971. Freudenthal, H. “Hilbert.” In Dictionary of Scientific Biography. 6: 388-395. New York: Scribners', 1972. Gliozzi, M, “Cardano.” In Dictionary of Scientific Biography. 3: 64-67. New York: Scribners', 1971. Grabinger, J. The Origins of Cauchy's Rigorous Calculus. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1981. Griffith, B.C. and N.C. Mullins. “Coherent social groups in scientific change.” Science 77:959964, 1972. Guerlac, H. “Lavoisier.” In Dictionary of Scientific Biography. 8: 66-91. New York: Scribners', 1973. Hagstrom, W. O. ”Anomie in scientific communities.” Social Problems 12 (1964): 186-195. Hagstrom, W. O. The Scientific Community. New York: Basic Books, 1965. Hall, A. R. Philosophers at War: The Quarrel between Newton and Leibniz. New York: Cambridge University Press, 1980. Hargens, L. Patterns of Scientific Research: A Comparative Analysis of Research in Three Fields. Washington, D.C.: American Sociological Association, 1975. Hofmann, J. E. Leibniz in Paris: 1671-76. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. Hofmann, J. E. “Leibniz.” In Dictionary of Scientific Biography. 8: 149-168. New York: Scribners', 1973. Hooper, A. Makers of Mathematics. New York: Random House, 1948. Jayawardine, S. A. “Ferrari.” In Dictionary of Scientific Biography. 4: 586-588. New York: Scribners', 1971. Kramer, E. E. The Nature and Growth of Modern Mathematics. Volume 2. New York: Fawcett, 1970. Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. Kuhn, T. S. “Postscript.” In The Structure of Scientific Revolutions, by T.S. Kuhn, second edition, pp. 174-210. Chicago: University of Chicago Press, 1970. MacKenzie, D. Statistics in Britain, 1865-1930. Edinburgh: University of Edinburgh Press, 1981. Masotti, A. “Ferro.” In Dictionary of Scientific Biography. 4: 595-596. New York: Scribners', 1971. Masotti, A. “Tartaglia.” in Dictionary of Scientific Biography. 8: 258-262. New York: Scribners', 1976. Merchant, C. The Death of Nature. New York: Harper and Row, 1980. Merton, R. K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1957. Merton, R. K. The Sociology of Science. Chicago: University of Chicago Press, 1973. “An episodic memoir.” In The Sociology of Science in Europe, edited by R.K. Merton and J. Gaston, pp. 3-141. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1977. Mullins, N. Theories and Theory Groups in American Sociology. New York: Harper and Row, 1972. Ore, O. “Abel.” In Dictionary of Scientific Biography. 1: 12-17. New York: Scribners', 1970. Parpart, U. “The concept of the transfmite.” The Campaigner 9: 6-66, 1976. Parsons, T. The Social System. New York: Free Press, 1949. Price, D. Science since Babylon. Enlarged edition. New Haven: Yale University Press, 1975. Ravetz, J. and I. Gratten-Guiness. “Fourier.” In Dictionary of Scientific Biography. 5: 93-99. New York: Scribners', 1972. Reid, C. Hilbert. New York: Springer-Verlag, 1970. Restivo. S. “Mathematics and the limits of the sociology of knowledge.” Social Science Information 20: 679-701, 198la. Restivo. S. “A materialist account of mathematics in ancient Greece and pre-modern Europe.” Draft manuscript, 1981b. Restivo. S. “Mathematics and the sociology of knowledge.” Knowledge 4: 127-144, 1982. Restivo. S. “The myth of the Kuhnian revolution in the sociology of science.” In Sociological Theory, vol. 1, pp. 293-305. San Francisco: Jossey-Bass, 1983. Russell, B. The Principles of Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 1903. Russell, B. “Introduction to the second edition.” in The Principles of Mathematics, by B. Russell, pp. v-xiv, second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 138. Shapin, S. “Licking Leibniz.” History of Science. 19: 293-305, 1981. Smith, D. E. History of Mathematics. Vol. 1. [1923] New York: Dover, 1958. Stone, L. “The size and composition of the Oxford student body, 1590-1909.” In The University in Society, edited by L. Stone, pp. 3-110. Princeton: Princeton University Press, 1974. Taton, R. “Galois.” In Dictionary of Scientific Biography. 5:259-265. New York: Scribners', 1972. Thackray, A. “The business of experimental philosophy': the early Newtonian group at the Royal Society.” Actes du XJle congres international d'histoire des sciences, Paris IIIB: 155-159, 197071. van Heijenoort, J., ed. From Frege to Godel: A Sourcebook in Mathematical Logic, 1879-1931. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967. Wavre, R. “The international congress of mathematics.” In Great Currents in Mathematical Thought, vol. 1, edited by F. LeLionnais, pp. 312-320. New York: Dover, 1971. Weil. A. “The future of mathematics.” In Great Currents in Mathematical Thought, vol. 1, edited by F. LeLionnais, pp. 321-336. New York: Dover, 1971. Westfall, R. S., “Newton's marvelous years of discovery and their aftermath.” Isis 71: 109-121, 1980. Westfall, R. S. Never at Rest: A Biography of Isaac Newton. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Whitehead, A. N., and B. Russell. Principia Mathematica. Cambridge: Cambridge University Press, 1910. Whitehead, A. N., and B. Russell. Principia Mathematica. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1927. * Randall Collins and Sal Restivo, “Robber Barons and Politicians in Mathematics: A Conflict Model of Science,” The Canadian Journal of Sociology 8 (1983): 199-227. [1] Эти взгляды Куна подробно проанализированы Рестиво (Restivo, 1983). Рестиво опровергает точку зрения, защищаемую Барнсом (Barnes, 1982), будто бы Кун внес «фундаментальный вклад в социологию знания», а его книга является важнейшей отправной точкой для социолога науки. [2] Мы хотели бы подчеркнуть, что в этой статье наше внимание прежде всего обращено на скандалы и склоки, служившие водоразделами исторических периодов в организации математики. Мы останавливаемся перед полной конструктивистской интерпретацией математического знания из практических, а не исследовательских соображений. Мы хотели бы отметить, что исследования и теория социальной истории математической науки переживает в последние годы подъем (см. в частности: (Bloor, 1976); (Bos and Mehrtens, 1977); (MacKenzie, 1981). Введение в историографию, обзор современных исследований и теорию социологии математики, а также соотношения математики и социологии науки см. Рестиво (Restivo, 1981а; 1982). [3] Например, задача, заданная Коллой Кардано в 1540 году: «Разделить 10 на 3 пропорциональные части так, чтобы произведение первой и второй было равно 6». Задачи формулировались в словесной форме, алгебраические формулы тогда еще не существовали. В современных терминах, если определить значение трех выражений, решение принимает форму уравнения x4 + 6x2 + 36 = 60x. [4] По иронии судьбы Сципион дель Ферро, наиболее вероятный первооткрыватель (хотя он мог почерпнуть решение в каком-то неизвестном источнике), совсем не пользовался посмертной славой, хотя Кардано прямо сослался на него в «Ars Magna». Скорее всего цель Кардано заключалась в том, чтобы подорвать авторитет Тартальи — своего главного соперника. На самом деле это можно сформулировать в виде общего правила: интеллектуалы обычно склонны предоставлять первенство третьей стороне, чтобы оспорить претензии близкого и современного соперника. В своей исповедальной автобиографии, опубликованной через двадцать пять лет, Кардано (Cardan, 1962: 225-226) говорит, что получил первую часть «Ars magnum» от Тартальи, и ни словом не упоминает вклад Ферро или Феррари. [5] Главной целью Кардано было укрепление собственной репутации, и математика значила для него гораздо меньше, чем успех в медицине, азартных играх и астрономии. В автобиографии, написанной в 1570 году (Cardano, 1962), он утверждает, что получил за свою жизнь более похвал, чем Аристотель или Гален, и выказывает полное презрение к интеллектуальным способностям тех (например, Тартальи), кого он считал своими врагами. По современным понятиям это поразительно самовлюбленная позиция. [6] См. Thackray, 1970-1971. [7] Мы не можем здесь углубляться в рассмотрение связей между математикой, теологией, экономикой, политикой и социальными вопросами, затронутыми в этом абзаце. Проницательные замечания относительно этих связей см., например, у Мерчанта (Merchant, 1980: 275 и след.) и Рестиво (Restivo, 1981b). Следует отметить, что утверждение, будто Ньютон и Лейбниц «изобрели» исчисление, нуждается в двух уточнениях. Во-первых, что более очевидно, их труды основывались на столетиях работы и шли параллельно трудам многих их современников (например, Барроу) и были продолжены последующими трудами, что гораздо правильнее рассматривать как развитие математической идеи или системы, нежели как статическое понятие, которое может быть открыто или изобретено «раз и навсегда» в определенной точке исторического и культурного времени и пространства. Во-вторых, и это гораздо более существенно, не существовало никакого единого исчисления. Системы Ньютона и Лейбница опирались на различную философию природы и диаметрально различные представления о мире (см.: Hall, 1980; Shapin, 1981). [8] У этой работы было два референта. Второй, Лежандр, очевидно, не видал ее до того как Коши потерял рукопись. Из письма немецкого математика Якоби (Jacobi) он узнал о существовании работы и взял на себя инициативу посмертного признания заслуг Абеля (Ore, 1970: 12-17). Тот факт, что Лежандр и Коши совместно сделали официальное предложение присудить премию Абелю в 1829 году некоторые историки толкуют как свидетельство добросовестности Коши (Freudenthal, 1971: 134), однако очевидно, что Коши дейстововал под давлением, когда с таким запозданием исправил свою ошибку. [9] Грабинжер (Grabinger, 1981) считает Лагранжа ключевой переходной фигурой, отделяющей эру Ньютона (Newton), Маклорена (Maclaurin), Эйлера и Д’Аламбера (d’Alembert) от эры Коши, Абеля, Больцано (Bolzano), Вейерштрасса (Weierstrass) и Дедекинда (Dedekind). Хотя риторика Грабинжер относительно революционных перемен затемняет важные постоянно сохраняющиеся элементы, ее выводы относительно взаимоотношения обучения и высоты критериев заслуживают внимания и совпадают с нашими наблюдениями. [10] Кантор обвинил Дюбуа-Реймона в том, что тот использует теорию бесконечно малых величин «для насыщения своего непомерного честолюбия и тщеславия». Кантор рассматривал математическую проблему не как бескорыстный поиск истины, но как «вопрос власти, а такого рода вопросы никогда не решаются путем убеждения, вопрос заключается в том, чьи идеи более сильны, всеобъемлющи и плодотворны, Кронекера или мои; только успех со временем разрешит наш спор» (Parpart, 1976: 56). [11] Программа интуитивистов требовала отбросить значительные разделы математики, которые представлялось невозможным обосновать. Лидер группы «Бурбаки» выразил презрение к позиции интуитивистов: «Только немногие отсталые сознания могут все еще защищать точку зрения, будто математики должны по-прежнему полагаться на свою “интуицию” в качестве нового, внелогического, или “дологического” элемента доказательства. Если некоторые области математики еще не получили своей аксиоматики, то <…> только потому, что на это недостало времени» (Weil, 1971: 324; Bourbaki, 1971: 29). З.А.Сокулер Вопрос о революциях в истории математики (Зарубежные исследования по философским проблемам математики 90-х гг. Научно-аналитический обзор. М.: ИНИОН, 1995. С. 44 -54.) Тема научных революций (HP) обсуждается в философии матемaатики недавно, всего лет двадцать. Она пришла в философию математики из постпозитивистской философии науки и еще не вполне завоевала себе права гражданства (23). Сборник "Революции в математике (25) складывался, как рассказывает его издатель Дональд Джиллис (преподаватель истории и философии науки в Королевском коллежде, Лондон, Великобритания), в результате многочисленных дискуссий и был продиктован желанием их участников разобраться в том, как выглядит в свете современного состояния истории и философии математики начатая 20 лет тому назад полемика о наличии HP в истории математики. В 1975 г. Майкл Кроу (Университет Нотр-Дам, Нотр-Дам, США) выступил со статьей (ее перепечаткой открывается данный сборник, см. (2)), в которой сформулировал 10 "законов" развития математики. Ими утверждается, что новые математические понятия зачастую возникают не в результате, но вопреки настойчивым усилиям их создателей, всеми силами пытавшимися избежать введения этих новых понятий. Новые понятия часто встречаются поначалу с упорным сопротивлением и признаются математическим сообществом только по истечению значительного времени. Математические теории достигают требующейся логической строгости лишь с течением времени, иногда длительного, но никак не сразу. Математики сохраняют некоторые понятия вследствие их удобства, даже если это не отвечает требованиям логики, Математические теории имеют свою метафизику. Признание сообществом нового математического понятия зависит от научной репутации его создателя. Математики владеют обширным запасом технических средств, позволяющих им избавляться от противоречий и затруднений в своих теориях. На основе всех предыдущих "законов" Кроу формулирует десятый "закон", гласящий, что "в математике не бывает революций" (2 ,с.19): т.е. в ней не случается отбрасывания принятых понятий и теорий. Развитие математики чисто кумулятивно, утверждает Кроу, не тратя, впрочем, много времени и усилий на обоснование этого "закона", ибо он представлялся ему очевидным. В 1976 г. появилась статья Герберта Мертенса (19), в которой обсуждалась применимость куновской модели развития науки к истории математики. При этом Мертенс считал методологически очень полезными понятия "аномалия* и "научное сообщество", но сдержанно отнесся к применимости понятий HP и "кризиса парадигмы". В написанном в 1992 г, для сборника (25) добавлении (20) Мертенс отмечает, что понятие "революция** имеет столь сильные политические ассоциации, что в применении к науке может выглядеть только как метафора. Но в этом последнем качестве она вполне может использоваться в реконструкциях истории математики, она будет указывать на смену доминирующих традиций. Эта смена может и не выглядеть такой уж "революционной", если историк сконцентрировался исключительно на "внутренних» фактах истории науки. Дело в том, что в представление о революциях в истории математики заложена идея связи математики с обществом, культурой, экономикой, естественными науками, технологией и т.п. Сам термин "революция" является, конечно, ценностно-нагруженным. Описать событие как революцию - значит выделить и подчеркнуть определенные его аспекты, прежде всего структуры власти, до и после исследуемого события. При этом подходе термин "научная революция" оказывается близок к используемому Г,Башляром и М.Фуко понятию эпистемологического разрыва. Такой "разрыв* может не иметь точной даты или временных рамок. Так, например, неевклидова геометрия была создана в 1830-х гг., а признана в 1860-х., хотя противодействие ей продолжалось до начала XX в. Препятствием на пути неевклидовой геометрии было убеждение, что геометрическая теория должна быть истинным описанием независимой от нее реальности. Преодоление этого представления и может быть реконструировано как революция в истории математики. Но как должна быть описана эта революция? Какой контекст требуется для ее адекватной реконструкции? Должен ли он, например, включать историю модернизма в живописи с его экспериментами в области изображения пространства? Или это несущественно, а существенна, скажем, история алгебры? Тут, отвечает Мертенс, не может быть единственного определенного ответа. "Интерпретации обусловлены не историей, а историком, и зависят от их решения писать о том-то, для такой-то аудитории и с такой-то целью" (20, с.44). В частности, может быть написана хорошая история "революции в геометрии XIX в.", оставляющая в стороне и алгебру, и философию, и искусство. Лишь бы историк науки отдавал себе отчет в том, что такой характер его работы обусловлен его личным выбором, а не сущностью геометрии самой по себе; историк науки должен понимать также, что выбор аспекта рассмотрения и материала к теме в значительной мере предопределяет получающиеся выводы. Поэтому история науки, как заключает Мертенс, есть и искусство, и наука. Такое понимание характера историко-научных исследований само является, как отмечает Мертенс, выражением "эпистемологического разрыва" с прежними способами понимания науки и ее истории. Данный разрыв, переживаемый историографией науки, неотделим от эпистемологического разрыва, произошедшего в самой науке. Например, историография математики может описывать как "эпистемологическое препятствие" идею единственной истинной геометрии или представление о математической теории как истинном описании какой-то реальности только потому, что в самой математике произошел эпистемологический разрыв с подобными представлениями. Историк науки, таким образом, зависит от современных способов рефлексии математиков над своей практикой. Требуется, чтобы он осознавал и учитывал эту зависимость: "Ведь мы-то находимся по эту сторону эпистемологического разрыва, утвердившего неевклидову геометрию как законную и важную часть математики. Мы не можем вернуться в состояние неведения" (20, с.44). Прежде чем спорить о том, имеются ли в математике HP, говорит Мертенс, следует определиться в понимании того, что значит "в математике"? Что находится в математике, а что является лишь "внешним фактором"? Предлагая собственный ответ, Мертенс недвусмысленно демонстрирует зависимость от современного способа рефлексии математиков, сложившегося в результате споров вокруг неевклидовых геометрий. Одним из классических выражений этой рефлексии было утверждение Д.Гильберта, что в математике истина и существование эквивалентны непротиворечивости, Мертенс ссылается на "семиотическую" трактовку природы математики, согласно которой математика есть знаковая конструкция определенного рода. Если в ней и есть истины, то - это истины о ней самой, ибо математика говорит только о своих собственных знаковых конструкциях Различные математически теории работают с определенными типами знаковых конструкций, обозначающих правила для их «собственного» использования. Семиотический подход, как признает Мертенс, вызывает много гносеологических вопросов, но имеет то бесспорное достоинство, что позволяет избавиться от вопросов типа: "О чем математика? Что лежит внутри математики?" Говоря о семиотическом подходе к природе математики, Мертенс ссылается на работы Б.Ротмена, П.Дэвиса и Р.Херша 80-х гг. Однако, как мне кажется, говоря о подобном подходе, следовало бы упомянуть, что его разрабатывал еще в 30-е гг. Л. Витгенштейн. При этом он развил представления о "следовании правилу» 11 и проанализировал гносеологические вопросы, встававшие перед его подходом. Взгляды Витгенштейна были крайне еретическими в 30-40-е гг., когда исследования по основаниям математики подмяли под себя всю философию математики. Но почему Мертенс забывает упомянуть о них теперь, когда ситуация изменилась? Выше я говорила об одной черте, характерной для современной ситуации в философии и историографии науки, обозначая ее условным названием "антропологический поворот»: история науки начинает рассматриваться как история людей и их практик, а не как история совершенно автономных теоретических сущностей. Хотя Мертенс не употребляет таких слов, данная черта присутствует в его рассуждениях явно. В самом деле: являются ли позиции Кроу и Мертенса несовместимыми? Первый утверждает, что в истории математики не бывает HP, a второй - что они были, есть и будут. Но ведь очевидно, что они говорят о разных вещах. Кроу понимает под HP отбрасывание ранее принимавшихся теорий вследствие обнаружения их ложности. Ясно, что значительные эпизоды в истории математики имеют другой характер. Например, аналитическая геометрия вовсе не показала ложность античной теории конических сечений; принятие неевклидовых геометрий не влекло признание ложности евклидовой и т. д. Кроу ясно формулирует свою мысль, говоря, что в математике революций не бывает. Революции, о которых говорит Мертенс, происходят, в этом смысле, "возле" математики, но не в ней. Из его описания видно, что революции происходят в сознании людей, занимающихся математикой. Так есть ли противоречие между утверждениями Кроу и Мертенса, и в чем оно состоит? Думаю, что в следующем: для Мертенса, в отличие от Кроу, то, что "в" математике, не существует как самостоятельная реальность, которую следует изучать в абстракции от того, что происходит в сообществе математиков (которое само является частью более широкого человеческого сообщества). Мертенс утверждает, что "истинность" и "значение" систем математических знаков существуют только в математических сообществах как интерпретация математиками своей практики. Эти интерпретации историчны. Например, понимание своей практики и смысла своих результатов у математиков Древней Греции существенно отличается от самопонимания математиков Нового времени. И эта историческая смена демонстрирует глубокую связь математики с культурой, ее системами интерпретаций и смыслов. "Математика всегда была частью общественной системы производства в культуре знаков и смыслов» (20, с.47). Тезис о существовании HP в математике поддержал председатель Международной комиссии по истории математики Джозеф У. Даубен (Нью-Йорк, США). В 1984 г. он писал, что понятие революции традиционно означало замену системы авторитетов, и для анализа истории математики можно использовать практически такое же понимание (4). Различие будет связано с тем, что в политической революции старая система авторитетов уничтожается, а в результате математической революции она обычно сохраняется, но уже в ином статусе. В качестве примеров он рассматривал открытие в античности несоизмеримых величин и порожденную этим проблему иррациональности, а также создание трансфинитной теории множеств Г.Кантора. В добавлении, написанном для этого издания (5), он доказывал также, что революция в понимании математической строгости, совершенная О.Коши, и в самом деле является революцией. Коши был первым, кто сумел, наконец, дать достаточно строгую формулировку оснований анализа: построить точное определение предела, до некоторой степени разработать теории сходимости, непрерывности, производной и интеграла. Эта революция затрагивала основания анализа. А изменения в основаниях не могут не затрагивать всю структуру, основанием которой они являются. В данном случае, новые стандарты строгости вызвали революцию в стиле математического анализа, что, в свою очередь, повлекло революционную перестройку самого содержания анализа. Ведь на основании новых критериев строгости оказалось возможным открыть понятия типа равномерной сходимости, которые нельзя было даже сформулировать в понятиях XVIII в. Важнейшим признаком революции в науке является изменение принятого языка. В эпизоде с Коши такое изменение налицо - появился язык "эпсилон-дельты". Чтобы оценить глубину и радикальность этих изменений, Даубен предлагает вспомнить, что большинство математиков XVII в. интересовались преимущественно результатами и мало заботились об обосновании. В XIX в., напротив, проблемы оснований приобретают все большее и большее значение. Почему стиль математического мышления так изменился? Мне хочется обратить внимание на то, что Даубен не ищет тут какое-то внугриматематическое объяснение. Он не смотрит на тенденцию к увеличению строгости и повышению удельного веса работ, связанных со строгостью и основаниями, как на проявление имманентной тенденции, присущей математике самой по себе. Нет, Даубен просто и даже как будто мимоходом замечает, что данные процессы частично объясняются социологическими факторами, связанными с институционализацией и профессионализацией математики. "Поскольку математики во все большей мере сталкиваются с проблемами преподавания анализа, проблемы определения и обоснования предела, производной, бесконечных сумм и т.п. становятся неизбежными" (5, с.74). Замечу попутно, что и Г. Мертенс видит в тех же процессах профессионализации и институционализации математики как преподавательской деятельности ключ к пониманию многих процессов, характерных для математики XIX в. (20). В его рассуждениях первопричиной оказывается Великая Французская революция и инициированная ею реформа системы образования, появление "Эколь нормаль" и "Политехнической школы", сыгравших выдающуюся роль в истории математики. Реформа университетов в Германии в какой-то мере следовала французской модели. Сложившаяся система образования поставила проблему преподавания математики студентам, оставленным для подготовки к профессорскому званию. Это дало математикам возможность преподавать теории, над которыми они непосредственно работали. Ситуация, когда исследовательская деятельность во все большей мере переплеталась с преподавательской, существенно повлияла на стиль математического мышления и критерии строгости. В частности, она способствовала закреплению разделения математики на чистую и прикладную. Я остановилась на этих рассуждениях Даубена и Мертенса не потому, что они являются первооткрывателями роли системы образования в истории математики. Нет, данный сюжет является как бы общеизвестным2*1). Но в то же время признание этих моментов, как правило, оставалось регистрацией "внешнего фактора» и уживалось с представлениями об автономных логических законах развития математики, к которым не имели никакого отношения социологические аспекты математической деятельности, и о внутренне присущем ей импульсе к увеличению строгости (вариант: внутренне присущем ей чередовании "творческих" эпох и эпох, ориентированных на строгость). А в замечаниях Даубена и Мертенса мое внимание привлекло осознание того, что социологические факторы способны оказывать формообразующее воздействие. Математика для них выступает как человеческая деятельность, развитие которой не может быть автономным от способов организации занимающихся ею Людей, а также от места этой организации в более объемлющих общественных структурах, от целей и ценностей занимающихся математикой людей. Отказываясь смотреть на развитие математики как на чисто кумулятивный процесс, Даубен отмечает, что "когда происходит настоящая революция, значительная часть "старой" математики заменяется или претерпевает присоединение новых понятий и техник, которые заметным образом меняют словарь и грамматику математики ... Каждое поколение и каждая эпоха имеют свои собственные представления о приемлемом, о пределах возможного и допустимого. Математические революции выводят следующее поколение за эти пределы к совершенно новым возможностям, как правило, даже непредставимым с точки зрения предыдущих поколений" (5, с.80-81). Революции происходят именно в математике, подчеркивает Даубен: "Если бы это было не так, мы бы до сих пор считали на пальцах» (5, с.81). Мне кажется, что понятие HP в сообществе философов и историков математики играет роль межевого знака, отмечающего разрыв между традиционными представлениями и новым образом математики и математической деятельности. Каким именно? Тут возможен целый спектр позиций. Когда они начинают разрабатываться более подробно, то оказывается, что и само понятие HP понимается столь по-разному, что лишается определенности, один и тот же эпизод истории математики одним авторам представляется примером HP, a другим - нет (нововведения Лейбница в исчислении бесконечно малых; введение Декартом координатного метода в геометрию). В качестве примеров HP приводятся утверждение неевклидовой геометрии в XIX в., появление исчисления бесконечно малых, создание математической логики Готлобом Фреге (25). Если понятие HP неопределенно, можно вообще задуматься над его ролью. В общей философии науки понятие HP постепенно выходит из моды: оно сыграло свою роль (25). Оно высветило такие параметры развития науки, которые, говоря словами Л. Витгенштейна, "изменили аспект видения" и тем самым сокрушили традиционные представления о науке. Открылось целое пространство связей и детерминаций, на которые была слепа традиционная установка. И теперь уже не требуется событий столь масштабных, как HP, чтобы исследователи заметили эти связи и детерминации. И нет нужды увязать в спорах о том, чем революционное событие в истории науки отличается от просто значительного, тянет ли данное событие на звание HP или нет. Но авторы сборника "Революции в математике" еще полностью захвачены понятием "революция" и живописанием различных эпизодов истории математики как революций. Так, Эмили Грошольц (преподаватель философии Университета Штата Пенсильвания, США) прежде всего, признает, что вклад Лейбница в математику никак не выглядят революционным: с его именем скорее ассоциируются улучшение символики, более систематическая организация наличного корпуса проблем и решений, т.е. вещи, которые трудно назвать революционными. Однако, утверждает она, вклад Лейбница предстанет в ином свете, если расширить представление о HP и включить туда не только диахронные изменения в одной области знания, но и синхронные изменения отношений между взаимосвязанными областями. Так, первоначальная формулировка Лейбницем алгоритма исчисления бесконечно малых "возникла из его замечательной способности комбинировать результаты из геометрии, алгебры и теории чисел" (14, с.117). Каролина Данморе (аналитик в области бизнеса, Лондон, Великобритания) в статье "Метауровневые революции в математике" (7) пытается дать общее концептуальное рассмотрение HP в математике. Касаясь тезиса Кроу, что революции происходят не в математике, а вокруг, она выражает неудовлетворенность его пониманием математики. С ее точки зрения, математику образуют "понятия, терминология и обозначения, определения, аксиомы и теоремы, методы доказательств и решений проблем, проблемы и предположения, но над всем этим стоит уровень метаматематических ценностей сообщества, определяющих цели и методы их достижения и включающие в себя общие представления о природе математики. Все эти элементы вместе взятые и образуют математику, или математический мир"(7, с.211). Таким образом, она выделяет в математике объектный уровень и метауровень. "Революции в математике тоже происходят, но они касаются исключительно метаматематических компонентов математического мира" (7, с.212). Обосновывая свой тезис, автор отмечает, что "необходимым условием революции является замена чего-то, ранее признававшегося сообществом, на нечто, с ним несовместимое (там же), однако "никакой значительный чисто математический результат не может быть пересмотрен" (7, с.213). Эту точку зрения она подтверждает многочисленными примерами. Так, признание неевклидовых геометрий в середине XIX в. было революцией в математике. Но она состояла вовсе не в том, что евклидова геометрия была отброшена и заменена неевклидовой. Нет, на объектном уровне не происходило никакого отбрасывания, только добавление новых теорий. Было отброшено представление, что единственно возможна евклидова геометрия, являющаяся истинным описанием физического пространства. Другим примером HP служит изобретение Г.Кантором теории трансфинитных множеств. Недаром эта теория встретила столь сильное сопротивление. И, тем не менее, теория множеств не потребовала отказа ни от каких признанных результатов объектного уровня, хотя и потребовала отбрасывания прежнего интуитивного определения числа. Более подробно автор рассматривает такой пример HP как введение теории иррациональных в древнегреческой математике. Она потребовала отбрасывания основного элемента пифагорейской философии, а именно убеждения, что сущность всех явлений может быть выражена отношением между целыми числами. Революция, состоящая в признании отрицательных и мнимых чисел, также не потребовала отбрасывания или пересмотра элементов объектного уровня, но требовала радикального пересмотра неформальных представлений о числе, принадлежащих метаматематическому уровню. В то же время такие эпизоды истории математики, как введение Фр. Виетом удобной символики для алгебры, построение Р.Декартом и П.Ферма координатной геометрии, исчисление бесконечно малых И.Ньютона и Г.В.Лейбница, не являются, в трактовке автора, научными революциями. Так Каролина Данморе изобретает подход, благодаря которому и овцы (т.е. признанные математические результаты и методы) целы, и волки (т.е. авторы, утверждающие существование HP в истории математики) сыты. Неясно, правда, почему автор при этом ссылается на Т.Куна. Ее подход явно отличен от куновского. Духу куновского подхода чуждо подобное разделение научной дисциплины на два уровня, из которых один развивается кумулятивно, а другой - нет. Ведь такое допущение равносильно признанию того, что эти уровни в значительной мере независимы друг от друга. Автор убеждена в строгой кумулятивности "объектного уровня" математики. Ее не смущает, например, то, что в наше время никто не решает задачи методами греческой "геометрической алгебры, (хотя методы решения задач она помещает на объектный уровень). Джулио Джиорелло (профессор философии науки Миланского университета, Италия) развивает иной подход. Он обращается к эпизоду из истории математики, который представляется ему очевидной HP - исчислению бесконечно малых от Ньютона до Дж. Беркли и К. Маклорена. Он исследует различные моменты этого исторического эпизода, одновременно обсуждая вопрос, что такое HP. При этом сам эпизод общеизвестен и является "частью традиционного фольклора математиков" (12, с.135). Его интерпретация столь же общепринята: "духи исчезающих величин" (выражение Дж. Беркли), бродившие по страницам математических сочинений той эпохи, были элиминированы в "эпоху строгости". Изгнание духов было начато О. Коши и завершено К.Вейерштрассом. В таком виде данный исторический эпизод становится убедительной иллюстрацией рассуждений Р.Карнапа. Последний утверждал, что изобретатели исчисления бесконечно малых Ньютон и Лейбниц знали, как решать проблемы анализа, но не знали, как их правильно формулировать, вследствие чего формулировали их в метафизическом виде. Например, они знали, что производная от функции х2 равна 2х, но не знали, что означает выражение "производная функции". Выяснения этого пришлось ждать целое столетие; зато результатом явилось избавление математики от бессмысленных метафизических фраз типа "бесконечно малое количество". "Но эта версия попросту ложна" (12, с.135): Лейбниц и Ньютон знали, как формулировать проблемы, но их язык отличался от языка "эпсилон - дельты". Лазарь Карно, математик, а во времена Великой Французской революции - генерал, не колеблясь, назвал создание исчисления бесконечно малых революцией. В настоящее время мы, замечает автор, гораздо менее склонны говорить о революциях в истории математики, ибо представляется очевидным, что в ходе революции что-нибудь должно быть отменено или уничтожено, а с математикой такого не происходит. Однако революцию можно понимать и иным, более сложным образом: "Сложность математических революций и является предметом настоящей статьи" (12, с. 138). Как в математике, так и в государстве есть то, что можно назвать "парадигмой законности". Революции суть переходы от одной "парадигмы законности" к другой (автор ссылается тут на автора теории катастроф, известного французского математика Рене Тома), Этот переход может быть весьма болезненным и включать в себя период "вакуума законности", когда старая парадигма потеряла силу, а новая ее еще не обрела. Тогда утверждается диктатура на фоне попыток реставрации старого режима. Описание кризиса старой парадигмы законности у Р.Тома (массовая потеря доверия к ней) похоже, по мнению автора, на описание кризиса научной парадигмы у Т.Куна и подходит для описания истории исчисления бесконечно малых. "Геометрическая строгость древних" играла ту же роль, что парадигма законности для английской монархии эпохи Стюартов. Вначале сама монархия не ставилась под сомнение, объектами неприятия становились только некоторые обусловленные данной парадигмой ограничения. По то мере того, как они ужесточались, усиливалось неприятие всей парадигмы. Аналогично,"геометрическая строгость древних" поначалу признавалась даже теми, кто в своей практике на самом деле нарушал ее. Лишь по мере углубления кризиса стали раздаваться голоса, что эта парадигма не так уж хороша и что даже сам Архимед втайне рассуждал по-другому. Конфликт привел к открытому взрыву со стороны защитников "новой геометрии". Как и в случае политической революции, новые "властные структуры" получали свою легитимность от самого механизма революции. Вследствие этого, они оказались в наибольшей опасности как раз в момент завершения революции. Именно тогда, когда старая парадигма побеждена, все больше и больше людей начинают ставить под вопрос основания новой и ставить под сомнение ее корректность. В истории математики таким "контрреволюционером" был Дж,Беркли. Проблема HP в истории математики затрагивается не только в сборнике (25). Так, Э, Кении (Университет Уилкса, США) в статье (16) анализирует введенное Т, Куном понятие HP и его применимость к реконструкции истории математики. О "революционных идеях" или "революционных открытиях" в математике говорят часто. Классическими примерами тут являются появление неевклидовой геометрии или признание комплексных чисел и последующая эволюция алгебры. Но что именно имеют в виду, употребляя эпитет "революционный"? Майкл Кроу предлагал различать "трансформирующие" и "формирующие" научные открытия. Первые приводят к перестройке ранее признанных теорий, а вторые - к появлению новых теорий наряду со старыми. Математика, как подчеркивает Кении, имеет ряд черт, общих с эмпирическими науками, но в ряде аспектов существенно отличается от них. Поэтому в ее истории происходили события, имеющие некоторые черты HP, но они не соответствуют всему содержанию куновского понятия. В терминологии Кроу, это формационные, а не трансформационные события. Кении конкретизирует свой тезис на примере введения комплексных чисел. Это событие часто описывается как революционное. И в самом деле, борьба вокруг признания комплексных чисел продолжалась в математическом сообществе с XVI в. до начала XIX в. В результате сформировался новый абстрактный подход к алгебре, произошел концептуальный сдвиг от уравнений и их решений к исследованию абстрактных алгебраических структур. Это можно было бы при желании назвать "концептуальной революцией", но это не HP в смысле Куна, поскольку, как утверждает Кении, "новые взгляды на алгебру не вытеснили старые полностью" (16, с. 121). Настоящий краткий обзор показывает, что позиции определены, аргументы приведены, но столкновение мнений продолжается, ибо вопрос является не фактологическим, а мировоззренческим. Все упирается в понимание различными авторами того, что является неотъемлемой составной частью самой математики, а что лежит "около" или "вокруг".