Миллер, В поисках масштаба
advertisement
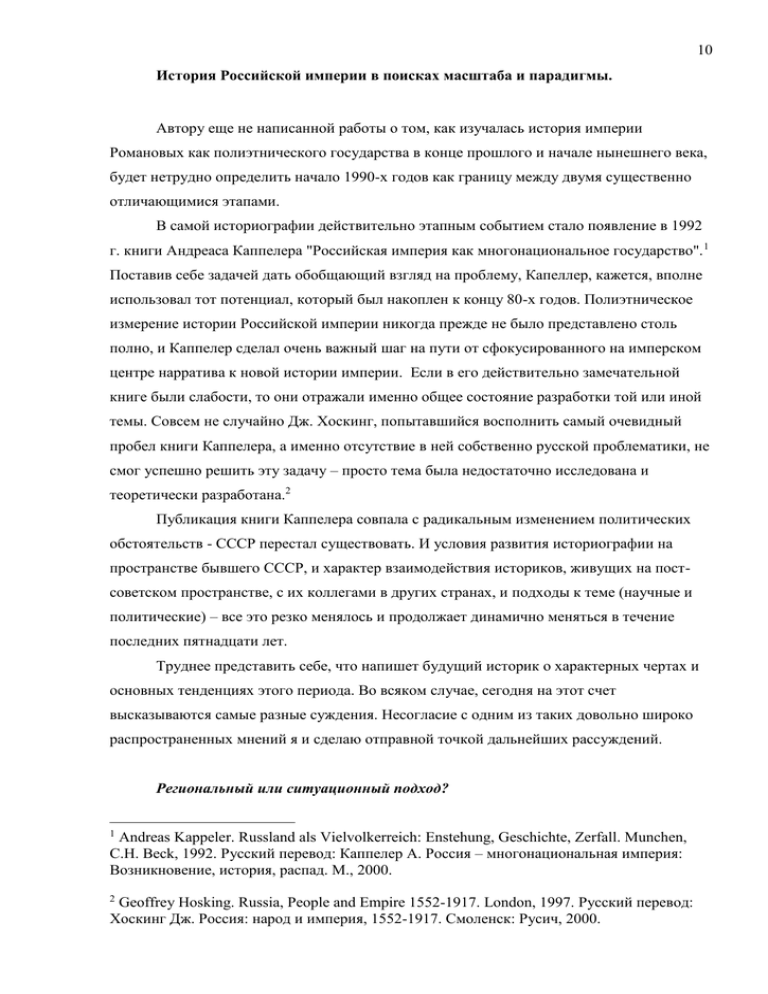
10 История Российской империи в поисках масштаба и парадигмы. Автору еще не написанной работы о том, как изучалась история империи Романовых как полиэтнического государства в конце прошлого и начале нынешнего века, будет нетрудно определить начало 1990-х годов как границу между двумя существенно отличающимися этапами. В самой историографии действительно этапным событием стало появление в 1992 г. книги Андреаса Каппелера "Российская империя как многонациональное государство". 1 Поставив себе задачей дать обобщающий взгляд на проблему, Капеллер, кажется, вполне использовал тот потенциал, который был накоплен к концу 80-х годов. Полиэтническое измерение истории Российской империи никогда прежде не было представлено столь полно, и Каппелер сделал очень важный шаг на пути от сфокусированного на имперском центре нарратива к новой истории империи. Если в его действительно замечательной книге были слабости, то они отражали именно общее состояние разработки той или иной темы. Совсем не случайно Дж. Хоскинг, попытавшийся восполнить самый очевидный пробел книги Каппелера, а именно отсутствие в ней собственно русской проблематики, не смог успешно решить эту задачу – просто тема была недостаточно исследована и теоретически разработана.2 Публикация книги Каппелера совпала с радикальным изменением политических обстоятельств - СССР перестал существовать. И условия развития историографии на пространстве бывшего СССР, и характер взаимодействия историков, живущих на постсоветском пространстве, с их коллегами в других странах, и подходы к теме (научные и политические) – все это резко менялось и продолжает динамично меняться в течение последних пятнадцати лет. Труднее представить себе, что напишет будущий историк о характерных чертах и основных тенденциях этого периода. Во всяком случае, сегодня на этот счет высказываются самые разные суждения. Несогласие с одним из таких довольно широко распространенных мнений я и сделаю отправной точкой дальнейших рассуждений. Региональный или ситуационный подход? 1 Andreas Kappeler. Russland als Vielvolkerreich: Enstehung, Geschichte, Zerfall. Munchen, C.H. Beck, 1992. Русский перевод: Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000. Geoffrey Hosking. Russia, People and Empire 1552-1917. London, 1997. Русский перевод: Хоскинг Дж. Россия: народ и империя, 1552-1917. Смоленск: Русич, 2000. 2 11 Мнение о том, что главные успехи и надежды в последние годы связаны с региональным подходом, действительно распространено довольно широко. Вот как пишет об этом, например, Андреас Каппелер в статье ""Россия – многонациональная империя": восемь лет спустя после публикации книги": "В будущем, как мне кажется, региональный подход к истории империи станет особенно инновационным. Преодолевая этноцентризм национально-государственных традиций, он позволяет изучать характер полиэтнической империи на различных пространственных плоскостях. В отличие о национальной истории, этнические и национальные факторы здесь не абсолютизируются, и наряду с этническими конфликтами рассматривается более или менее мирное сосуществование различных религиозных и этнических групп. Смена перспективы разрывает, прежде всего, столетней давности традицию централистского взгляда на историю России, которая себя изжила". 3 Мне представляется, что региональный подход до сих пор остается настолько неопределенным в своих методологических основаниях, что о наличии такого направления в историографии можно говорить лишь условно. Упомянутые Каппелером недостатки прежней историографии вполне могут "остаться в живых" в различных версиях регионального подхода. К ним могут добавиться и новые проблемы. Начнем с того, что само понятие «регион» крайне неопределенно. Оно применяется к самым разным по размеру территориям, от огромных пространств (Сибирь, Центральная Европа), до совсем маленьких, панорамную фотографию которых можно поместить в книгу, как и сделал Питер Салинс в своем исследовании о Сердании и Руссильоне.4 Эти "регионы" могут принадлежать одному государству, могут быть разрезаны государственной границей, могут включать целый ряд государств. По сути дела на звание региона претендуют в работах историков любые территории, не совпадающие с существующими государственными границами. Принципы вычленения или воображения регионов бесконечно многообразны. О том, что регионы воображаются в соответствии с теми же механизмами, по которым воображаются нации, хорошо написал Ивер Нойманн. 5 Андреас Каппелер. "Россия – многонациональная империя": восемь лет спустя после публикации книги. Ab Imperio, 2000, N.1, с. 9-21, цитату см. на с.21 3 4 Peter Sahlins. Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley, Univ. of California Press, 1989. 5 Iver B. Neumann. Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation. Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1999. Русский перевод: Ивэр Нойманн. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., Новое издательство, 2004. 12 «Дать ясное определение того, что такое регион представляется не менее сложным, чем дать определенный ответ на вопрос, что такое нация», заметил недавно Хосе-Мануэль Нуньес.6 Все многочисленные попытки дать эссенциалистское определение нации не привели к удовлетворительному результату, и нет никаких оснований ожидать иного исхода применительно к понятию регион. Нуньес, как и многие другие ученые, отмечает, что часто очень трудно провести четкую границу между регионализмом и национализмом меньшинств (minority nationalism).7 В большинстве случаев это разница между "залаявшим" и "не залаявшим" (или еще не залаявшим) национализмом, если воспользоваться известным bon mot Эрнеста Геллнера. Поэтому трудно ожидать, что региональный подход может стать панацеей от недостатков национального нарратива. Наоборот, чем более эссенциалистким будет этот региональный подход, тем больше вероятность воспроизведения слабостей национального нарратива. Не трудно заметить, что в подавляющем большинстве исследований способ воображения региона, причины и критерии вычленения того или иного пространства не объясняются сколько-нибудь четко и подробно. Очень часто за этим скрывается именно убеждение историков, что выбранные ими границы региона "естественны", а не являются плодом их собственного или заимствованного у политиков пространственного воображения. Исследования в области воображаемой географии или "mental mapping" приобрели широкую популярность среди историков и политологов с заметным опозданием, примерно в последние двадцать лет. Понятие «ментальная карта» (mental map, kognitive Landkarte) было впервые введено Е.С. Толманом в 1948 г.8 Главные работы по этой тематике в 70-е годы были выполнены географом Р.М. Доунзом и психологом Д. Стеа. Они определяют ментальную картографию как "абстрактное понятие, охватывающее те ментальные и духовные способности, которые дают нам возможность собирать, упорядочивать, хранить, вызывать из памяти и перерабатывать информацию об 6 Xosé-Manuel Núñez. The region as Essence of the Fatherland: Regionalist variants of Spanish Nationalism (1840-1936) // European History Quaterly, Vol.31(4), 2001, p.483-518, цитата p.483. 7 8 Xosé-Manuel Núñez. The region as Essence of the Fatherland . P.484. E.C. Tolman, Cognitive Maps in Rats and Men // Psychological Review 55.1948, P. 189-208. Обзор работ психологов и географов по этой теме см. в статье немецкого исследователя Беньямина Ф. Шенка, на анализ которого я во многом опираюсь, в кн. Миллер А. И. (ред.) Регионализация посткоммунистической Европы. (Серия "Политическая наука", №4, 2001) Москва, ИНИОН, 2001, а также Б.Шенк. Ментальные карты // Новое литературное обозрение, 2001, №52. 13 окружающем пространстве». Следовательно, ментальная карта – это «созданное человеком изображение части окружающего пространства./…/ Она отражает мир так, как его себе представляет человек, и может не быть верной. Искажения действительно очень вероятны".9 Субъективный фактор в ментальной картографии ведёт к тому, что "ментальные карты и ментальная картография /…/ могут варьироваться в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на мир". Психология познания понимает ментальную карту как субъективное внутреннее представление человека о части окружающего пространства. Историки занялись этой проблемой в духе М. Фуко. Предметом изучения в их работах чаще всего являются дискурсивные практики по формированию различных схем географического пространства и наделению тех или иных его частей определенными характеристиками. В заголовках исторических работ появляются слова "imagined" (воображенный) и "invented" (изобретенный). Особую популярность получили исследования, в той или иной степени продолжавшие традиции знаменитой книги Э. Саида "Ориентализм", в которой формируемый Западом дискурс Востока анализируется как инструмент доминации и подчинения.10 Для историков весьма актуален анализ собственных отношений с проблемой "ментальных карт", в особенности той ее разновидностью, которая связана с выбором масштаба исторического исследования. Иммануэль Валлерстайн не раз настаивал на том, что предметом анализа должна быть "мир-система", что более ограниченный формат не позволяет понять события, если речь идет о последних пяти веках, в их реальной обусловленности и взаимосвязи.11 Это позиция справедливая, но в то же время экстремистская. Ясно, что и сам Валлерстайн не смог бы написать свой знаменитый труд, 9 R.M. Downs, D. Stea, Maps in Minds. Reflections on Cognitive Mapping, New York 1977. 10 Edward W. Said, Orientalism, New York, 1979; Maria Todorova, Imagining the Balkans, New York, 1997; Maria Todorova, The Balkans: From Discovery to Invention // Slavic Review 53.1994, P. 453-482; Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightment, Stanford, 1994 (русский перевод: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., НЛО, 2003); Larry Wolff, Voltaire’s Public and the Idea of Eastern Europe: Toward a Literary Sociology of Continental Division // Slavic Review 54.1995, S. 932-942. Немцы начали по-своему осваивать тему раньше. См.: Hans Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom „Norden“ zum „Osten“ Europas // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, NF, 33.1985, S. 48-91. Среди наиболее свежих работ выделяется книга норвежского исследователя: Iver Neumann. Uses of the Other. 11 Immanuel Wallerstein. The Modern World-System. Vol.1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 16th Century. New York, 1974. 14 если бы не опирался на богатейший материал, накопленный в локальных исследованиях. В подавляющем большинстве случаев мы обречены так или иначе ограничивать предмет своих исследований, в том числе пространственно, выбирать тот или иной "масштаб", так или иначе обосновывая свой выбор. Вопрос в том, насколько мы отдаем себе отчет в опасностях, которые нас при этом подстерегают. Даже в тех случаях, когда авторы исторических работ в русле регионалистского подхода осознают, что оперируют концепциями воображаемой географии, они, как правило, не склонны подробно объяснять читателю условность своего выбора и его механизмы. Перечень факторов, которые могут быть использованы при вычленении региона, практически бесконечен. Это могут быть естественные географические ориентиры (горы, реки и т.д.), современные или исторические границы административных образований, границы расселения этнических групп (они тоже могут браться на основании современного состояния или произвольного момента в истории), экономические связи, политические образы. Ясно, что все эти факторы относительны. Река может как разделять, так и объединять, границы административных образований меняться, этнические группы, как правило, во-первых, мигрируют и ассимилируются, вовторых, не занимают строго очерченных компактных территорий, и т.д. Каждый раз мы осуществляем выбор, и ключевой вопрос – по каким критериям.12 Приведу несколько примеров. По отношению к империи Романовых национальные исторические нарративы в определенном смысле могут считаться вариантом "регионального подхода", ведь они вычленяют в государстве регион, ретроспективно используя границы современных государств, которых тогда не существовало. Национальные исторические нарративы, как правило, по-своему сочетают этнический и территориальный подходы, то есть рассказ об истории нации сочетается с рассказом о том, почему именно такая территория ей принадлежит "по праву". Можно сказать, что сегодня это наиболее распространенный способ "конструирования" регионов, откровенно телеологический, сильно идеологизированный, мало приспособленный к тому, чтобы выявить логику протекания процессов в империи, которая выступает как "внешняя", чужая сила, и является не столько предметом интереса, сколько фоном, контекстом для процесса вызревания нации и национального государства. Телеологичность этого подхода сочетается с осознанным, а чаще неосознанным примордиализмом, который распространен заметно шире, чем принято считать. Чтобы убедиться в этом, достаточно Все эти проблемы особенно остро встают именно применительно к Российской империи, где в меньшей степени, чем на пространстве Священной Римской империи, сохраняли свое значение границы прежних феодальных образований. 12 15 обратить внимание на то, как современные названия наций используются, часто без какихлибо оговорок, для описания социальной реальности применительно не только к 19 в., что уже проблематично, но и к более ранним периодам, причем даже в тех случаях, когда сценарии формирования национальных или этно-конфессиональных идентичностей и результаты этих процессов могли быть существенно различными.13 В национальных историографиях внимание к альтернативным возможностям протекания исторических процессов выступает, как правило, лишь в форме рассуждений о том, как история "оправдывает" возможное расширение национальной территории за счет соседа. В Российской Федерации эти же механизмы вступают в действие при построении исторических нарративов по этническому признаку – разница лишь в институциональных условиях функционирования таких историографий в независимых государствах и автономных республиках в составе РФ. В современной русской историографии это тоже присутствует в форме пропадания из учебников истории тех территорий, которые сегодня не входят в Российскую федерацию.14 Империя как государство, с победами ее армии, с проводимыми центральной бюрократией реформами и т.д., остается частью нарратива, но полиэтничность как характеристика империи представлена в современных российских учебниках заметно хуже, чем даже в 30-50-е годы прошлого века. (Разумеется, я имею в Я подробно обсуждал этот вопрос применительно к восточно-славянскому населению империи (см.: Алексей И. Миллер. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина 19 в.) СПб, 2000; A. Miller, Shaping Russian and Ukrainian identities in the Russian Empire during the 19th Century: Some Methodological Remarks. // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, 49 (2001), H. 4. S.257-263.) О белорусах в аналогичном ключе написал недавно Теодор Викс (Викс Т. «Мы» или «они». Белорусы и официальная Россия // П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер. Российская империя в зарубежной историографии. Москва, Новое издательство, 2005. с.589-609.) То же можно сказать, например, о татарах (см. Robert P. Geraci. Window to the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. - Ithaca; L.: Cornell University Press, 2001, особенно р. 3-4) и других группах. Более общее теоретическое обсуждение этой темы см. в Rogers Brubaker and Frederick Cooper. Beyond "identity" // Theory and Society 29, 2000, p.1-47, особенно р.16, где говорится о "тяжкой работе и длительной борьбе вокруг «индетификаций» и неопределенном исходе этих баталий». Следует прислушаться ко многим предложениям Брубейкера и Купера по замене слишком общего и многозначного понятия "identity" более точными терминами. 13 Сегодня может даже появиться учебник, написанный, в том числе, историками МГУ (!), в котором польские восстания не только не упоминаются в тексте, но даже отсутствуют в хронологической таблице. (Александр С. Орлов и др. История России. Москва, Проспект, 2000.) 14 16 виду прежде всего объем включаемого в учебники материала о разных этнических группах.) Это характерно отнюдь не только для учебной литературы. Вообще, современная политическая география неизменно влияет на историков. Тенденция к исключению Царства Польского и Княжества Финляндского из сферы интересов зарубежных специалистов по истории России наметилась уже давно, то же самое отчасти происходит сегодня в отношении Средней Азии, Закавказья, Прибалтики. В СССР же существовали весьма серьезные ограничения, а фактически – негласный запрет заниматься историей союзных республик, то есть прежних окраин империи, для московских и ленинградских исследователей. Здесь историкам не оставляли шансов самим совершать эту ошибку – за них это делали те, кто осуществлял политический контроль над наукой. В последнее десятилетие, когда эти запреты перестали действовать, организаторы исторической науки подтвердили свою способность совершать ошибки самостоятельно: например, центр по изучению истории восточных славян, занимающийся главным образом украинцами и белорусами в империи Романовых, был создан не в Институте Российской истории, но в Институте славяноведения, который традиционно занимался изучением истории зарубежных славян. Тенденция к этнизации проявилась и в интересном исследовании Б.Н. Миронова по социальной истории России. Он полагает, что можно писать отдельно взятую социальную историю русских в империи. Социальную историю империи в целом Миронов ошибочно представляет как механическую сумму историй различных этнических групп, и также ошибается, когда утверждает, что взаимодействие между этническими группами касалось преимущественно элит – на всех окраинах империи и в Поволжье русские крестьяне, казаки, солдаты тесно взаимодействовали с представителями других этносов.15 Само название книги "Социальная история России периода империи" предполагает "вычленение" России из империи. Причем принципы этого вычленения кажутся Миронову настолько очевидными, что он ничего не сообщает о них читателю. Вся проблематика взаимодействия и взаимовлияния разных этнических групп, о которой так интересно писали в последнее время16, равно как и тема неопределенности самого понятия См. Boris N.Mironov. Response to Willard Sunderland’s “Empire in Boris Moronov’s Sotsial’naia istoriia Rossii” // Slavic Review, 60, №3, Fall 2001, p.579. 15 См., например, Willard Sunderland. Russians into Iakuts? "Going Native" and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870-1914. Slavic Review 55, no.4, Winter 1996, pp. 807-825 (русский перевод - П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер. Российская империя в зарубежной историографии. Москва, Новое издательство, 2005. с.199-227); Robert Geraci. Ethnic Minorities, Anthropology, and Russian National Identity on Trial: The Multan 16 17 "русский" и границ русской нации в имперский период выпадает, таким образом, из поля зрения. Полиэтническому аспекту истории государства посвящены лишь три десятка страниц двухтомной книги, и их трудно отнести к числу удачных фрагментов работы.17 Убеждение в том, что национальный миф остается легитимной парадигмой писания истории, доминирует сегодня во всех постсоветских странах. На конференции в Чернигове "Россия-Украина: диалог историографий" в августе 2002 г. я был удивлен реакцией подавляющего большинства участников, причем не только из России и Украины, но и из-за океана, на мои скептические рассуждения об уместности национального нарратива на современном этапе развития историографии. Мои оппоненты отстаивали позицию "поэтапного развития", согласно которой прежде, чем заниматься деконструкцией национальных нарративов, надо завершить работу по их созданию, то есть непременно пройти тот этап, который был характерен для новых государств, возникших в Европе на развалинах империй в межвоенный период. Их не смущало, что, в отличие от межвоенного периода, когда такой подход доминировал во всем мире, сегодня его устарелость в мировой историографии очевидна. Складывается парадоксальная ситуация, когда те исследователи на постсоветском пространстве, которые не работают в жанре национального нарратива, и в этом смысле составляют часть main-stream в мировом масштабе, являются маргиналами в собственных академических структурах, которые, в свою очередь, маргинальны по отношению к мировой историографии. Этнизация (а точнее – концентрация на одной этнической группе при маргинализации остальных) - далеко не единственная, хотя и самая очевидная, проблема, которую сам по себе региональный подход никак не решает. Не так давно мне пришлось участвовать в обсуждении проекта группы российских историков, предложивших написать историю Поволжья в серии книг о различных окраинах Российской империи. Большинство этих людей было из Саратова и Самары. Лейтмотивом их проекта была роль Волги как транспортной артерии, особый тип волжского города и другие социальноэкономические вопросы. Проект предполагал и рассмотрение национальных отношений, но лишь в той же узкой зоне вдоль обоих берегов Волги по всему ее течению. В результате ключевым национальным меньшинством в проекте становились немцы. Такой Case, 1892-96. The Russian Review, 59, (October 2000), p.530-554 (русский перевод - П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер. Российская империя в зарубежной историографии. С.228270); Austin Jersild. Orientalism and Empire. North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917. Montreal: MacGill-Queen’s University Press, 2001. См. Борис Н.Миронов. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.) Т. 1. СПб., 1999, с. 20-50. 17 18 подход совершенно игнорировал уже довольно обширный корпус литературы, которая вполне обоснованно рассматривает столкновение различных проектов формирования национальных или этно-конфессиональных идентичностей в Волжско-Камском регионе, то есть включает Приуралье как зону расселения башкир, которые были одним из главных объектов борьбы влияний между татарско-исламской и имперской стратегиями в вопросе формирования идентичностей местного населения. Этот пример ясно демонстрирует, что опасны не только попытки воображать регионы через моноэтническую призму, но и попытки воображать регионы без учета этнического фактора, а в общем - без учета структуры межэтнического взаимодействия. В этом случае мы можем изначально очертить границы изучаемого пространства таким образом, что это будет препятствовать пониманию этих процессов. В ходе обсуждения других проектов книг этой серии вполне проявились и другие проблемы регионального подхода. Практически ни в одном из первоначально заявленных проектов не объяснялось, почему именно такой регион был выбран его авторами. Между тем даже такой "очевидный" регион, как Сибирь – в действительности не более чем плод воображаемой географии, ведь он весьма разнороден в природном и экономическом отношении, никогда не обладал административным единством (что было результатом сознательной политики властей), не имел сколько-нибудь ясно очерченной границы в степной зоне на юге. Например, принятый в 1822 г. "Устав о сибирских киргизах" ясно указывает, что с точки зрения авторов указа Сибирь включала часть территории современного Казахстана.18 В Сибири существует длительная и имеющая серьезные достижения традиция "региональной истории", и на ее примере особенно ясно видна общая тенденция, которая заключается в рассмотрении региона как самодостаточного целого при сведении к О некоторых аспектах воображения Сибири см. работы Marc Bassin, в частности его статью "Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographic Space", Slavic Review 50 (1991), pp.1-17 (русский перевод - П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер. Российская империя в зарубежной историографии. С.277-310.) В последние годы интересные статьи на эту тему опубликовал А.В. Ремнев: Западные истоки сибирского областничества // Русская эмиграция до 1917 года - лаборатория либеральной и революционной мысли. СПб., 1997. С. 142-156; У истоков российской имперской геополитики: азиатские «пограничные пространства» в исследованиях М.И. Венюкова // Исторические записки. М.: Наука, 2001. Т. 4 (122). С. 344-369. Целый ряд работ по этой теме опубликован немецкой исследовательницей Susi Frank, которая и сейчас продолжает активно заниматься этой темой. См., в частности: Sibirien. Peripherie und Anderes der russischen Kultur, in: Wiener Slawistischer Almanach 1997, Sonderband; Dostoevskij, Jadrincev und Cechov als Geokulturologen Sibiriens // Gedachtnis und Phantasma. Festschrift fur Renate Lachmann. Munchen 2002, 32-47. 18 19 минимуму проблематики его взаимодействия с центром. Именно в таком ключе читаются в российских университетах и предусмотренные стандартной программой курсы по истории "родного региона". Воспитательная задача таких курсов - укрепление местного патриотизма. По идеологии, а часто и по методологии это близко к краеведению. Кстати, среди российских краеведов стало теперь модно называть себя регионоведами. Имперский центр и его политика в таких нарративах маргинализуются. Наличие таких курсов, которым отводится весьма щедрое количество учебных часов, очень важный институциональный фактор, поскольку подавляющее большинство историков в российских регионах работает в университетах, и часто выбирает темы исследований с учетом их применимости в учебном процессе. Иллюзия продуктивности регионального подхода возникает еще и потому, что в него зачисляют некоторые действительно активно развивающиеся направления исследований. Одно из них – изучение имперских систем управления окраинами. Довольно широкий круг исследователей, занимающихся западными окраинами, касался этой темы среди прочих, более или менее подробно.19 Особо следует отметить статьи Леонида Горизонтова, Джона ЛеДонна и Стивена Величенко, которые целиком сконцентрировались именно на проблеме кадрового состава чиновничества. 20 19 Theodore R. Weeks. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914. DeKalb, Nothern Illinois University Press, 1996; idem, Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the “Northwest Provinces” after 1863. Kritika, Volume 2, № 1, Winter 2001, p. 87-110; Викс Т. «Мы» или «они». Белорусы и официальная Россия // П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер. Российская империя в зарубежной историографии. Москва, Новое издательство, 2005. с.589-609; Долбилов М.Д. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863-1865 гг. // Ab Imperio. 2001. № 1-2, с.227-268; его же, Конструирование образов мятежа: Политика М.Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863-1865 гг. как объект историко-антропологического анализа // Actio Nova 2000. М., 2000, с.338-409; его же, Полонофобия и политика русификации в Северо-Западном крае империи в 1860-е гг. // Гудков Л. (сост.) Образ врага. М: ОГИ, 2005. С127-174; Darius Staliunas. The Pole in the Policy of the Russian Government: Semantics and Praxis in the MidNineteenth Century. Lithuanian Historical Studies, 2000, #5, pp.45-67; idem. Litewscy biali i wladze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem. Przegląd Historyczny, T. LXXXIX, 1998, #3, s. 383-401; Миллер А.И. «Украинский вопрос»… Leonid E. Gorizontov. System zarządzania Królestwem Polskim w latach trzydziestych – pięćdziesiątych XIX wieku. Kwartalnik Historyczny, 1985, № 4, idem. Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w okresie rządów Paskiewicza. Przegląd Historyczny, 1994, № 1/2, а также последние две главы его книги "Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., Индрик, 1999; John P. LeDonne. Frontier Governors General 17721825. I. The Western Frontier. Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, NF. Band 47, 1999, Heft 1, S. 57-81; idem. Frontier Governors General 1772-1825. II. The Southern Frontier. Ibid., Band 48, 2000, Heft 2, S. 161-183; idem. Frontier Governors General 1772-1825. III. The Eastern Frontier. Band 48, 2000, Heft 3, S. 321-340; Steven Velychenko, “Identities, loyalties and 20 20 Системами административного управления в последнее время плодотворно занимаются Анатолий Ремнев в России и Валентина Шандра на Украине. Ремнев опубликовал целый ряд работ об административном управлении Сибирью и Дальним Востоком.21 Шандра систематически изучает историю генерал-губернаторств на территории современной Украины – уже вышли ее книги о Киевском и Малороссийском генерал-губернаторствах, готовится сводная книга о трех генерал-губернаторствах, где к названным добавится Новороссийское.22 Полезно сравнить подходы этих авторов. Точкой отправления для Ремнева является Сибирь как регион, и он изучает административные структуры и методы управления в крае, а Шандра изначально выбирает в качестве предмета изучения административную структуру отдельных генерал-губернаторств. Но выбор именно этих генерал-губернаторств как предмета анализа очевидно мотивирован тем, что они находились на территории современной Украины. В конечном счете, оба историка руководствуются определенными концепциями воображаемой географии (Сибирь, Украина). Для Ремнева это порождает меньше трудностей, потому что его собственные образы пространства довольно близки тем концепциям, которыми руководствовались правители империи. Воображаемая география, которой руководствуется Шандра, напротив, имеет мало общего с воображаемой географией имперской бюрократии, для которой Киевское генерал-губернаторство как часть Западного края с его польским и еврейским "вопросами", Малороссийское генерал- service in Imperial Russia. Who Administered the Borderlands?” Russian Review № 2 (1995); idem. "The Bureaucracy, Police and Army in 20th-Century Ukraine. A Comparative Quantitative Study," Harvard Ukrainian Studies, no. 3-4 (1999), 63 – 103; idem. "The Size of the Imperial Russian Bureaucracy and Army in Comparative Perspective," Jahrbücher für Geschichte Osteuropas no. 3 (2001): 346-62. См. также: Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. Т.1, СПб., 2001. Эта книга была подготовлена по заказу представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, и носит все типичные для таких изданий следы спешки, но представляет определенную ценность как справочник. 21 Анатолий В. Ремнев. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX века» (Омск, 1995); его же, Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – начала XX веков (Омск, 1997); его же, Проблемы управления Дальним Востоком России в 1880-е гг.» // Исторический ежегодник (Омск, 1996); его же, Сибирский вариант управленческой организации XIX – начала XX в. // Вестник РГНФ. 2001. № 3. С. 36-45; Имперское управление азиатскими регионами России в XIX – начале XX веков: некоторые итоги и перспективы изучения // Пути познания России: новые подходы и интерпретации. М.: МОНФ, 2001. С. 97-125; Имперское пространство России в региональном измерении: дальневосточный вариант // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М.: МОНФ, 2001. С. 317-344. 21 губернаторство, упраздненное в середине 19 в. по мере все более основательной инкорпорации этого пространства в ядро империи23, и Новороссийское генералгубернаторство на интенсивно осваиваемых причерноморских территориях олицетворяли совершенно разные проблемы. Это порождает для Шандры серьезные методологические трудности как в плане сравнительного анализа, так и в определении роли отдельных территорий в структуре империи. В уже цитированной статье Андреас Каппелер отметил, что региональная перспектива "получает распространение именно сейчас, когда национализм и регионализм в России становятся уже политически значимыми, что доказывает тесное взаимоотношение между политикой и историей".24 На мой взгляд, это обстоятельство должно послужить историку прежде всего как "сигнал тревоги". Прошлое "регионализмов" как идеологий и как политических движений безусловно является легитимным предметом исследования, в современном мире регионализмы вполне имеют право на существование - они могут защищать, в том числе, и вполне легитимные интересы, будучи в целом не хуже и не лучше других политических течений. Но отношения с регионализмом у историка должны строиться так же, как с национализмом – то есть с крайней настороженностью, чтобы не сорваться в эссенциализм, чтобы повестка дня изучаемых идеологических течений не становилась собственной повесткой дня исследователя. В современной России такое сочетание разнообразных политических повесток дня, часто формулируемых областным начальством, с экспансией краеведения нередко порождает вполне пародийные версии "региональной истории".25 См.: Валентина С. Шандра. Киïвське генерал-губернаторство (1832-1914). Киïв, 1999; ее же. Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856. Функції, структура, архів. – Киïв.: УНДІ архівної справи та документознавства, 2001. 22 Интересные наблюдения о Малороссии как части ядра империи см. в рецензии на книгу Шандры о Малороссийском генерал-губернаторстве: Кимитака Мацузато. Ядро или периферия империи? Генерал-губернаторство и малороссийская идентичность. Ab Imperio, 2002, №2, с.605-615. 23 Андреас Каппелер. "Россия – многонациональная империя": восемь лет спустя после публикации книги. Ab Imperio, 2000, N.1, С. 21. 24 Очень любопытный и показательный рассказ преподавателя Вологодского университета Александра Камкина о том, как конструируется история "Вологодского региона" в возникшей только в 1937 г. Вологодской области см. в: Новые концепции российских учебников по истории. М., АИРО-ХХ, 2001, с.82-84. 25 22 Вообще возникает ощущение, что многие историки не находят адекватных форм для выражения своей гражданской ангажированности. Вместо того, чтобы написать политологический или просто политический текст о волнующих их современных политических вопросах, они пытаются так или иначе реагировать на них в своих исторических сочинениях. Конечно, любой выбор историком масштаба исследования не может быть методологически безупречен и абсолютно свободен от идеологической ангажированности. Простого рецепта решения этой проблемы нет. Но некоторые рекомендации предложить можно. Во-первых, сам историк со своими пристрастиями должен быть объектом собственного анализа. Нужно почаще задавать себе вопрос, как мое положение во времени, пространстве, обществе влияет на мою исследовательскую стратегию. Во-вторых, нужно все время сохранять возможно большую дистанцию между ремеслом историка и современным ему политическим дискурсом. Историк-исследователь заведомо не должен обслуживать политический заказ, руководствоваться политической повесткой дня. История не может служить оправданием дурной политики, а разумная политика не нуждается в исторических аргументах. Сказанное вовсе не означает утопического призыва запереться в башне из слоновой кости. Речь идет о том, что именно историк прежде всего должен заботиться о том, чтобы инструментальное отношение к истории было насколько возможно ограничено, потому что кому же еще об этом заботиться. По вопросам, связанным с воображаемой географией и ментальными картами, историки по большей части склонны полемизировать с теми, кто находится вне их собственного общества. Это может быть вполне почтенным занятием. Но более важно, чтобы историк обращал свой критический взгляд на те концепции воображаемой географии, которые распространены именно в его обществе, и противостоял тем более или менее осознанным манипуляциям с ментальными картами, к которым так часто бывают склонны и политики, и, к сожалению, многие из его коллег по ремеслу, участвующие и в формировании образов врага или "чужого", и в пропаганде политических идей, основанных на историческом детерминизме Региональные нарративы в определенном смысле не отличаются от имперских или национальных нарративов. Имперские нарративы 18-19 вв. имели задачей легитимацию той или иной империи, национальные нарративы 19 и 20 в. легитимировали нации и помогали их строить. Если региональные исторические нарративы будут так же обслуживать современные политические интересы, то у нас нет никаких оснований ожидать, что они будут менее тенденциозны, чем их "предшественники". Принципиальный вопрос состоит в том, можно ли вернуться к истории империй не как к 23 имперскому нарративу, обслуживающему какие-то актуальные политические интересы, но как к истории оконченного прошлого.26 Из сказанного видно, что для эффективного (с точки зрения задач исследования) определения границ изучаемого региона мы сначала должны определить предмет нашего интереса, то есть какой именно процесс мы изучаем. Поднимающихся над уровнем краеведения работ, которые стремились бы именно к реконструкции всей совокупности социальных, экономических и политических процессов на определенной территории, я не знаю.27 Если мы говорим об анализе империи как полиэтнической структуры, то логичнее мыслить в категориях не регионального, а ситуационного подхода. В этом случае в центре внимания оказывается определенная структура этнокультурных, этно-конфессиональных, межнациональных отношений или же различные аспекты, например, экономического, административного взаимодействия. Задача в том, чтобы выявить участвовавших в этом взаимодействии акторов и понять логику их поведения, то есть реконструировать ситуацию взаимодействия в возможной полноте.28 Это предполагает, во-первых, что определение границ изучаемого пространства, насколько такое определение вообще возможно, становится вторичным и условным. 29 Поэтому стилистически неудачным кажется мне предлагаемое сегодня редакцией Ab Imperio понятие «новая имперская история», которое является калькой с английского. В контексте русского языка оно вызывает ассоциацию с попыткой пересоздания «имперской истории» или имперского нарратива, в то время как задача, особенно для русской историографии, состоит в отходе от имперского нарратива и в работе над новой историей империи. См.: Герасимов И. и др. (ред.) Новая имперская история постсоветского пространства. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004. 26 Исключением можно считать работы о городских центрах, например, книгу Patricia Herlihy. Odessa: a history, 1794-1914. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1991. 27 Я оставляю за рамками этих рассуждений большой и заслуживающий подробного анализа вопрос о разнообразии природы и внутренней структуры различных акторов – государства, его органов и институтов, национальных движений (элитных и массовых), политических и общественных организаций, локальных сообществ, и так далее. Ясно, что историки часто идут на сознательное (а порой, что много хуже, несознательное) упрощение, трактуя государство или этническую группу как единого актора. 28 При подготовке проекта книги по западным окраинам империи (Долбилов М., Миллер А. (ред.) Западные окраины Российской империи. М.: НЛО, 2006) в уже упомянутой серии книг по окраинам империи ее редакторы (М.Долбилов и А.Миллер) руководствовались именно ситуационным подходом. Определив предметом исследования соперничество русского и польского проектов культурного, государственного и национального строительства, на фоне которого постепенно проявлялись новые акторы с собственными проектами строительства украинской, белорусской, литовской наций, мы включили в сферу нашего интереса Западный край, Царство Польское, Малороссию. Другие территории, например, Новороссия, рассматриваются в книге в той мере и тогда, в 29 24 Например, панисламистское или пантюркистское сочинение могло быть написано в конце 19 в. в Крыму, издано в Стамбуле, мобилизовать сторонников в Казани и Уфе, но также читаться, хотя и совсем иначе, в Петербурге, оказывая то или иное воздействие на логику принятия решений властями империи. В таком случае определить привязку этого интеллектуального взаимодействия "к месту" представляется вообще довольно бессмысленной задачей. Во-вторых, ситуационный подход предполагает отказ от концентрации на каком-то одном акторе, что так характерно и для историков национальных движений, и для традиционного централистского подхода к изучению политики имперских властей. Фокус смещается с акторов как таковых именно на процесс их взаимодействия и выявление логики, в том числе субъективной логики, их поведения и реакций на обстоятельства и действия других акторов. Именно в этой оптике акторы и обретают свое качество акторов. В идеале акторы должны быть равноценны для историка. Идеал, как известно, недостижим. Но именно в логике ситуационного подхода историку оказывается легче освободиться от сознательной или несознательной самоидентификации со "своим" актором (как правило, со своей этнической группой), с его "правдой". Появляется возможность увидеть разные "правды" разных акторов и групп. 30 Недостаток внимания к мотивации поведения различных имперских акторов справедливо отмечает в качестве одной из типичных слабостей историографии Роберт Джераси.31 Это особенно характерно для национальных историографий, в которых имперская власть чаще всего выступает как сила, для которой репрессия была едва ли не самоцелью. Между тем, хотя империя менее всего является благотворительной организацией, простая логика самосохранения подсказывает ее властям, что не следует которой и когда они важны для понимания соперничества, например, общерусского и украинского проектов или образов "идеального Отечества". Таким образом, ни административное деление империи, ни современные границы государств, ни этнические границы не играли решающей роли при определении пределов рассматриваемого пространства. Такой подход позволяет также уловить неясность, переменчивость статуса отдельных областей, например, Малороссии или Слобожанщины, как окраины или же как части ядра империи, что могло меняться в зависимости от изменения характера взаимодействия различных акторов и их состава. Как самую ценную похвалу своей работы я воспринял замечание, высказанное в адрес моей книги "Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении" одним из участников ее обсуждения во Львове, который упрекнул меня в том, что из текста не ясно, на чьей же я стороне. 30 Robert P. Geraci. Window to the East. .. p. 7, 10. См. также А. Миллер. "Украинский вопрос"… с. 31-41. 31 25 провоцировать недовольство местного населения, прибегать к угнетению и репрессиям без специальных на то причин. Логика ситуационного анализа ведет нас к тому уже широко принятому тезису, что местное население не было лишь объектом воздействия власти, но самостоятельным актором. Именно признание этого обстоятельства заставляет исследователей империи подробнее анализировать локальные процессы. В 90-е годы для зарубежных исследователей впервые оказались широко доступны провинциальные архивы, а у себя дома они могли (отчасти и по политическим соображениям) легче получить деньги для работы в этих архивах.32 Те историки, которые хотели исследовать именно взаимодействие различных акторов в империи, обратились к изучению процессов "на местах", к попыткам дать их подробное описание, своего рода thick description, если воспользоваться термином антрополога Клиффорда Гирца. Местные же историки, которые и без того в этих провинциальных архивах работали, по мере освобождения от ограничений официальной методологии и освоения западной историографии стали более расположены и более подготовлены к адекватной постановке "больших" вопросов применительно к локальному материалу.33 Именно в тех случаях, Например, вряд ли можно считать случайным стечением обстоятельств, никак не связанным с современными политическими процессами, резкий рост внимания исследователей к этническим процессам в поздней Российской империи на территории Волжско-Камского региона. Судя по количеству защищенных в конце 1990-х годов диссертаций на эту тему, и без того значительное число монографий в ближайшем будущем существенно возрастет. (см. Werth P. W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827-1905. Ithaca; L., Cornell University Press, 2001, p. 267.) Но к чести историков, чьи книги уже вышли из печати (Р. Джераси, У. Доулер, П. Верт), нужно сказать, что в их вполне добротных, а часто просто замечательных исследованиях политической тенденциозности нет. 32 Эта тенденция постепенного преодоления барьеров между российской и зарубежной историографией, постепенного размывания прежде довольно строго фиксированных ролей, когда местные историки выступали почти исключительно как поставщики фактического материала, с каждым годом набирает силу. Но нужно оговориться, что это лишь тенденция, и проблема отчуждения и изоляции еще сохраняет свою остроту. Так, например, в одном из наиболее интересных сборников статей о Российской империи, вышедших в последнее время, 14 статей, посвященных истории и занимающих более 300 страниц книги, принадлежат молодым или среднего возраста российским исследователям. (См. Ананич Б.В., Барзилов С.И. (ред.) Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности, М., Московский общественный научный фонд, 2001.) Лишь в двух из них мне удалось обнаружить ссылки на работы зарубежных авторов. (Обратные подсчеты количества ссылок на работы современных российских исследователей в статьях многих западных историков дадут схожие результаты.) Как бы ни раздражало меня то обстоятельство, что все без исключения западные рецензии на книги российских историков отмечают – в том случае, если рецензируемые работы дают к тому основания – что "автор хорошо знает западную историографию", приходится признать, что на 33 26 когда работа в местных архивах совмещается с методологической оснащенностью, с умением работать в жанре исторической антропологии и/или микроистории, со способностью вписать найденный материал в более широкий контекст, мы и получаем ценные исследования. Иначе говоря, успех "регионального" исследования во многом зависит от того, насколько его автор методологически подготовлен к тому, чтобы смотреть на изучаемые процессы как на часть "большего целого". Именно логика ситуационного подхода не только сохраняет в поле внимания историка центральные органы империи, но и позволяет уйти от упрощенной схемы таких взаимодействий как "пьесы для двух актеров". (В примитивной версии национальных нарративов это русификаторское, деспотическое государство и героически сопротивляющееся местное население; а в примитивной версии русской историографии просветительское, цивилизующее государство и благодарно усваивающее просвещение, или неблагодарно восстающее, местное население.) Об отношениях в «треугольнике» русские – нерусские – государство в различных частях империи недавно писал Пол Верт.34 В регионах, где великорусское население большую часть существования империи было крайне малочисленным, как, например, в Западном крае или остзейских губерниях, акторов все равно неизменно было больше двух. Например, государство - наиболее многочисленная группа местного населения (украинцы, белорусы, литовцы) – поляки евреи, или государство - наиболее многочисленная группа местного населения (эстонцы, латыши) - немцы.35 В очень многих случаях число "углов" в воображаемой фигуре заметно больше трех. Историки уже составили список этнических групп империи, которые обладали значительным ассимиляторским потенциалом и были способны осуществлять альтернативные русификации проекты культурно-языковой, религиозной и политической экспансии в отношении соседних групп. Наряду с "обычными подозреваемыми" – поляками и немцами, в него попали татары. Уже возник обширный круг работ о конкуренции русификаторских проектов с альтернативными ассимиляторскими сегодняшний день эта отдающая неосознанным патронирующим отношением формула имеет право на жизнь. 34 Paul W. Werth. From Resistance to Subversion: Imperial Power, Indigenous Opposition and Their Entanglement. Kritika, 1 (1), Winter 2000, p.21-43, цитата - p.33. Только ради простоты изложения я пользуюсь здесь современными названиями наций, хотя для большей части 19 века консолидированных национальных идентичностей у в основном крестьянских масс этого населения не было. 35 27 проектами в Западном крае36, в Волго-Камском регионе и казахских степях37. Именно через сходство ситуаций, а не регионов, становится возможным сравнение структур взаимодействия разных акторов на разных окраинах империи, которые стали появляться в работах последнего времени. Очень важно иметь в виду, что сравниваются при этом не вполне изолированные взаимодействия – их опыт накапливался в центральных органах империи, а чиновники часто перемещались с одной окраины на другую. Те преимущества, которые видят в региональном подходе его сторонники, а именно внимание к локальным акторам и процессам, отход от империоцентричного или нациоцентричного взгляда, более надежно обеспечиваются в рамках ситуационного подхода. При этом ситуационный подход позволяет избежать тех опасностей и ловушек (эссенциализация региона, неверное определение границ изучаемого пространства, маргинализация внерегиональных акторов), которые свойственны региональному подходу. Макросистема континентальных империй на окраинах Европы. Когда мы говорим о многочисленности акторов во взаимодействии на окраинах Российской империи, мы, разумеется, должны учитывать и те силы, которые находились за пределами империи. Здесь нужно особо подчеркнуть, что плотность и многоплановость взаимодействия в области национальной политики между соседствующими друг с другом континентальными империями носит качественно иной характер по сравнению с типичным для геополитического соревнования всех империй использованием против соперника сепаратистской карты. При изучении национальной политики и процессов формирования наций, во всяком случае, применительно к длинному 19 в., важно держать в поле зрения макросистему континентальных империй Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов и Османов. Первые две из них имели протяженные границы со всеми остальными тремя империями этой системы, а остальные – с двумя, причем эти границы не только неоднократно сдвигались, но и постоянно воспринимались правителями этих империй как имеющие потенциал к новым подвижкам. Целый ряд территорий на окраинах континентальных империй представлял собой «сложные пограничья», где сталкивались влияния не двух, а трех соседних держав. Сравнению таких сложных 36 См. работы Т. Викса, Д. Сталюнаса, М. Долбилова, А. Миллера. 37 См. работы Р. Джераси, У. Доулера. 28 пограничий Османской, Российской и Габсбургской империй (а также Китайской и Персидской) посвящены несколько статей Альфреда Рибера.38 Можно отметить несколько факторов, которые были важны для взаимодействия в рамках этой макросистемы. Во-первых, это религия. Здесь мы можем наблюдать следующее распределение ролей. Романовы выступали покровителями православных как внутри, так и за границами своей империи. Блистательная Порта играла такую же роль в отношении мусульман. Гогенцоллерны выступали как покровители протестантов, а Габсбурги - католиков, и Вена часто сотрудничала с Ватиканом, в том числе и в своей политике в отношении греко-католиков или униатов.39 Репрессии в отношении католиков в бисмарковской Германии (Kulturkampf, которая прежде всего была направлена против поляков, но в более мягкой форме задевала и немецких католиков), антипольская политика в отношении католиков и униатов в Российской империи - все это влияло на отношение Габсбургов к их православным, униатским и протестантским подданным. На более раннем этапе сравнительно терпимое отношение Габсбургов к протестантам во многом было связано с необходимостью бороться за их лояльность с Османской империей, которая протестантам покровительствовала. Только после разгрома османской армии, с множеством венгерских протестантов в ее рядах, под Веной Габсбурги могли себе позволить обрушиться на протестантов в своей собственной империи. Положение староверов в Российской империи не может быть понято без учета событий в Габсбургской монархии, потому что именно там, в Белой Крынице, была воссоздана иерархия для старобрядческой церкви. Другим важным фактором взаимодействия в рамках макросистемы континентальных империй были пан-этнические идеологии: панславизм, пангерманизм, пантюркизм, которые развивались во многом взаимосвязано.40 Все эти идеологии 38 Alfred J. Rieber. Comparative Ecology of Complex Frontiers, in A.Miller and Alfred J. Rieber (eds.) Imperial Rule…p.179-210. О том, как развивались отношения в треугольнике Вена-Ватикан-Петроград во время Первой мировой войны см. Бахтурина А.Ю, Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы первой мировой войны. М., АИРО-ХХ, 2000. 39 Давняя статья В.К. Волкова о соотношении пангерманизма и панславизма была написана прежде всего, чтобы доказать, что панславизм был лишь легитимной защитной реакцией на агрессивный пангерманизм. Но если оставить в стороне политическую ангажированность работы, то из нее можно почерпнуть много полезного материала о взаимосвязи этих идеологий. См.: Волков В.К. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // Славяно-германские культурные связи. М., 1969, С.5678. 40 29 использовали религиозные мотивы, но даже в случае пантюркизма и панисламизма, которые представляли собой особенно тесный симбиоз, следует отличать этнические и расовые идеологические элементы от религиозных. Если Россия вела борьбу "за сердца и души" славян Османской империи, то Порта боролась за лояльность мусульманских подданных царя. Автор обширной монографии "Политизация ислама" Кемаль Карпат не случайно дал главе "Формирование современной нации" подзаголовок "Тюркизм и панисламизм в России и Османской империи".41 Процессы, происходившие среди мусульман двух империй, были действительно тесно связаны.42 Среди основоположников пантюркизма и панисламизма выходцев из России, по крайней мере, не меньше, чем выходцев из османских владений. Причем из-за многочисленного арабского населения империи пантюркизм долго оставался для Стамбула более удобным экспортным товаром, чем продуктом для внутреннего употребления. Российский панславизм был адресован габсбургским славянам не менее чем османским. Чехи и словаки, не говоря уже о галицийских русинах, были весьма восприимчивы к этой пропаганде. Но нередко в среде австрийских славян панславизм претерпевал весьма существенные изменения, в том числе превращаясь в австрославизм, который предполагал лояльность Габсбургам. В своей неославистской версии панславизм получил в начале 20-го в. отклик даже в среде поляков, которые до этого выдвигали собственные версии панславизма, исключавшие москалей или, во всяком случае, отводившие лидирующую роль в славянском мире не Москве, а полякам. Другим вызовом для Габсбургов, после того как они в 1848-49 гг., и, окончательно, после поражения от Пруссии в 1866 г., проиграли борьбу за лидирующую роль в объединении Германии, стал пангерманизм. Пангерманизм ставил под вопрос лояльность австрийских немцев династии Габсбургов. В 1867 г. австрийский премьер Фридрих Фердинанд фон Бойст утверждал, что, если дать славянам тот же статус, который должны были получить по конституционному соглашению венгры, австрийские немцы превратятся в слабое меньшинство и станут ориентироваться на Пруссию. Таким образом, 41 Kemal H. Karpat. The Politicization of Islam. Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. - Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 276, 286. 42 Важность этого фактора отмечает и Robert P. Geraci. Window to the East... p. 279. 30 австро-венгерский дуализм был отчасти следствием объединения Германии под властью Пруссии, а отчасти – следствием страха перед панславизмом.43 Но пангерманизм был вызовом и для Романовых. Объединение Германии не только подтолкнуло русских националистов, а затем и власти к идее, что необходимо ускорить консолидацию восточных славян Российской империи в единую нацию. Пангерманизм, как ожидалось, должен был в обозримом будущем заявить права на остзейские губернии как часть большой Германии. С этого времени оказалась под вопросом лояльность Романовым всех немецких подданных империи, будь то немецкие дворяне Прибалтики, которые с 18 в. играли столь важную роль в управлении империей; или немецкие колонисты, сотни тысяч которых заселяли к тому времени стратегически важные районы империи, в том числе западные и южные ее окраины. Именно в 1880-е годы, после объединения Германии и формирования антироссийского блока центральных держав, балтийские немецкие дворяне перестали быть проблемой фрондирующего русского дворянства, от генерала А.П. Ермолова до славянофила Ю.Ф. Самарина, а стали важным фактором в геополитических планах и страхах имперской власти. Первые ограничения на приобретение земли в западных губерниях иностранными подданными были приняты в 1887 г., а в 1892 г. закон уже ограничил права российских граждан «немецкого происхождения» приобретать земли в Юго-Западном крае. Дж. Армстронг был прав, когда написал, что создание второго Рейха стало началом конца многомиллионной немецкой диаспоры во всей Восточной Европе, и, прежде всего, в Российской империи.44 В ходе первой мировой войны имущественному и социальному статусу немцев, будь они иностранными или российскими подданными, был нанесен страшный удар. 45 43 Joseph Redlich, Das österreichische Staats- und Reichsproblem (Leipzig, 1920), B. 2, p. 559 ff.См. также комментарии Х. Лутца в Adam Wandruszka et al., eds., Die Donaumonarchie und die südslawische Frage von 1848 bis 1918. Texte des Ersten österrreichisch-jugoslawischen Historikertreffens, Gösin, 1976 (Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1978), S. 58 f; Fikret Adanir. Religious Communities and Ethnic Groups under Imperial Sway: Ottoman and Habsburg Lands in Comparison. // Dirk Hoerder et al. (ed.) The Historical Practice of Diversity. Transcultural Interactions from Early Modern Mediterranean to the Postcolonial World. New York, London, Berghahn Books, 2003, PP.54-86. 44 John A. Armstrong, Mobilized and Proletarian Diasporas // The American Political Science Review, vol.70, 1976, Р. 393-408. 45 Eric Lohr. Nationalizing the Russian Empire. The Campaign against Enemy Aliens during World War I. Cambridge, Mass. and London, Eng.: Harvard University Press, 2003. 31 Важно иметь в виду, что многие этнические или этнорелигиозные группы жили в двух, трех и даже, как евреи, во всех четырех империях. Исход процессов формирования лояльностей и идентичностей этих групп, складывания в их среде представлений о собственной «национальной территории» во многих случаях зависел от взаимодействий различных сил в масштабе всей макросистемы континентальных империй. О положении немцев в трех империях, об опасениях и ожиданиях более масштабных изменений в их лояльности со стороны Петербурга и Вены уже было сказано. Различные части польских элит в разные периоды были более лояльны некоторым правительствам империй, разделивших Речь Посполитую, по принципу «иерархии врагов». Так, готовность маркиза А. Велепольского сотрудничать с Петербургом в начале 1860-х отчасти определялась тем, что он не мог простить Габсбургам их политики в отношении поляков в 1846 г., а относительная лояльность Р. Дмовского России в начале 20-го в. была связана с его убеждением, что Германия является более опасным врагом Польши, чем империя Романовых. После подавления восстания 1863 г. поляки и Вена смогли прийти к довольно устойчивому компромиссу в Галиции во многом благодаря восприятию России как общего врага. А одна из причин легендарной лояльности евреев Австро-Венгрии Францу-Иосифу, а отчасти и евреев Германии Гогенцоллернам, в том числе и во время первой мировой войны, коренилась в их восприятии положения единоверцев в Российской империи как исключительно тяжелого. У тех групп, национальная идентичность которых формировалась позднее, во второй половине 19 или даже в 20 в., исход этих процессов тоже во многом определялся взаимодействиями в рамках макросистемы империй. Среди таких групп, проживавших в Российской империи, но имевших большие или малые анклавы за ее границами, можно назвать румын, азербайджанцев, украинцев, литовцев, татар. Границы империй пересекали не только идеи и деньги на поддержку желательной ориентации тех или иных групп. Через границы империй происходили как организованные властями, так и спонтанные миграции населения. Эти границы часто были военными рубежами, которые фиксировались и менялись в результате завоеваний. Они не были основаны на каких-то естественных рубежах или этнических принципах. Часто, в стремлении обезопасить их, власти империй прибегали к переселениям, депортациям и колонизации. Военные действия между империями или восстания внутри них часто сгоняли население с насиженных мест, подталкивали к миграциям. Даже в мирное время происходили массовые подвижки населения. Примеров тому масса: русофильски настроенные русины переселялись из Галиции в Россию, а из Российской 32 империи в Галицию эмигрировали украинские активисты; поляки и евреи переселялись из Российской империи в Пруссию, иногда, чтобы снова оказаться в России в результате новой подвижки границ после Венского конгресса, позднее миграции поляков шли в обоих направлениях – как из России, так и в нее; мусульмане из Российской империи уходили в Османскую (так называемое мухаджирское движение), а балканские славяне, главным образом болгары и сербы, отправлялись в противоположном направлении46; немцы, и в меньшем, но все равно значительном числе, чехи, мигрировали из империи Габсбургов и малых немецких государств в Российскую империю. Эти движения создавали особые культурные анклавы на новом месте, а в некоторых случаях серьезно влияли и на процессы формирования идентичностей в местах исхода. Так, например, переезд нескольких сотен русофильски настроенных образованных галицийских русинов в Россию в 1860-80-е годы существенно ослабил местное русофильское движение.47 Вообще, Галиция, история которой уже основательно изучена и продолжает оставаться популярной темой у исследователей, может служить хорошей иллюстрацией многим высказанным тезисам. Во-первых, сама Галиция как регион, который сегодня изучают историки, была плодом имперского творчества: провинция была создана Габсбургами и снабжена соответствующим легитимирующим историческим мифом после первого раздела Речи Посполитой. При анализе ситуации в Галиции во второй половине 19 в. мне удалось насчитать 7 активных участников (Вена, Ватикан, Петербург, местные русины и поляки, польская эмиграция, украинское движение в России), и это при том заведомом упрощении, что я трактовал и имперские центры, и этнические группы в Галиции как внутренне единых акторов.48 Большинство акторов О некоторых аспектах миграций через российско-османскую границу, которые порой весьма напоминали согласованный обмен населением, см. неопубликованную докторскую диссертацию: Ph.D. dissertation by Mark Pinson. Demographic Warfare – an Aspect of Ottoman and Russian Policy, 1854-1866. Harvard University, 1970. 46 См. John-Paul Himka, “The Construction of Nationality in Galician Rus’: Ikarian Flights in Almost All Directions,” // Michael Kennedy and Ronald G. Suny, eds., Intellectuals and the Articulation of the Nation (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999) Р.109-64, and Veronika Wendland, Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Osterreich und Russland, 1848-1915 (Vienna: Verlag der Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 2001), которые показывают механизмы таких миграций между Галицией и «русской» Украиной и их значение для формирования идентичностей галицийских русинов. 47 Миллер А. Внешний фактор в формировании национальной идентичности галицких русинов// Хаванова О. (ред.) Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М. 1997. с.68-75. 48 33 этого списка можно охарактеризовать как внеимперские. Они активно пытались влиять на формирование идентичностей и лояльностей местного населения как путем финансовой поддержки тех или иных сил в провинции, так и посылкой туда своих агентов.49 Вопрос о возможной аннексии Галиции периодически обсуждался в правящих кругах российской империи еще в середине 19 в.50, а в начале 20-го, как увидим, стал одним из ключевых пунктов внешнеполитической повестки дня русского национализма. В свою очередь Вена, местные поляки и выступавший с ними в союзе Ватикан боролись с русофильскими настроениями в самой Галиции, а со временем стали поддерживать местных украинских националистов в их стремлении влиять на «русскую» Украину. Именно их совместные усилия во многом определили в последние два десятилетия 19 в. характер униатской церкви в Галиции как оплота антироссийской ориентации. Далее, в главе о языковой политике, мы увидим, как внимательно следили в Петербурге за развитием ситуации в Галиции, и как события в этой провинции Габсбургов давали толчок для принятия решений внутри империи Романовых уже в середине 19 в. Османская империя может служить примером того, как миграции из соседних империй и связанная с ними демографическая политика в самой империи Османов становились важнейшим фактором формирования нации в ядре империи. Возрастающая обеспокоенность правительства султана Абдулхамида II тем, что стратегически важные районы вокруг столицы империи были заселены немусульманами (главным образом, греками и армянами), совпала с новыми волнами как добровольных, так и вынужденных переселений мусульман из России, новых независимых государств на Балканах и из Габсбургской Боснии. Во время Балканских войн и, особенно, в ходе первой мировой войны, к ним добавились беженцы из угрожаемых территорий самой империи. Теперь этих людей стали сознательно селить в центральных районах империи сначала на О поддержке галицийских русофилов со стороны Славянских комитетов в России, а также со стороны петербургских властей см.: Veronika Wendland, Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Osterreich und Russland, 1848-1915; Миллер А.И. Украинский вопрос…; О. Мiллер. Субсидия газете “Слово”. Галицийские русины в политике Петербурга // Украïна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть. Вип.9: Ювiлейний збiрник на пошану Феодосiя Стеблiя. Львiв: Iнститут украïнознавства iм. I.Крип’якевича, 2001, С.322-338. О распространении антипольских слухов среди русинских крестьян, в котором подозревали русских агентов см. Миллер А. Украинские крестьяне, польские помещики, австрийский и русский император в Галиции 1872 г. // Стыкалин А.С. (ред.) Центральная Европа в новое и новейшее время. М., Институт славяноведения РАН, 1998. С.175-180. 49 50 Миллер А.И. Украинский вопрос… С.197-203. 34 свободных землях, а затем и на землях, с которых сгоняли христиан. Эта политика, первоначально проводившаяся под флагом имперского османизма, радикально изменила демографическую картину в Малой Азии, а ее результаты стали основой для националистического проекта младотурков. Исследователи считают, что миграции в Османскую империю и депортации населения внутри империи, с рассеянным расселением депортированных так, чтобы численность определенной нетюркской этнической группы в каждой местности не превышала 5-10%, были не просто связаны между собой, но стали со временем частью единого плана. Координацией этой политики, ключевым элементом которой была теперь этничность, а не конфессия, занимались Директорат общественной безопасности и Директорат по делам расселения племен и иммигрантов Министерства внутренних дел.51 Все модерные империи были так или иначе связаны между собой военным и экономическим соперничеством, заимствованием опыта в различных сферах, в том числе и в деле собственно управления империей. Но взаимосвязанность соседних континентальных империй в рамках особой макросистемы носит качественно иной характер. Рональд Суни однажды заметил, что в континентальных империях заметно труднее проводить различную политику, удерживать принципиально различные политические системы в центре и на периферии, чем в морских.52 Можно сформулировать два тезиса, которые идут дальше. Во-первых, континентальным империям было сложнее проводить ту или иную политику внутри своих границ, не оказывая при этом влияния на соседей. Во-вторых, им было сложнее проецировать влияние вовне без серьезных последствий для своей внутренней политики. Первый тезис прекрасно иллюстрируется примером объединения Германии Пруссией, которое оказало немедленное и далеко идущее воздействие на империи Габсбургов и Романовых. Приведу несколько примеров для иллюстрации второго тезиса. Если Британия решала поддержать борьбу кавказских горцев с Россией, это решение не несло никаких последствий для ее политики в отношении «собственных» мусульман. Если Франция решала в какой-то момент поддержать поляков, это не оказывало влияния на ее См.: Fikret Adanir and Hilmar Kaiser. Migration, Deportation and Nation-Building: The Case of the Ottoman Empire // René Leboutte (ed.) Migrations and Migrants in Historical Perspective. Permanencies and Innovations. Florence, .P.I.E – Peter Lang S.A., Brussels, 2000, P. 273-292, особенно Р. 281. 51 Ronald Grigor Sunny, The Empire Strikes Out: Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire // Ronald Grigor Suny and Terry Martin (eds.) A State of Nations: Empire 52 35 политику внутри собственной империи. Но если Габсбурги хотели поддержать польское или украинское движение в империи Романовых, то это неизбежно предполагало соответствующую коррекцию политики в отношении поляков и русинов-украинцев в их собственной империи. Другой яркий пример этой дилеммы - политика Российской империи в отношении армянской церкви после аннексии у Персии в 1828 г. резиденции Католикоса в Эчмиадзине. С этого момента Петербург использовал свой контроль над духовным центром армян для проекции своего влияния на армянское население Османской и Персидской империй. Пол Верт в своем исследовании этой политики подчеркивает, что «сохранение и укрепление престижа армянского Католикоса за границей требовало от имперского правительства существенных уступок в вопросе администрирования армянских религиозных дел внутри Российской империи. По существу, это был конфликт между теми идеальными стандартами, которые Петербург использовал в управлении конфессиональными вопросами, и теми особыми решениями, на которые Петербург шел для укрепления авторитета Католикоса за границей». Верт приходит к заключению, что Петербург неизменно приносил в жертву общие стандарты внутреннего конфессионального администрирования стремлению эффективно использовать Католикоса во внешней политике.53 Макросистема континентальных империй в течение длительного времени была внутренне стабильна потому, что, несмотря на частые войны между соседними империями, все они придерживались определенных конвенциональных ограничений в своем соперничестве. В общем, они не стремились разрушить друг друга, во многом потому, что Романовы, Габсбурги и Гогенцоллерны нуждались друг в друге, чтобы справляться с наследием разделов Речи Посполитой. 54 Только в ходе приготовлений к and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 29-30. 53 Paul Werth. The Armenian Catholicos and Projections of Imperial Russian Power. Unpublished paper. Следует согласиться с Полом В. Шрёдером, который считает, что начало довольно длительного процесса разрушения тех ограничений, которых европейские империи придерживались в отношениях друг с другом после катастрофических наполеоновских войн, было положено Крымской войной и политикой Великобритании. Одним из результатов этой войны стало согласие держав на объединение Германии, новой континентальной империи на окраинах Запада, которая, при Бисмарке, стремилась отчасти воссоздать прежний концерт великих держав. Окончательный демонтаж системы 54 36 большой европейской войне и во время первой мировой соседние империи стали столь активно, отбросив прежние ограничения, использовать этническую карту против своих противников. Сила национальных движений в этой макросистеме к концу войны во многом была обусловлена тем, что они получили поддержку соперничавших империй, которые теперь боролись друг с другом «на уничтожение».55 В этой связи можно заново осмыслить вопрос о том, в какой мере роль могильщика континентальных империй принадлежит национальным движениям, а в какой - самим империям, которые использовали и поддерживали эти движения друг против друга. Это заставляет по-новому подойти и к вопросу о том, насколько жизненный потенциал континентальных империй был исчерпан к началу первой мировой войны. Иначе говоря, все ли эти империи находились к началу войны в фазе необратимого упадка? Возможно, некоторые из них переживали кризис, исход которого не был заранее предопределен? Была ли первая мировая война лишь последним гвоздем, забитым в гроб этих империй, или гигантским потрясением, которое разрушило эти империи вне зависимости от того, были ли они на тот момент уже неизлечимо больны? На мой взгляд, потенциал этих империй, за исключением, пожалуй, Османской, к началу войны был далеко не исчерпан. Они приспосабливались к вызовам модерного мира таким образом, что правильнее говорить об их кризисе, а не упадке. Именно первая мировая война, которая, среди прочего, заставила империи вовсю орудовать обоюдоострым мечом национализма56, и окончательно разрушила выполнявшую определенную стабилизирующую роль макросистему континентальных империй, сделала их добычей истории. Российская империя в сравнительной перспективе. конвенциональных ограничений в отношениях между континентальными империями занял несколько десятилетий и со всей силой проявился именно в ходе мировой войны. См.: Paul W. Schroeder. Austria, Great Britain and the Crimean War. The Destruction of the European Concert. Ithaca, Cornell University Press, 1972, pp. 392-427, особенно р.412-418. Подробнее см. главы 6 и 7. Историк империи Габсбургов Иштван Деак считает, что «распад монархии на враждебные друг другу национальные фрагменты начался в лагерях военнопленных в ходе первой мировой войны». István Deák, Beyond nationalism: a social and political history of the Habsburg officer corps, 1848-1918. New York : Oxford University Press, 1990, p.198. Об аналогичных процессах в лагерях российских военнопленных см. главу .. этой книги. В целом вопрос о влиянии немецкой и авcтрийской пропаганды на российских военнопленных нуждается в серьезном изучении. Значительным шагом вперед в этом отношении обещает стать новая книга Марка фон Хагена о Первой мировой войне. 55 56 37 Перспектива взаимосвязанных историй в рамках макросистемы континентальных империй вовсе не отменяет традиционного сравнительного подхода. Впрочем, вряд ли есть основания говорить о богатой традиции в использовании сравнительного подхода к истории Российской империи. До недавнего времени Российская империя сравнивалась почти исключительно с империей Габсбургов. 57 Лишь в самое последнее время другая континентальная империя – Османская – стала включаться в это сравнение.58 Практически совершенно не анализировалась в сравнительных категориях империя Гогенцоллернов, которая рассматривалась, причем совершенно незаслуженно, исключительно как национальное государство.59 Возросший в последние годы интерес к сравнительному изучению империй принес несколько важных методологических инноваций. Во-первых, при взгляде на континентальные империи фокус внимания сместился с их традиционных, предмодерных черт к сравнению их реакций и способов приспособления к вызовам нового времени. Континентальные империи столкнулись со сходными проблемами приспособления к капиталистическому миру и выживания в условиях резко обострившейся конкуренции с более развитыми империями. Все они постепенно вовлекались в глобальную мир-систему, в которой им была отведена периферийная или полупериферийная роль. Все они боролись за выживание, усваивая новые способы имперского правления и мобилизации ресурсов 60, и стараясь при этом сохранить некоторые элементы старого режима и традиционного общественного порядка. Вместо взгляда на континентальные империи как на безнадежно укорененные в прошлом, сегодня все чаще историки смотрят на них как на империи в См. Richard L. Rudolph and David F. Good (eds.) Nationalism and Empire. The Habsburg Monarchy and the Soviet Union. St. Martin’s Press, N.Y., 1994, а также статьи Ореста Субтельного and Дьордя Кёвера в: Teruyuki Hara and Kimitaka Matsuzato (eds.) Empire and Society. Sapporo, 1997. 57 58 Karen Barkey and Mark von Hagen (eds.) After Empire. Multiethnic Societies and NationBuilding. The Soviet Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires. Boulder, Co., 1997 См. Philipp Ther. “Imperial instead of National History: Positioning Modern German History on the Map of European Empires” // Alexei Miller and Alfred J. Rieber (eds.) Imperial Rule. Budapest – New York, CEU Press, 2004, pp. 47-69. 59 См., например, Dominic Lieven. Dilemmas of Empire 1850-1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 2. (Apr., 1999); Ливен Д. Империя на периферии Европы: сравнение России и Запада // Миллер А. (ред.) Российская империя в сравнительной перспективе. М.: Новое издательство, 2004, С.71-93. Мобилизация ресурсов для военной конкурентоспособности, и, как следствие, для устойчивого экономического развития, была ключевой функцией империй в новое время. В этом смысле они отличались от по преимуществу «хищнических» империй домодерной эпохи. 60 38 процессе преобразований. Некоторые исследователи пишут о многообразных формах модерности (multiple modernities), которые возникали в этих и других периферийных политических образованиях.61 Даже Османскую империю в 19 в. нельзя описать как исключительно традиционную политию, не говоря уже об империях Габсбургов и Романовых.62 Уже в 18 в. эти империи пережили серьезные изменения и реформы, которые были направлены на создание модерного государства и бюрократии, включая первые шаги по продвижению на верхние этажи социальной иерархии не только элит по рождению, но и элит образования. Постепенно уходит в прошлое жесткое противопоставление империй и модерных государств как двух принципиально несовместимых типов политического устройства – эволюция империй в 19 в. может рассматриваться как постепенное вызревание модерных государств внутри империй. Разумеется, подчеркнув наличие общих черт в модернизационных усилиях континентальных империй, не следует забывать о том, насколько эти усилия различались и в стратегиях, и в результатах. Пожалуй, тенденция к «нормализации» истории этих империй, в особенности Османской, а отчасти и Российской, тенденция к преувеличению их успехов в адаптации к новым условиям, увела маятник историографии в новую крайнюю точку, противоположную прежней тенденции к полному отрицанию способности этих империй изменяться и приспосабливаться к новым условиям.63 Говоря о традиционной, и продолжающейся сегодня борьбе тенденции к «нормализации» российской истории с тенденцией рассматривать ее как уникальную, к которой не применимы категории, построенные по преимуществу на основе западноевропейского опыта, Мария Тодорова считает, что содержание этой полемики не только научное, но и политическое. С научной точки зрения радикальный выбор в пользу любой из этих тенденций сопряжен с жертвами – будь то «семиотическое неравенство» при выборе обобщающей парадигмы, или отказ от сравнительного подхода в рамках тенденции к подчеркиванию «уникальности». Историки неизменно возвращаются к выбору между этими стратегиями, всякий раз заново взвешивая их преимущества и Smuel Eisenstadt, “Multiple Modernities in the Era of Globalization” // Daedalus, vol. 129, No.1, Winter 2000. 61 См., например, Selim Deringil, “They Live in a State of Nomadism and Savagery”: the Late Ottoman Empire and the Post-Colonial Debate // Comparative Studies in Society and History, 2003, #2, p. 311-342 62 Яркие примеры этой тенденции к «нормализации» русской истории см. в: Миронов Б.Н. Социальная история России… 63 39 недостатки. И это, добавлю, нормально, потому что нормальная историография это историография плюралистическая. Но в той мере, в которой эта дилемма отражает политику, выбор делается за пределами научной дисциплины. Тодорова сравнивает современные дебаты о русской истории с недавними дебатами об особом немецком пути (Sonderweg). Этот подход оставался актуальным, пока Германия не была встроена в общеевропейские структуры, и рассматривал ее историю как отклонение от европейской модели развития. Теперь те же особенности трактуются как одна из версий европейской истории, акцент делается на общих чертах, и историческое развитие Германии таким образом "нормализуется". Тот же механизм действует применительно к истории России – проблема ее "уникальности" останется актуальной (а точнее - политически актуальной) до тех пор, пока не определится место России в европейских и мировых структурах.64 Это очень верное и в высшей степени своевременное наблюдение, потому что именно сейчас мы можем видеть смену политического контекста и влияние этого фактора на научный дискурс об истории России. В то же время, это описание проблемы неполно, потому что не учитывает различия механизмов «уникализации» России в зарубежной и собственно русской историографии. Россия долгое время (не десятилетия, а века) была объектом дискурса не просто Иного, но чужого и опасного, конституирующего Иного (constituting Other). 65 Зарубежная историография весьма активно использовалась для обслуживания этого дискурса. В той степени, в какой современная тенденция к "нормализации" истории Российской империи означает деконструкцию тенденциозной, негативной "уникализации", она заслуживает всяческой поддержки. В русской историографии мотивы к обособлению истории России были, как правило, иными, и, в то же время, существенно различными у разных историков. Не редки случаи, когда за подчеркиванием «уникальности» истории России стоит не что иное, как цеховой эгоизм, то есть стремление создать для себя более комфортабельные условия за счет заведомо снисходительного отношения к зарубежным исследователям как 64 Todorova M. Does Russian orientalism have a Russian soul? A contribution to the debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid // Kritika, Bloomington. 2000. New Series - Vol.1, N.4. - p.717-727, особ. 719-720. (русский перевод - П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер (сост.) Российская империя в зарубежной историографии. С.345-359) В качестве хорошего анализа этого дискурса я бы снова рекомендовал Iver B. Neumann. Uses of the Other… Chapter 3, Making Europe – the Russian Other. Понятие конституирующего другого я заимствую из другой статьи его статьи: Neumann I.B. Russia as Central Europe's Constituting Other.// East European Politics and Societies. Vol.7, N.2, Spring 1993. P.349-360. 65 40 «неспособным понять» российскую специфику. Заодно тем самым оправдывается незнание зарубежной историографии и неспособность квалифицированно работать в рамках сравнительного подхода. Нет никаких оснований относиться к этому снисходительно. В то же время, методологически осмысленные исследования, которые так или иначе акцентируют специфику российской истории, это абсолютно легитимная часть историографии вне зависимости от того, принадлежат ли они перу отечественных или зарубежных авторов. 66 На пути к "нормализации" истории России нас также подстерегают ловушки. Вопервых, такая нормализация, как это было и с историей Германии, может осуществляться с помощью тенденциозного подчеркивания одних и ретуширования других сюжетов и аспектов немецкой или русской истории. В этом случае "нормализация" оказывается такой же жертвой научностью ради политики, как и прежняя "уникализация". Во-вторых, велика опасность увязнуть в непродуктивных версиях дискуссии о границах "европейской модели" исторического развития. Сегодня и в самом Европейском Сообществе, и на всех его окраинах рассуждения об истории того ли иного региона или нации как "европейской" или "неевропейской" беззастенчиво используются как аргумент в политических дебатах о том, достойны ли этот регион или нация быть членами объединенной Европы.67 Дискуссия, направленная на расширение наших представлений о европейской модели (на самом деле – многообразных и весьма различных моделях) исторического развития, весьма полезна, но этот путь приводит нас к очередному конфликту истории и политики, потому что формирование обслуживающего Европейское Сообщество исторического мифа о европейском единстве сегодня налицо.68 По сути дела, Среди работ, написанных в последнее время в русле подхода к истории Российской империи как во многом уникальной, есть весьма ценные. См., например: Пивоваров Ю.С., Фурсов А. И. Русская система и реформы // Pro et Contra, Т.4, 1996, №4; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система как попытка понимания русской истории // Полис, 2001, №4; Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Т. I- III, М.: Философское общество СССР, 1991. Это, разумеется, не значит, что высказанные в них тезисы автор этой книги, например, готов принять целиком. 67 Мне кажется, что даже сама Мария Тодорова не вполне избежала искушения "защитить европейскость балканской истории" в своей замечательной книге Imagining the Balkans, New York 1997. 66 См. Sonja Puntscher Riekmann, The Myth of European Unity // Geoffrey Hosking, George Schopflin (eds.) Myths and Nationhood. London, 1997, pp. 60-71. См. также сборник Gerald Stourzh (ed.) Annäherungen an eine europäische Geschitsschreibung. Archiv für österreichische Geschichte, Wien, 2002, в котором этой теме посвящено несколько статей. В своей статье в этом сборнике я старался подчеркнуть причудливые зигзаги развития европейской истории, ее поливариантность, когда в разных частях Европы развитие шло по принципиально разным путям. Все это делает весьма затруднительным создание мифа 68 41 это новая версия больного для историков вопроса о соотношении их исследований с мифотворчеством и о рефлексии по поводу собственной методологии и ее идеологической обусловленности. Вернемся к проблемам сравнительного подхода. Сравнивая модернизаторские усилия, предпринимавшиеся континентальными империями в экономике, нужно учитывать сложности в измерении их эффективности. Например, зависимость Порты от ее иностранных кредиторов была заметно выше, чем у России. Однако трудно оценить, насколько эта качественно более высокая экономическая независимость России определялась большей эффективностью ее финансовой политики, а насколько успехами российской армии на полях сражений. Империя Романовых и империя Османов обе вели войны друг с другом во многом на заемные деньги. Но одна их выигрывала, а другая проигрывала. Военная сила и лучшее стратегическое положение позволяли России делать новые займы на лучших условиях, чем это было возможно для Османской империи. Доступ к деньгам влиял на военный потенциал, но более высокий военный потенциал в свою очередь помогал некоторым империям бороться за лучшее место в экономической мир-системе. Пожалуй, наиболее интенсивно и продуктивно сравнительный подход использовался в последнее время для изучения элит континентальных империй. Еще в 1976 г. Дж. Армстронг высказал ряд весьма интересных сравнительных наблюдений о «мобилизованных диаспорах» в Российской и Османской империях.69 Важным вкладом в сравнительное изучение темы стал том под редакцией Андреаса Каппелера и Фикрета европейской истории как истории возрастания экономической и политической свободы. Если принадлежность Сталина европейской истории можно оспаривать, то Гитлер несомненно был ее частью, и вполне мог победить. Нетрудно представить, о каком смысле европейской истории говорили бы тогда политики и историки на конференциях где-нибудь в Бостоне или Пекине. John A. Armstrong, “Mobilized and Proletarian Diasporas”. The American Political Science Review 70 (1976): 393-408. 69 42 Аданюра.70 Блок сравнительно ориентированных статей, посвященных элитам империй Габсбургов, Романовых и Османов, недавно опубликован по-русски.71 Суммирующим усилия последних лет и формулирующим важные теоретические тезисы текстом стала сравнительная статья Андреаса Каппелера «Имперские центры и элиты периферии».72 Каппелер, в частности, отмечает, что только в России имперские элиты уже на ранней стадии включали представителей разных конфессиональных групп. В 18 и 19 в. во всех трех империях происходило усиление бюрократии, постепенное повышение образовательного критерия при формировании элит, и довольно активное привлечение иностранных специалистов и представителей диаспорных групп. Каппелер отмечает также, что неоднократно предпринимавшиеся во всех этих империях реформы, направленные на централизацию и внедрение элементов прямого правления, в целом не отменили общего принципа сотрудничества имперского центра и элит периферии, которое было выгодно обеим сторонам, и осуществлялось за счет низших социальных слоев периферии. (Я бы добавил, особенно имея в виду османский и российский опыт, что и за счет низших слоев ядра империи.) Интересно наблюдение Каппелера о постепенном внедрении элементов османской системы миллетов в Российской и Габсбургской империях. Это, между прочим, является иллюстрацией важного, но часто упускаемого из виду обстоятельства, что заимствования опыта имперского правления не всегда шли лишь с запада на восток. В целом Каппелер отмечает тенденцию к сближению принципов функционирования элит в этих империях. Процессы урбанизации, индустриализации и распространения грамотности привели к возникновению во всех этих империях новых элитных групп, добивавшихся участия во власти под лозунгами демократии и Andreas Kappeler (ed.) in collaboration with Fikret Adanir and Alan O’Day. The Formation of National Elites. Aldershot/New York: Dartmouth, New York University Press, 1992. (Comparative Studies on Governments and Non-dominant Ethnic Groups in Europe, 1850-1940, vol. 6). 70 Хёе Х.П. Элиты и имперские элиты в Габсбургской империи, 1815-1914 (С..150-176); Сомель А. Османская империя: местные элиты и механизмы их интеграции (С. 177-205); Каменский А. Элиты Российской империи и механизмы административного управления (С.115-139) // Миллер А. (ред.) Российская империя в сравнительной перспективе. М.: Новое издательство, 2004. 71 Andreas Kappeler. “Imperiales Zentrum und Eliten der Peripherie.” Статья для проекта Rulers and Ruled in Continental European Empires in Comparison, 1700-1920, осуществляемого Исторической комиссией Австрийской академии наук. 72 43 национализма. Анализируя опыт империй по приспособлению к этой новой ситуации, Каппелер справедливо замечает, что при сравнении с опытом национальных государств, возникших на их развалинах, политика империй выглядит сегодня совсем не так мрачно, как это рисовалось в национальных нарративах. Интерес к элитам представляет собой часть более общей тенденции, которая фокусирует внимание на различных моделях имперской власти, на характерных для континентальных империй переходах от традиционных форм «непрямого правления» к прямому контролю имперского центра, и к возврату к непрямому правлению в новых формах и условиях.73 Другое активно разрабатываемое в последнее время направление, которое обязательно принесет интересные результаты, это сравнительное изучение религиозной политики этих империй, в том числе миссионерства и прозелитизма, обращений и отпадений.74 Еще недавно в историографии существовала практически непроницаемая мембрана между континентальными империями, которые было принято описывать как «традиционные», и морскими империями, которые описывались как «модерные». Эта фронтальная оппозиция сегодня успешно разрушается. Сегодня историки признают не только то обстоятельство, что «традиционные» континентальные империи в 18 и особенно 19 в. уже отнюдь не были вполне традиционными, но и то, что в морских империях этого времени сохранялось немало традиционных элементов общественного устройства и форм контроля центра над периферией. Дэвид Кэннадайн убедительно показал, что британский правящий класс не только широко использовал непрямые формы правления в своей империи, но и сохранял как в отношениях центра и периферии, так и в организации жизни в самих колониях традиционные, сословно-династические формы легитимации. В 20 в. периферия Британской империи превратилась в своего рода заповедник таких традиционных, аристократических форм, уже в значительной мере подорванных в самой См. Alexei Miller and Alfred J. Rieber. Introduction // A. Miller and Alfred J. Rieber (eds.) Imperial Rule. Budapest – New York, CEU Press, 2004, pp.1-6. 73 См. Paul W. Werth. “Schism Once Removed: Sects, State Authority and Meanings of Religious Toleration in Imperial Russia” (p.85-108) и Selim Deringil. “Redefining Identities in the Late Ottoman Empire: Policies of Conversion and Apostasy” (p.109-134) // A. Miller and Alfred J. Rieber (eds.) Imperial Rule. В апреле 2005 г. в Йельском университете прошла большая конференция «Религии, идентичности и империи», посвященная империям Романовых, Габсбургов и Османов. Из более ранних работ на эту тему отметим: Robert Geraci and Michael Khodarkovsky (eds.) Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and tolerance in Tsarist Russia, Ithaca and London, Cornell University Press, 2001. 74 44 метрополии.75 В целом это означает, что концепции «традиционности» и модерности проблематизируются и уже не используются в строгой привязке к континентальному или морскому типу империй. Это открывает путь к сравнению континентальных и морских империй друг с другом. Область, в которой такое сравнение может быть особенно плодотворно для понимания некоторых механизмов в поздней истории Российской империи, это процессы строительства нации в имперском ядре. Историки признают сегодня, что многие старейшие нации-государства, включая Францию, уходят корнями в гетерогенные династические конгломераты, в которых легко вычленялись традиционные для империй метрополии и периферии. Только в результате тяжких трудов по национальной гомогенизации эти иерархические империи превратили свои метрополии в сравнительно эгалитарные нации-государства, основанные на представлениях о гражданском равенстве.76 Анна Лора Столер и Фредерик Купер, изучавшие морские империи, высказали важное методологическое наблюдение: «Концепции длинного 19 в. в европейской истории слишком сосредоточены на «нации-государстве» и проявляют недостаточно интереса к «империи»».77 Этот тезис развил недавно Генри Камен: «Мы привыкли к мысли о том, что Испания создала свою империю, но полезнее было бы поработать с 75 David Cannadine. Ornamentalism. How the British Saw Their Empire. Oxford, Oxford University press, 2001. Эта книга целиком посвящена Британской империи и не использует сравнительного анализа. Однако она открывает весьма интересные перспективы для компаративистского подхода в вопросе о том, как имперский центр сохранял и укреплял, а иногда и создавал на периферии такие местные элиты, которые позволяли метрополии осуществлять непрямое управление имперской периферией. (Более ранние исследования непрямого правления в Британских колониях: Ian Copland. The British Raj and the Indian Princes: Paramountcy in Western India, 1857-1930. Bombay, 1982; Michael H. Fisher. Indirect Rule in India: Residents and the Residency System 1764-1858. Delhi, 1991.) Книга Кэннадайна интересна также и как серьезная полемика с концепцией ориентализма, она показывает, как британцы переносили на периферийные общества свои представления о социальной организации их собственного общества в метрополии, то есть мыслили о периферии не только через оппозицию, что подчеркивает Эдвард Сайд, но и per analogiam. См., например, Ronald Grigor Sunny, The Empire Strikes Out: Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire // Ronald Grigor Suny and Terry Martin (eds.) A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 27. 76 77 Ann Laura Stoler and Frederick Cooper, Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda // Ann Laura Stoler and Frederick Cooper (eds.) Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1997), p. 22. 45 идеей, что империя создала Испанию».78 Размышления в таком теоретическом ключе применимы и к России, и к венгерской субъимперии после 1867 г., и к интерпретации политики младотурок. Именно имперские элиты, точнее, определенные их сегменты, строили нации в ядре собственных империй, и никогда не пытались включить все имперское пространство и всех подданных империи в такой проект национального строительства. Исключив такую сравнительную перспективу, многие исследователи империи Романовых лишили себя возможности заметить то важное обстоятельство, что проекты строительства русской нации делали различие между русской «национальной территорией» и империей как целым, между теми группами, которые такой проект национального строительства предполагал обрусить, и теми группами, которые не включались в проект русской нации и, как следствие, не были мишенью ассимиляторской политики.79 Есть много других аспектов истории империй, где сравнение морских и континентальных империй может быть продуктивным. Стивен Величенко показал, как полезно может быть даже количественное сравнение имперских бюрократий. В частности, он продемонстрировал, насколько обманчив образ раздутой бюрократии в империи Романовых. На самом деле империя страдала от «недоуправляемости», от недостатка чиновников, численность которых в пропорции к населению была едва ли не в десять раз ниже, чем в метрополиях французской, британской и германской империй, и была весьма Henry Kamen. Spain’s Road to Empire. The Making of a World Power. London: The Penguin Press, 2002. Цитируется по: Ronald Wright. “For a wild surmise.” Times Literary Supplement, December 20, 2002, p. 3. Сходные аргументы см в Linda Colley. Britons: Forging a Nation, 1707-1837. London: Pimlico, 1992, которая показала, как много значили имперские успехи в формировании общебританской идентичности в островной метрополии. 78 Примеры того, как работы о формировании наций в метрополиях морских империй, например, Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 18701914. Stanford University Press, Stanford Cal., 1976, Linda Colley, Britons. Forging a Nation. London, Pimlico, 1992, Michael Hechter, Internal Colonialism. The Celtic Fringe in British National Development. 1556-1966. University of California Press. Berkeley, 1975, могут быть полезны для сравнительного анализа русского национализма, см. в главе ? этой книги, а также в А.Миллер. Украинский вопрос… См. также Sebastian Balfour. The Spanish Empire and its End: a Comparative View in Nineteenth and Twentieth Century Europe // A. Miller and Alfred J. Rieber (eds.) Imperial Rule… pp. 153-162; Steven Velychenko. Empire Loyalism and Minority Nationalism in Great Britain and Imperial Russia, 1707 to 1914: Institutions, Laws, and Nationality in Scotland and Ukraine // Comparative Studies in Society and History. Vol 39, No.3, July 1997. Нужно оговориться, что такие сравнения могут оказаться непродуктивными, если опираются на ту часть литературы об истории России, которая основана на представлениях о тотальном различии континентальных и морских империй. См., например, Krishan Kumar, Nation and empire: English and British national identity in comparative perspective // Theory and Society, 29, (2000), pp. 579-608, esp. pp. 584-588. 79 46 похожа на соответствующие показатели заморских колоний Британии и Франции. Исследуя состав бюрократии на западных окраинах, в частности на территории современной Украины, Величенко также показал, что представители местного населения были представлены среди чиновников в пропорциях, которые в целом соответствовали удельному весу различных этнических групп в этих губерниях.80 Уэйн Даулер и другие исследователи политики Российской империи в области образования мусульманского населения сравнивают эту политику с политикой Франции и Британии в области образования их мусульманских подданных в Африке и Индии.81 Тесно связаны с этими исследованиями работы, в которых сравниваются западные и русские версии ориентализма.82 Эти исследования напоминают, среди прочего, об интенсивности обмена «имперским опытом» между морскими и континентальными империями. Статья Ильи Винковецкого рассматривает очень интересный пример такого заимствования в России – она посвящена истории Русско-Американской компании, которая была организована по принципам британских колониальных торговых кампаний, и прослеживает мутацию этого института в ином институциональном и культурном контексте.83 Особого упоминания заслуживают работы Доминика Ливена, который блестяще проводит сравнения геополитических стратегий морских и континентальных империй, 80 Steven Velychenko. The Bureaucracy, Police and Army in Twentieth-Century Ukraine. A Comparative Quantitative Study // Harvard Ukrainian Studies, no. 3-4 (1999) p. 63 – 103; idem. The Size of the Imperial Russian Bureaucracy and Army in Comparative Perspective // Jahrbücher fur Geschichte Osteuropas, no. 3 (2001) р. 346-62. Wayne Dowler. Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia’s Eastern Nationalities, 1860-1917. Toronto: McGill-Queen’s University Press, 2001; Robert P. Geraci. Window to the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2001. 82 Nathaniel Knight. “Grigor’ev in Orenburg, 1851-1862: Russian orientalism in the service of Empire?”, Slavic Review, 2000. Vol.59, No.1, p.74-100; idem. “On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid” Kritika, Bloomington. 2000. New Series - Vol.1, No. 4, pp.701-715; Adeeb Khalid A. “Russian History and the Debate over Orientalism,” Kritika, 2000. New Series - Vol.1, No. 4, pp. 691-699; Maria Todorova. “Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid,” Kritika, 2000. New Series - Vol.1, No. 4, pp.717-727. (Русский перевод этой дискуссии о русском ориентализме в «Критике» см. в П. Верт, П. Кабытов, А.Миллер. Российская империя в зарубежной историографии. Москва, Новое издательство, 2005, с. 311-359.) 81 Ilya Vinkovetsky. “The Russian-American Company as a Colonial Contractor for the Russian Empire,” in A. Miller and Alfred J. Rieber (eds.) Imperial Rule… p.163-178. 83 47 особенно Российской и Британской.84 Также важны его сравнительные наблюдения в отношении внутренней политики континентальных и морских империй. Он считает общей проблемой всех империй нового времени задачу сочетания «контроля над огромными территориями и разнообразным населением с попытками удовлетворить определенные требования национализма, демократии и экономического динамизма», подтверждая тем самым современную тенденцию историографии видеть общую «повестку дня» морских и континентальных империй.85 Между прочим, Ливен отмечает, что демократические метрополии морских империй часто проводили более жесткую, чтобы не сказать жестокую, политику на колониальных окраинах, чем авторитарные правители континентальных империй.86 В целом эти исследования разрушили «Берлинскую стену», которая существовала в компаративистике между морскими и континентальными империями, и увеличили эвристический потенциал сравнительного подхода к истории империй, в том числе и Российской. См его магнум опус: Dominic Lieven. Empire. The Russian Empire and its Rivals. London: John Murray, 2000, а также Dominic Lieven. “Empire on Europe’s Periphery: Russian and Western Comparisons,” in A. Miller and Alfred J. Rieber (eds.), Imperial Rule… pp.135-152. 84 85 Dominic Lieven. Dilemmas of Empire 1850-1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 2. (Apr., 1999), p. 165. Ливен Д. Империя на периферии Европы: сравнение России и Запада // Миллер А. (ред.) Российская империя в сравнительной перспективе… С.91. 86