О творческом наследии Михаила Михайловича Буткевича
advertisement
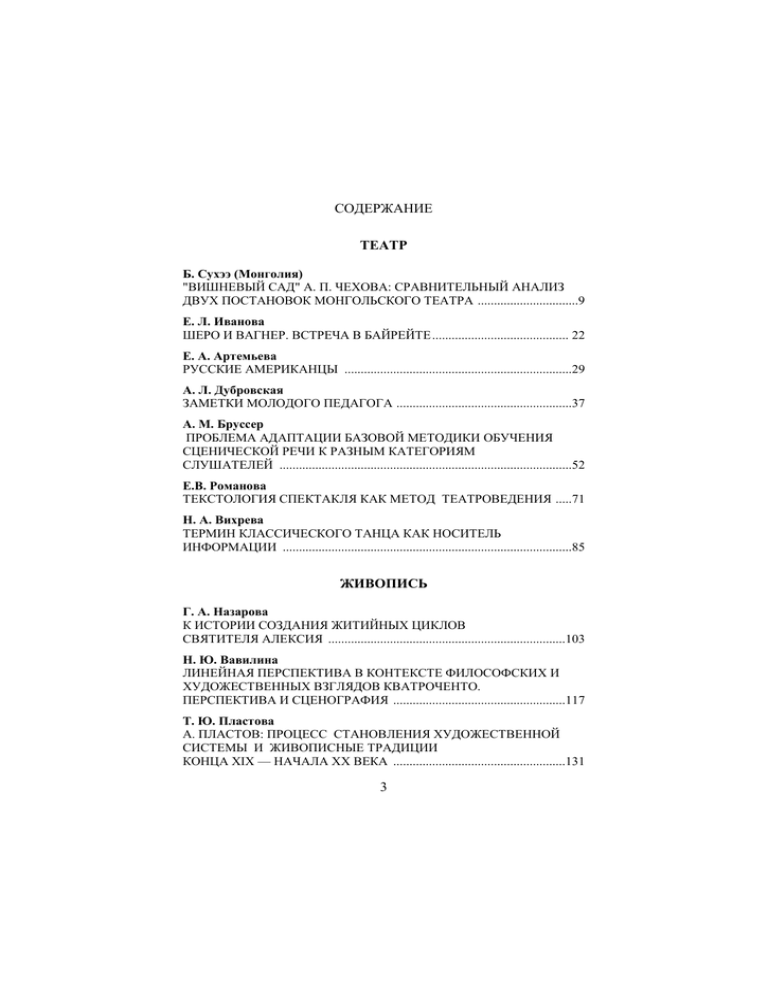
СОДЕРЖАНИЕ ТЕАТР Б. Сухээ (Монголия) "ВИШНЕВЫЙ САД" А. П. ЧЕХОВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ПОСТАНОВОК МОНГОЛЬСКОГО ТЕАТРА ...............................9 Е. Л. Иванова ШЕРО И ВАГНЕР. ВСТРЕЧА В БАЙРЕЙТЕ .......................................... 22 Е. А. Артемьева РУССКИЕ АМЕРИКАНЦЫ ......................................................................29 А. Л. Дубровская ЗАМЕТКИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА ......................................................37 А. М. Бруссер ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ К РАЗНЫМ КАТЕГОРИЯМ СЛУШАТЕЛЕЙ ..........................................................................................52 Е.В. Романова ТЕКСТОЛОГИЯ СПЕКТАКЛЯ КАК МЕТОД ТЕАТРОВЕДЕНИЯ .....71 Н. А. Вихрева ТЕРМИН КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА КАК НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ .........................................................................................85 ЖИВОПИСЬ Г. А. Назарова К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЖИТИЙНЫХ ЦИКЛОВ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ .........................................................................103 Н. Ю. Вавилина ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ КВАТРОЧЕНТО. ПЕРСПЕКТИВА И СЦЕНОГРАФИЯ .....................................................117 Т. Ю. Пластова А. ПЛАСТОВ: ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ЖИВОПИСНЫЕ ТРАДИЦИИ КОНЦА ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВЕКА .....................................................131 3 К. И. Назарова ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА: ОТ ЧУВСТВЕННОГО К РОКОВОМУ. Поздний период творчества Д. Г. Россетти (1862—1882 гг.) ................143 МУЗЫКА Ю. Б. Абдоков МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ............................................................................................157 А. А Литовкина PERPETUUM MOBILE Т. И. ШМЫГИ ................................................170 О культуре В. Б. Сназина ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА В ОСВЕЩЕНИИ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ .....................................................188 4 Russian Academy of Theatre Arts THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC Quarterly review Established in 2008 THEATRE B. Sukhee. Chekhov's "The Cherry Orchard": comparative analysis of two productions created in Mongolian theatres ................. 9 E. Ivanova. Chéreau and Wagner. Meeting in Bayreuth ........... 22 E. Artemyeva. Russian Americans ............................................ 29 A. Dubrovskaya. Notes of a young pedagogue ......................... 37 A. Brusser. Adapting the basics of speech teaching techniques to different categories of listeners ...................................................... 52 E. Romanova. Performance textology as a method in theatre science ............................................................................................... 71 N. Vikhreva. "Classical dance" — the notion as an information medium .................................................................................. 85 FINE ARTS G. Nazarova. Prelate Alexiy's agiographic series: history of creation ............................................................................................ 103 N. Vavylina. Philosophic and artistic views of Quatrocento: linear perspective. Perspectives and set design ............................... 117 T. Plastova. Coming-to-be of the art system and painting traditions in end of the 19th — beginning of the 20th century ............ 131 K. Nazarova. Late period in D.G. Rossetti's career: 1862— 1882. Evolution of a female image: femme sensuelle vs. femme fatale ................................................................................................ 143 5 MUSIC Y. Аbdokov. Musical etymology of ballet ............................... 157 A. Litovkina. Perpetuum mobile of T. Shmyga ...................... 170 About culture V. Snazyna. Everyday life in Russia in the medium of the 19th century in the works of Théophile Gautier .............................. 188 6 ТЕАТР 7 8 Б. Сухээ (Монголия) "ВИШНЕВЫЙ САД" А. П. ЧЕХОВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ПОСТАНОВОК МОНГОЛЬСКОГО ТЕАТРА Драматические произведения А. П. Чехова стали новым явлением мировой культуры, это такая же несомненная художественная и духовная ценность, как театр Мольера или Шекспира. Его пьесы до сих пор не сходят со сцен театров, и каждая их новая серьезная постановка собирает полные залы, вызывает горячие споры и волнующие мысли, возбуждает не только и не столько профессионально-искусствоведческие дискуссии, сколько глубокие размышления о жизни, о назначении человека на земле. С творчеством великого русского писателя А. П. Чехова монгольского читателя познакомил еще в 1938 году литературный журнал "Шинэ толь" ("Новое зеркало"), который опубликовал один из его ранних рассказов "Патриот своего отечества" (1883) в переводе Д. Нацагдоржа. Значительно позже, в 1956 году, вышел первый сборник рассказов Чехова под названием "Попрыгунья" (перевод — Б. Ринчин, П. Чойжил и Б. Дэмчигдорж). Пройдет еще 13 лет, прежде чем увидит свет второй сборник — "Палата № 6" (в переводе и под редакцией Г. Амара). В последующие годы были изданы сборники "Душечка" (2003) и "Бумажник" (2007) в переводах писателя Д. Цоодола, а также "Детские рассказы" (2004) в переводе Д. Одонхорлоо. Если Чехов-писатель достаточно быстро нашел путь к сердцам читателей, то понимание Чехова-драматурга долгое время оставалось неоднозначным. Главные причины такого противоречия кроются в том, что при отсутствии профессионального театра в стране театры в аймаках1, созданные из драматических кружков, еще не имели достаточного опыта постановки спектаклей 9 европейских авторов, а зрительская аудитория, на которую в основном, были рассчитаны они, оставалась малочисленной. В 1960—1980-е годы в процессе коренных социально-экономических преобразований резко меняется облик всей страны, в том числе происходит бурный рост городов. Это способствовало внедрению в жизнь и сознание монголов европейского образа жизни, прежде всего, конечно, благодаря тесным отношениям с Советским Союзом. Такие перемены в жизненном укладе нашли свое отражение и в художественном мышлении, привели к появлению новых эстетических идеалов. В 1963 году Государственный музыкально-драматический театр был разделен на Драматический театр им. Д. Нацагдоржа и Театр оперы и балета. В 60-е годы проблематика и тематика пьес переводного репертуара становятся еще более широкими и разнообразными. Особенно четко прослеживается развитие монгольского театра по двум постановкам "Вишневого сада" А. П. Чехова (1964-го и 1986 годов) в Драматическом театре. Они стали важными вехами в его деятельности, показавшими, что творчество Чехова-драматурга созвучно духовным исканиям монгольского народа, ибо не ограничивается национальными и временными рамками. Несмотря на все возможности, на старательность, с которой работал над пьесой коллектив, в постановке 1964 года театру не удалось оказаться на высоте требований чеховской драматургии, предъявляемых к режиссеру и актерам. Быть первым всегда трудно. В постановке 1964 года театру не удалось довести ее до уровня, соответствующего глубине чеховской драматургии, и требований, предъявляемых к режиссеру и актерам. Но эта постановка, тем не менее, представляет сегодня большой интерес, так как она явилась первой попыткой самостоятельного осмысления творчества Чехова и стала ключом к пониманию современного театра Монголии. Драма (постановка 1964 года), представлявшая далекую, инородную среду, славянское мировосприятие, нелегко давалась и актерам, и публике. Может быть, поэтому актеры легче всего схватили внешний рисунок ролей. Более важные задачи, передающие второй план образов, иногда ускользали из игры. Позже 10 эти трудности в целом были преодолены актерами, в результате чего основные идеи спектакля дошли до зрителя. В постановке "Вишневого сада" 1964 года режиссер Б. Мушгиа делал все возможное, чтобы адекватно отразить идею и воспроизвести сюжет. На основе режиссерской экспликации были назначены задания актерам для работы над ролью. Но поднять качество режиссуры на должный уровень не удалось. Это было связано со следующими трудностями: 1. Очень короткий срок был отведен на подготовку к постановке. И режиссер Б. Мушгиа, несмотря на мобилизацию своих сил и таланта, не смог уложиться в срок, отведенный худсоветом театра на постановку пьесы — с 9 мая по 20 июня. При обычном сроке постановки классических произведение в три месяца, сорок дней для такой сложной психологической пьесы Чехова, конечно, слишком маленький срок даже для опытного режиссера. 2. Не была проведена сверка перевода с русским оригиналом, режиссер не был осведомлен о том, что там пропущены целые фрагменты пьесы. 3. Режиссер Б. Мушгиа был плохо знаком с творчеством А. П. Чехова, а также других классиков русской литературы. 4. Заметно было, что режиссеру не хватило опыта для постановки такой психологической драмы. В связи с тем, что в 90-е годы XX века исчез архив Драматического театра, автор статьи встретился с актерами и режиссером первой постановки "Вишневого сада", чтобы по их воспоминаниям восстановить атмосферу того времени и выяснить, как оценивают спектакль его исполнители и критики спустя 43 года. Режиссер спектакля Б. Мушгиа: "Сегодня я осознал, что частная собственность — главное в человеческой жизни. Но когда ставили "Вишневый сад" в 1964 году, никому не приходило в голову, что без частной собственности человек — никто, без нее жизнь теряет смысл. Мне казалось, что самый сильный аргумент пьесы Чехова — человек не может существовать без родной земли. Как можно землю продавать? Такая коммерческая сделка вызвала шок у монголов. Центральный вопрос "Вишневого сада" — продажа земли — для монгольского менталитета был непонятен. Выступая с режиссерским дебютом в пьесе Чехова "Вишневый сад", я опирался на систему Станиславского. Надо сказать, что 11 монгольские зрители в начале 60-х годов не достигли еще того интеллектуального уровня европейской культуры, чтобы адекватно воспринимать такого великого мастера, как А. П. Чехов"2. Заслуженная актриса Монголии Лха Долгор: "В 1964 году за очень короткое время был поставлен этот спектакль. До него мы целый год работали над пьесой Ф. Шиллера "Коварство и любовь". Актерский ансамбль был измучен. Почти без перерыва стали репетировать "Вишневый сад". Мне очень трудно давалась роль Вари, поскольку я не осознала до конца замысел режиссера. Чехов — трудный драматург, в то время я вообще его не понимала. В Монголии почти никаких материалов о нем не публиковалось. Это был плановый спектакль театра. Поскольку актеры не поняли замысла Чехова, то и до зрителей он не дошел. Спектакль собрал полный зал — в этом состояла главная задача руководства театра. Но что поняли и уловили зрители, об этом никто не думал. Мне кажется, что тогда, в 60-е годы, Монголия еще не созрела до понимания Чехова"3. Таким образом, без полноценного режиссерского замысла актеры были бессильны дать воплощение тончайшему реализму Чехова, их игра была поверхностна, слишком монотонна, слишком театральна для передачи чеховских нюансов, а когда актеры пытались быть более достоверными, избегать театральности, то становились невыразительными, бесцветными, безликими. Театровед С. Дашдондог: "Режиссеру удалось раскрыть идею и сюжет пьесы, но события переданы в спектакле схематично. Недостаток спектакля в схематизме и прямолинейности". Доктор Л. Тудэв: "Абстрактность образов, нарочитая красивость языка, художественные штампы нередко мешали созданию полнокровных реалистических образов. Национальное своеобразие — это не застывшее явление, оно изменяется, обогащается, проникается новым духом"4. У монголов, которые веками свободно выбирали земли для пастбищ, жили скотоводством, "Вишневый сад" А. П. Чехова вызывал отчуждение. Для них это был совершенно другой образ жизни, другой менталитет, другие обычаи и нравы. Нужно представлять себе психологию нашего общества эпохи социализма. Земля тогда воспринималась не как средство существования, а как мать, как родина. И эти понятия были святыми. 12 Несмотря на критику, заслуга ветерана театра Б. Мушгиа заключается в том, что он первым познакомил монгольского зрителя с творчеством Чехова. Однако его заслуги перед монгольским театром остались недооценены — в театроведческой литературе нет никаких упоминаний о его вкладе в развитие национального драматического театра. В 1986 году предпринимается новая попытка поставить "Вишневый сад", которую осуществил молодой режиссер Б. Мунхдорж (выпускник ГИТИСа 1975 года, мастерская А. А. Гончарова). Самое главное, что сделал режиссер, он выбрал жанр комедии, который был определен самим Чеховым, хотя в свое время Станиславский настаивал на том, что пьесу нужно ставить как трагедию. Новизна чеховской драматургии требовала глубокого понимания прежде всего ее жанровых особенностей. Относительно жанра чеховских пьес театральная критика до сих пор не может прийти к какому-нибудь единому мнению. Некоторые воспринимали пьесы как трагедии, другие — как драмы, третьи — как комедии, а то и фарсы. Известно, что этот вопрос являлся объектом споров также в русской литературной и театральной критике. Режиссерский замысел Б. Мунхдоржа — раскрыть богатство человеческого характера и его психологию в эпоху перестройки общественной жизни. "Чтобы в 80-е годы XX века довести до монгольского зрителя идею автора пьесы, нужно было показать содержание пьесы Чехова не как музейный экспонат и не с точки зрения свержения крепостного права в России. Пьеса представляет собой фарс, пародию на жизнь болтунов, которые ничего не хотят делать. Как режиссер, я выбрал именно такую трактовку идеи пьесы, а в качестве формы изображения — фарс. Вся болтовня кончается продажей сада. Задача была через психологию выявить внутренний мир героев. Лопахин покупает имение и вырубает сад. Вместе с садом уничтожается и человек — Фирс, который остается стеречь очаг", — рассказывает режиссер Б. Мунхдорж5. Одной из существенных сторон нарисованной Чеховым картины жизни дворянского сословия является несомненный уход этого сословия в прошлое. Достигается это многими средствами и отнюдь не только тем, что у вишневого сада появляется новый хозяин. Неразрывную связь дворянского мира с прошлым подчеркивает каждое слово Фирса — живого осколка дореформенной старины. 13 В спектакле "Вишневый сад" идеи перестройки общественной жизни, возникшие в России в начале XX века, стали понятными для жителей Монголии, которые в 1980—1990-е годы переживали кризис общественных отношений — процесс, аналогичный российской перестройке. В постановке режиссера Б. Мунхдоржа ирония, сатира и насмешка стали лучшим способом борьбы со всем устаревшим, отжившим. Б. Мунхдорж мобилизовал весь арсенал своих знаний, чтобы точнее раскрыть художественный замысел Чехова. Перед постановкой "Вишневого сада" возникла необходимость внести коррективы в перевод пьесы, который, по мнению переводчика З. Дашдоржа, был далеким от совершенства, т.е. был "сырым". Смысл пьесы и исполнителями, и зрителями в постановке 1964 года воспринимался с трудом, поскольку текст был перегружен лексически неточными словами и лишними предложениями. Были нарушены нормы современного монгольского языка, сохранились погрешности в стилистике. Кроме того, многие слова остались без перевода, то есть написаны по-русски. Без должной необходимости переводчиком были добавлены новые, уточнявшие текст предложения, что привело к длиннотам. Но самые главные недостатки заключались в том, что некоторые чеховские фразы намеренно были переиначены, а отдельные фрагменты текста, предложения, слова, диалоги сокращены. Когда новый перевод был представлен в художественный совет театра, выяснилось, что прежний текст пьесы переработан более, чем половину. В новой постановке режиссер Б. Мунхдорж (ныне народный артист, заслуженный деятель искусств Монголии) строил спектакль на контрасте между формой и содержанием жизни героев чеховской пьесы. Красота природы, великолепные костюмы, изысканность манер в общении героев резко контрастируют с драматизмом жизни, неудовлетворенностью ею каждого из героев. Цель постановки "Вишневого сада" в 1986 году по плану художественного совета театра — повышение актерского мастерства. Вот что об этом говорит Б. Мунхдорж: "...Хотя основы современной монгольской актерской школы — школы системы Станиславского — заложил русский специалист А. Ефремов в 30-е 14 годы, но, если честно признать, до середины 70-х годов в нашем драматическом театре существовала лишь "школа представления". Считалось, что для большей выразительности нужен грим. Текст необходимо декламировать, принимая разные статичные позы. Л. Ванган, а также С. Гэндэн после окончания ГИТИСа много работали над тем, чтобы преодолеть эту традицию и направить актерскую школу монгольского театра по пути изучения нового метода — "школы переживания". Именно они требовали от актеров психологической игры. В действительности благодаря монгольским выпускникам ГИТИСа в национальном театре стали укрепляться традиции психологического театра. В подтверждение этого пьеса "Вишневый сад" в 1986 году была признана лучшей постановкой года"6. Причиной успешной постановки пьесы следует считать также тот факт, что режиссер-постановщик пьесы Б. Мунхдорж к тому времени успел окончить режиссерский факультет ГИТИСа. К тому времени на монгольском языке появилась соответствующая литература по театроведению, были переведены с русского языка на монгольский биография А. П. Чехова, многие его произведения. Большая часть труппы театра закончила актерский факультет Государственного педагогического института. Но, разумеется, основная заслуга принадлежит режиссеру, который сумел мобилизовать и повести за собой весь творческий коллектив. Заслуженная актриса Монголии Ж. Лхамхуу: "В постановке спектакля "Вишневый сад" 1964 года я играла роль Ани. Не могу сказать, что актеры плохо играли. Может быть, режиссеру не удалось довести до нашего сознания истинный смысл пьесы Чехова, может быть, ему не хватило опыта. Постановке 1986 года предшествовала тщательная подготовка, анализ ролей, "застольные" репетиции. Режиссер Б. Мунхдорж объяснил, почему сегодня мы вновь обращаемся к пьесе, написанной в 1904 году. Худсовет театра выбрал А. П. Чехова как самого современного драматурга. Работая над ролью Раневской, я почувствовала, какой сложный Чехов. С первого раза он не поддается осознанию. Чехов — писатель детали. Через самую незначительную деталь, нюанс может передать глубокую философскую мысль"7. Немаловажным условием для успеха постановки стало осознание того, что творчество Чехова требует одновременно и точ15 ности передачи авторского замысла, и напряженной работы воображения. Зритель должен был улавливать, о чем в действительности думают герои пьесы в то время, когда они произносят малозначащие слова или просто молчат. Актер должен сыграть так, чтобы зритель почувствовал, что наряду с той жизнью, течение которой он видит на сцене, равноправной является жизнь предчувствуемая, ожидаемая, которая так же реальна. В постановке 1964 года роль Раневской исполняла актриса Т. Хандсурэн. В ее исполнении перед нами предстала Раневскаябедная вдова, все время плачущая. А в 1986 году Раневская–Ж. Лхамхуу постаралась показать этот нюанс намеками, вскользь. Ее героиня, много повидавшая на своем веку женщина, потерявшая ребенка, поехавшая вслед за молодым мужем за границу, вынуждена была вернуться ни с чем. В спектакле показана подлинная драма жизни Раневской — она столкнулась с необходимостью продать последнее свое достояние — имение и вишневый сад. Актриса Ж. Лхамхуу показала драматизм ситуации своей героини, отказавшись от иронии. Лопахин в исполнении актера Н. Дугарсанжаа (постановка 1964 года) предстает грубым мужиком, почти неграмотным, алчным, агрессивным, безжалостно уничтожающим прекрасный вишневый сад. Актер П. Цэрэндагва в 1986 году изучил биографию своего персонажа и показал нового народившегося капиталиста не как алчного, стремящегося к наживе, а как уравновешенного, уверенного в себе, воспитанного человека, который знает, что ему в жизни нужно. Яркая сатирическая краска в характеристике этого персонажа — эпизод, в котором он под корень скашивает цветущий луг в саду Раневской. Народный артист П. Цэрэндагва вспоминает: "В постановке 1986 года я играл в "Вишневом саде" роль Лопахина. Это была вторая постановка. Тогда в нашем театре работали все наши корифеи, знаменитости. При подготовке к этой роли я знакомился с архивными материалами 1964 года, протоколами художественного совета, мнениями об этом спектакле наших великих мастеров. В самом начале, когда мы приступили к разбору пьесы, был обозначен жанр комедии, хотя никаких признаков комедии не чувствовалось. Трактовки были самые разные. Главное зависело от 16 мироощущения режиссера. Как ставить, должен был решить режиссер. Чехов считал, что "Вишневый сад" — это комедия. Я долго размышлял над пьесой и согласился с Чеховым, что "Вишневый сад" — действительно комедия. Представьте, как можно строить будущее, полностью отказавшись от прошлого". Далее П. Цэрэндагва продолжает: "...Я ставил перед собой задачу не просто показать и играть внешне русского человека, который хочет купить вишневый сад, а выявить суть характера, показать всю его глубину. Спектакль тогда вызвал большой резонанс в прессе и среди критиков. Главный конфликт в пьесе выражен через отношения Раневской и Лопахина. Кроме того, что между ними большая разница в возрасте, они принадлежат к разным эпохам. Раневская представляет мир дворянской культуры, культуры помещичьей усадьбы, Лопахин — олицетворение нового нарождающегося класса предпринимателей. Я выработал для себя такую линию трактовки роли. Мой Лопахин, очень воспитанный молодой человек, чрезвычайно любезен с Раневской, но на самом деле он охвачен только одним желанием — получить в собственность вишневый сад"8. Роль представителя русской интеллигенции Трофимова сначала играл актер Л. Жамсранжав, потом Х. Найдандорж. Тому и другому удалось показать всю тщетность и пустоту существования интеллигенции в царской России. Он только говорит о правде жизни, но весь охвачен пустыми иллюзиями. Роль Гаева в 1964 году играл Г. Гомбосурэн в 1986 году — Х. Нямсурэн, Фирса — Л. Лувсан (1964) и З. Шагдаржав (1986). Это были хорошие актерские работы. Характер реализма на монгольской сцене определяется степенью достоверности отражения психологии человека, среды, в которой он действует. Поэтому для того, чтобы донести пьесу до монгольского зрителя, необходимо было создать сильный сценический ансамбль, задачей которого было бы выявление многозначности общения людей. Чеховские пьесы требует глубокого понимания новаторской природы драматургии Чехова. Анализируя обе постановки, нельзя не сказать о сценографии. Театральный художник Ц. Доржпалам в первой постановке "Вишневого сада" (1964) использовал в четырех действиях разное 17 оформление сцены и костюмов. При этом купечество он поселил в доме с плотно закрытыми окнами и дверью, припертой доской, который напоминал тюрьму, что придавало особый драматизм спектаклю. Ц. Доржпалам рассказывает: "Чехов — очень глубокий автор. Такого другого глубокого, тонкого писателя, как Чехов, нет в России. Режиссер хотел сказать, что "Вишневый сад" является олицетворением России для Чехова, хотел высказать свое отношение к российской истории. Нарождался капитализм, на арену выходили новые люди с другим сознанием, не "отягощенные" нравственными законами и запретами. Я преклоняюсь перед гением Чехова. Думаю, недопонимание пьесы связано с тем, что монгольский зритель нетерпелив, не любит философских рассуждений, предпочитает готовые рецепты и готовые сентенции"9. Художник Б. Томорхуяг (постановка 1986 года) использовал современные приемы оформления — весь спектакль проходит в одной декорации. Это было новаторство в искусстве сценографии монгольских художников. Ярко и красочно показано поместье Раневской, сад — все, что было для нее так дорого. В эпизоде уничтожения сада художник очень образно показал, какую опасность для человека таит нарушение гармонии между человеком и природой. Сильное впечатление оставляет сцена, как под ударами топора гроздьями слетают с ветвей вишневых деревьев розовые цветы. На программках к спектаклю "Вишневый сад" был изображен сад, от которого остались одни пни. Что осталось людям в результате после уничтожения вишневого сада? Ничего, пустота. И это подлинная трагикомедия, вот что хотели сказать зрителям режиссер и художник. Великий русский режиссер Вл. И. Немирович-Данченко писал: "...Сейчас много говорят о том, что такое автор и режиссер, говорят, что театр должен "слушаться" автора... А между тем, это может относиться только к такому театру, который довольствуется ролью исполнителя, передатчика и слуги автора. Театр, который хочет быть творцом, который хочет сотворить произведение через себя, не будет "слушаться". Но тут был грех нашего театра — нечего закрывать глаза — было просто недопонимание Чехова, недопонимание его тонкого письма, недопонимание его необычайно нежных очертаний... Чехов оттачивал свой реализм до символа, а уловить эту нежную ткань произведения Чехова 18 театру долго не удавалось; может быть, театр брал его слишком грубыми руками, а это, может быть, возбуждало Чехова так, что он это с трудом переносил"10. У каждого человека есть мечта. Но вопрос в том, как он ее достигает. Чехов старается ответить на этот вопрос. Чехову принадлежит такой афоризм: "В человеке все должно быть прекрасно". На самом деле в жизни таких людей нет, и Чехов пишет именно об этом. Конечно, успех спектакля во многом зависит от актера. Насколько точно удается воплотить в персонаже мысли и идеи, заложенные автором, можно судить об актерском мастерстве. Народный артист Ц. Гантомор рассказывает: "В нашем театре дважды ставили "Вишневый сад" Чехова, постановка прошла с успехом, нас хвалили, однако, по моему мнению, подлинный дух Чехова мы не уловили. Для Чехова важно показать человека внутри социума, то есть каждому человеку именно общество задает ту или иную роль, часто личные качества человека никак не влияют на его общественную жизнь. С другой стороны, Чехов показывает внутренний мир человека в борьбе с самим собой. В человеке противоборствуют два начала: хорошее и плохое. На волне этого противоборства отчетливо вырисовываются персонажи пьес Чехова. Его герои не несут в себе столь явной определенности, как герои Гоголя или Островского"11. Чехов постоянно стремится выразить внутреннюю сущность человека, самые потаенные уголки его души, поэтому ставить Чехова и играть в его пьесах очень трудно. От режиссера и от актера требуется незаурядный талант и сверхчувствительность. В произведениях А. П. Чехова можно найти ответы на все вечные вопросы человеческого существования: в чем должна заключаться жизненная позиция человека, что делает его личностью, в чем смысл жизни, чему человек радуется в жизни, о чем печалится, о чем мечтает, что случается, если человек не достигает желаемого. Почему А. П. Чехов до сих пор остается для нас живым классиком? Он показывает нам человека таким, как он есть, вне зависимости от его географического места жительства, национальности, имущественного статуса, показывает его радости, страдания, зависть, любовь, лицемерие. Мы и сегодня находим у Чехова от19 веты на наши самые трудные вопросы. Вот почему он остается нашим современником. Произведения Чехова, а позднее Гоголя, Островского и Горького на сцене монгольского театра рассматривались как драматургия актуальных и острых общественных проблем, масштабность постановки которых захватывала зрителей. Тема утверждения человеческой личности — целостной, сильной, вовлеченной в общегосударственное дело и отдающей ему все помыслы, либо, напротив, ищущей, мятущейся в поисках себя и своего места в жизни, продиктовала театру выбор русских и современных советских пьес. Под их влиянием монгольские драматурги также обращались в своих произведениях к выявлению глубинных причин возникновения социальных конфликтов, и, что очень важно, к изображению тончайших нюансов психологии человека. На новом этапе развития театра монгольские актеры переосмысливают психологическую школу русского театра через призму понятной им национальной отечественной культуры, получают духовную поддержку и творческие импульсы в создании глубоких, объемных, полифонических характеров. Монгольские театральные критики считают, что первые и последующие постановки произведений А. П. Чехова подвели сценическое искусство страны к такому рубежу, с которого начался его новый этап — этап психологического реализма. На сегодняшний день драматургия Чехова является одной из основных составляющих учебной программы в театральных вузах Монголии. В качестве примеров можно привести Монгольский университет культуры и искусств, где на актерском и режиссерском факультетах поставлены спектакли (как дипломные работы) по пьесам Чехова "Дядя Ваня" (1998), "Три сестры" (2002), "Иванов" (2004), "Вишневый сад" (2006) и др. В память народного артиста СССР А. Д. Папанова (моего педагога в ГИТИСе) в 1998 году был поставлен спектакль "Свадьба" на базе Государственного академического драматического театра. Сегодня пьесы Чехова, поставленные на разных сценах в городах и аймаках Монголии, привлекают внимание зрителей, по-своему раскрывая внутренний мир писателя и тайны души его героев. 20 В конце сентября — начале октября 2004 года в Улан-Баторе состоялся международный фестиваль "Чехов — XXI век", организованный по инициативе деятелей культуры Монголии при содействии посольства России в Монголии. В фестивале принимали участие Монгольский академический драматический театр, Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, Бурятский академический театр и театр из Хух Хото, столицы Внутренней Монголии (КНР) и др. Любовь к драматургии великого русского писателя объединила в рамках фестиваля профессиональные театры и любительские коллективы. Сегодня в эпоху демократии человеку предоставлена возможность пользоваться не виданными ранее свободой и правами. Художники, театральные деятели продолжают поиск нового прочтения Чехова. Наши режиссеры стараются донести чеховские идеи до широкого зрителя. Первые и последующие опыты работы над постановками пьес А. П. Чехова становились этапными вехами в утверждении реалистического метода системы К. С. Станиславского в драматическом творчестве монгольского театра. Движение монгольского драматического театра к психологическому реализму, стремление деятелей сцены чутко реагировать на глубинные перемены жизни было во многом связано с освоением драматургии Чехова на монгольской сцене. О возможности разнообразного прочтения Чехова российский писатель Б. Акунин в альманахе "Другие берега" отметил: "Вся штука в том, что чеховская драматургия — как пустой бокал, в который каждый наливает свое собственное вино. Потому она и не поддается окончательной расшифровке"12. Аймак — административная единица Монголии. Из беседы автора с режиссером Б. Мушгиа от 16 февраля 2007 г. 3 Из беседы автора с актрисой Лха. Долгор от 9 февраля 2007 г. 4 Тудэв Л. Взаимодействие и взаимообогащение социалистических культур. М., 1980, с 116. 5 Из беседы автора с режиссером Б. Мунхдоржем от 10 февраля 2007. 6 Из беседы автора с режиссером Б. Мунхдоржем от 10 февраля 2007 г. 7 Из беседы автора с актрисой Ж. Лхамхуу от 8 февраля 2007 г. 8 Из беседы автора с артистом П. Цэрэндагва от 27 февраля 2007 г. 9 Из беседы автора с художником Ц. Доржпаламом от 7 февраля 2007 г. 10 Немирович-Данченко Вл. И. Театральное наследие. М., 1952. Т 1. С. 107. 1 2 21 11 12 Запись бесед с актером Ц. Гантомор, от 14 февраля 2007 г. "Другие берега". М., 2006. № 21. С. 95. 22 Е. Л. Иванова ШЕРО И ВАГНЕР. ВСТРЕЧА В БАЙРЕЙТЕ В современной театральной жизни Франции Патрис Шеро стоит в ряду режиссеров-экспериментаторов, режиссеров-новаторов. Его авторитет необычайно высок в среде театральных профессионалов, его художественные достижения неизменно вызывают интерес и внимание широкой общественности в стране и за ее пределами. Патрис Шеро — это два десятка драматических постановок, несколько оперных. Одна из них — грандиозная мифологическая тетралогия Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга". В 1976 году Шеро принимается за постановку эпопеи Вагнера, пытаясь создать грандиозное повествование о ценностях буржуазного мира. Эта постановка стала одной из самых ярких страниц в творческой биографии режиссера. Работа над этими операми, как и работа над драматическими спектаклями, была подчинена идее актуализации классических сюжетов. И здесь Шеро пытался найти свои формы познания прошлого и настоящего в некоей панораме общественной жизни, весьма свободной и по отношению к прошлому, и по отношению к настоящему. Вне зависимости от плодотворности этих поисков можно все-таки говорить о некоей доминанте режиссерской мысли, постигающей возможности оперного зрелища и экспериментирующей с ними. И суть этой доминанты сопряжена с общим лейтмотивом произведений — мотивом трагической человеческой судьбы, ее одиночества и безнадежности, которые со всей очевидностью проистекают из беспощадности жизни с господствующей в ней темой рока. В Байрейте многие годы оперы шли в определенной интерпретации, приобретая постепенно — и неизбежно — черты "законсервировавшейся традиции", музейности. Шеро пришел в 23 Байрейт в переломный для театра момент. Именно ему предстояло преодолеть "законсервировавшуюся традицию". Шеро, уделяющий особое внимание пространственному решению спектакля, считает Байрейтский театр идеальным оперным залом. "Дом торжественных представлений" не похож на обычные оперные театры. Зрительный зал вмещает полторы тысячи человек, места в партере расположены амфитеатром, причем каждое кресло расположено между двумя передними — поэтому никто никому не заслоняет сцену. Позади амфитеатра расположены девять лож, над ложами проходит широкая галерея. Таким образом, в театре нет ни балконов, ни ярусов. Самым большим и прогрессивным нововведением в этом театре стал невидимый оркестр, находящийся в яме, расположенной под полом. Это было сделано Вагнером для того, чтобы вид музыкантов и дирижера с его взмахами палочкой не мешали публике целиком сосредоточиться на сценическом действии. Невидимый оркестр звучит мягче, гармонически слитно, не заглушает певцов и дает им возможность быть "ближе" к публике и доносить до нее каждое слово. Вагнер называл свой оркестр "мистической бездной". В "Кольце Нибелунга" Вагнер программировал универсальный сюжет, миф, так как он дает возможность каждому новому поколению, каждой новой эпохе по-своему осмыслить его образы. Идейная основа тетралогии Вагнера — осуждение жажды мировой власти. Разумеется, это нельзя понимать буквально. У Вагнера нет никакой исторической концепции, у него над миром властвует мистическая, фатальная сила рока. Шеро усмотрел в тетралогии своеобразную программу современной общественной борьбы. В результате — "Золото Рейна" превратилось в историю о том, как Альберих брал за горло директора рудников; в "Валькирии" Хундинг свергал крупного землевладельца; в "Зигфриде" Миме стремился к уничтожению промышленника; и, наконец, в "Гибели богов" капитализм был побежден, пролетариат торжествовал. Единый сценический образ всех четырех спектаклей — гигантский часовой механизм символизировал систему постиндустриального мира — механизм, запущенный в ход для подавления человека, отсчитывал время его короткой и ничтожной жизни. 24 В интерпретациях вагнеровской тетралогии существуют две тенденции. Это, с одной стороны, трактовки "внеисторические", акцентирующие лирическую сферу образов Вагнера и, соответственно, камерные по форме, и, с другой стороны, супертрактовки, семантически плотные, включающие активный ассоциативный ряд, акцентирующие социальные и политические мотивы. Именно эта ориентация проявилась в постановке Шеро. Создавая эпос индустриальной механистичности, представляя на сцене прозаические конкретные образы, Шеро неизбежно должен был игнорировать поэтическую суть вагнеровского мифа (заметим, что в этой постановке сняты были все фантастические и лирические акценты в литературном содержании вагнеровских партитур). На сцене не было ни богов, ни героев, ни Вальгаллы. Вместо Рейна, вздымающегося могучими волнами, работала в клубящихся парах гигантская машина, выбрасывающая "человеческие отходы". Основная идея генерального плана постановки сводилась к созданию фантастического образа сотворения мира, способного произвести глубокое впечатление на современного зрителя. В этой связи Шеро считал необходимым разработать совершенно новую машинерию, которая должна была стать составной частью всего представления. Иными словами, речь шла о создании сложной и крупной по размерам сценической архитектуры и пластики, разнообразных и натуральных иллюзионных эффектов, фокусов и трюков с использованием пиротехники в том числе. При этом Шеро ставил задачу провести единую и четкую содержательную линию постановки. Здесь он исходил из необходимости отказаться от привычной оперной декорации, символически изображающей природу. Шеро отказывается и от образа покорной приглаженной фактуры традиционных постановок Вагнера. В его спектакле природа несет в себе некую изначальную дикость и мятежность. Шеро требовалось, чтобы на сцене были Вавилонские башни, которые люди осмелились построить. Шеро было необходимо, чтобы гномы действительно являлись гномами, великаны — великанами, а не певцами, вставшими на котурны. Это означало необходимость в многочисленных опытах с применением трюков, тех театральных трюков, которые придают музыке зритель25 ную четкость и, с другой стороны, не мешают и не ограничивают сценическое воплощение и ясность повествования. Новое качество сценической выразительности заключалось в поиске композиционных решений, способствующих созданию образов с неожиданной пространственной амплитудой. Определяя для себя главную идею постановки как идею механизмов власти современного государства, Шеро делает центральной фигурой спектакля верховного бога Вотана. В трактовке Шеро Вотан — отец, которого ищут на земле его заброшенные дети, — скатав свои божественные знания в рулон бумаги, становится бесцельно слоняющимся бродягой. Жестокий отец, он зажигает огненное кольцо вокруг Брунгильды, чтобы помешать ей познать мужчину. Он убивает Зигмунда и создает Зигфрида, даруя ему свободу, но затем отнимая ее. Зигфрид выступает в спектакле как орудие Вотана, видя свой долг в слепом исполнении его воли. Поэтому он становится предвестником катастрофы. Дочери Рейна нищенствуют, выпрашивая милостыню. Фрикка устраивает склочные скандалы. Прекрасная Фрейя служит предметом надувательства, и продают ее не за золото Рейна, а за огромный целлофановый пакет, набитый кусками поролона. В этом мире, источающем пошлость, единственным супергероем оказывается нибелунг Альберих, который, зажав биржевой портфель, полз по ступеням карьерной лестницы к чертогам Валгаллы. Лестница заменила радугу, ведущую в божественный чертог. Однако Валгалла оказывалась фикцией, вместо богов здесь восседали безразличные ко всему муляжи. Идолы развенчивались, последние иллюзии уничтожались. Мир погибал, потому что не верил ни во что, потому что нуждался в знании, потому что жизнь предстала бессмысленной и бесцельной. Весь образный строй спектакля — это смешение мифологии и политики, то есть перевод известных мифологических тем и идей на язык современной цивилизации, где боги — не волшебники, но, скорее, фокусники. Одна из главных тем в творчестве Шеро — противопоставление природы и цивилизации — здесь конкретизируется в пол26 ной мере в антитезе "природа — архитектура". Так, опера "Золото Рейна" начинается не с картин первоначального хаоса, но, напротив, с голых конструкций, уже победивших природу: обжиты человеком вершины гор, в земле прорыты шахты и т.д. Иначе говоря, для Шеро хаос, его подлинное воплощение — не в природе, а в современной цивилизации. Внесение же в мир смысла и порядка невозможно, если разрушать, уничтожать природу. В "Валькирии" наступает природа, конструкции взрываются, в финале же — настоящий апокалипсис, символом которого выступают валькирии, мятущиеся по кладбищу и собирающие трупы героев. В "Зигфриде" на первый взгляд наступает полное торжество природного царства, однако это лишь оптический обман: за ветвями и стволами деревьев просматриваются гигантские технологические конструкции. В "Гибели богов" на сцене уже только цивилизация: толпы людей в одежде, которая указывает на то, что это фабричные рабочие и докеры. В спектакле Шеро нет привычной жесткой фиксированности мифологических образов. Они, напротив, полны неопределенности, туманны. Когда кто-то из персонажей появляется на сцене в крайне вычурном и необычном платье, по выражению самого Шеро, наряженный "черт знает во что", уже одним своим видом он как бы говорит зрителю: я не из вас, я из другого мира. И потому даже самые страшные, натуральные вещи, происходящие по ходу спектакля, уже не могут никого по-настоящему испугать. В этом и есть замысел Шеро: он не хочет, не стремится к созданию подлинных эмоций зрителей. Ему, напротив, нужно другое: трезвость мысли для адекватного понимания происходящего на сцене. Тем неожиданнее выглядят и, соответственно, фиксируют на себе внимание некоторые персонажи, одетые в современные костюмы. Это прежде всего Вотан, который в трактовке Шеро ультрасовременен во всем. Финал спектакля, последние сцены "Гибели богов" — это торжество хаоса. Мир, который уничтожал, развенчивал человека — сам развенчивался и уничтожался. Правда, Шеро оставляет и проблеск надежды. Этот хаос не обязательно должен означать конец мира вообще. Ведь это только мир Зигфрида и Брунгиль27 ды. Он-то действительно заслуживает того, чтобы кончиться. Но, вероятно, останется наш мир — надежный мир живых людей, а не вымышленных персонажей. Многозначна у Шеро финальная точка тетралогии — хористы, эти наблюдатели и комментаторы действия, медленно обходят кратер в центре сцены, в котором исчезает фантасмагорический мир, и застывают, вопрошающе глядя в зрительный зал. Ярчайшей стороной этой постановки опер Вагнера, что отмечали все специалисты, и принимавшие, и отвергавшие спектакль Шеро, явилось превосходное драматическое исполнение ролей. Это то, что, по признанию Шеро, доставило ему наибольшие муки в процессе работы, но и соответственно принесло ему наибольшее удовлетворение. Перед режиссером стоял вопрос: петь играя или играть и петь. Шеро предпочел второе, но, впрочем, для него, как для режиссера драмы, видимо, и не было другого выбора. Хотя певцы старательно следовали на репетициях указаниям режиссера, ему казалось, что искомый результат не будет достигнут никогда. В какой-то момент он решил, что надо, что называется, "натаскивать" оперных актеров, заставить их затвердить и механически повторить то, что он им стремился показать. Однако сразу обнаружившаяся фальшь и "деревянность" поведения актеров заставили его отказаться от этого метода. Постепенно актеры прониклись спектаклем, его воздухом, почувствовали все нюансы, ощутили его трагедию и юмор. Разумеется, Шеро предложил каждому исполнителю рисунок роли, но просил ни в коем случае не консервировать уже однажды найденное и свободно импровизировать. Результат превзошел его ожидания. И зрители, и критики отдали должное певцам, которые сыграли свои роли на уровне первоклассных драматических актеров. И все же, несмотря на многие бесспорные достижения Шеро, эта его постановка вызвала споры. Пресса откликнулась на спектакль дружно, но и оказалась весьма не единодушной в своих оценках. Разумеется, никто не отрицал, что "Кольцо Нибелунга" Шеро стало очень ярким явлением на театральном небосклоне. Применительно к спектаклю критические статьи пестрели эпитетами "знаменитый", "нашумевший", "грандиозный" применительно к режиссеру — "бесконечно талантливый", "замечатель28 ный", "доказавший свой международный класс" и т.д. и т.п. Но, тем не менее, спектакль вызвал и резкую критику. Может быть, тем более резкую, потому что талантливость режиссуры высветила те тенденции многих современных интерпретаций известных оперных сочинений, которые сами по себе далеко не бесспорны. Эти тенденции связаны с попытками механического наложения актуальных проблем, острых современных тем на образную систему классических произведений. Предпринятая Шеро модернизация вступила в противоречие с вагнеровской музыкой, ее романтическим звучанием, и, в конечном счете, был нарушен баланс в соотношении программной содержательности и выразительных средств. Демифологизация, модернистская ломка стиля Вагнера привели постановку к абсурду. Итак, режиссер, доказавший свой "международный класс", все же далеко не в полной мере доказал — и зрителям, знатокам, и ценителям опер Вагнера, и специалистам — художественную значимость избранного им в этой постановке направления. Результат видимо закономерен, если учесть, что режиссер сознательно отказался от национальных традиций — фольклорных, изобразительных, музыкальных. И погрешил в создании эффекта ради эффекта не только в изобразительных приемах, но и в самой трактовке, тетралогии, трактовке, ориентированной на интеллектуальную моду. 29 Е. А. Артемьева РУССКИЕ АМЕРИКАНЦЫ Около двадцати лет назад Олег Табаков ставил в Америке спектакль "Крыша" по пьесе Александра Галина. В период репетиций его попросили провести несколько мастер-классов для актеров, не занятых в постановке, но интересующихся русской театральной школой, системой Станиславского. В то время, как известно, творческие обмены, уроки актерского мастерства, гастроли в Америке были практически невозможны. И Табаков являлся чуть ли не единственным российским актером, которому позволяли ставить и преподавать на Западе. А для американцев увидеть и услышать из первых уст о Московском Художественном театре, о легендарной русской театральной школе, прикоснуться к чему-то экзотическому было столь заманчивым, что количество заранее объявленных лекций пришлось увеличить вдвое, потом добавить еще и еще, а интересующихся не становилось меньше. Причем не только начинающих актеров, но и признанных звезд было замечено немало: Джек Николсон, Аль Пачино, Дастин Хофман и др. В аудиторию набивалось невероятное количество молодежи, и она, как завороженная, следила за Табаковым. Он, в отличие от других талантливых актеров, умеет и любит рассказывать студентам о таинствах своей профессии. Делает это ярко, заразительно, отдавая много душевного тепла, сил, энергии. У него вообще есть поразительная способность увлекать, вести за собой, объединять. Наверное, поэтому все последующие творческие планы Табакова в Америке уже заранее предусматривали возможность проведения уроков по актерскому мастерству, независимо от того, приезжал ли он на постановку очередного спектакля или был председателем жюри какого-то престижного фестиваля. Для американцев это нормально — постоянно учиться 30 в воскресных школах, летних классах, на всевозможных курсах. И в двадцать пять, и в тридцать пять, и в пятьдесят — независимо от того, повышаешь ли ты свою квалификацию или вообще меняешь профессию. Поэтому у Табакова родилась идея создания постоянной летней театральной школы в Америке. И она успешно развивалась в течение нескольких лет. А в 1993 году университет Карнеги-Меллон (г. Питтсбург, штат Пенсильвания) предложил создать совместную со Школой-студией МХАТ аспирантуру. В известные театральные журналы дали рекламу, и Табаков сам объездил множество городов, прослушивая и отбирая желающих получить актерское образование на основе русской школы актерского мастерства. Несмотря на то, что образование в Америке платное, принимали далеко не всех желающих. Табаков настаивал на довольно тщательном отборе, так как имел уже печальный опыт работы с кредитоспособными, но, мягко говоря, малоодаренными для сцены людьми. И вот когда группу все-таки набрали, слушатели с головой погрузились в постижение специальных дисциплин: мастерство актера, сценическое движение, вокал, танец — все это преподавали педагоги Школы-судии МХАТ, а технику речи — американцы. Обучение проходило в США, потом все приезжали на три месяца в Москву и в конце учебы показывали две пьесы: американскую в постановке их режиссера, и русскую — нашего. Играли на английском языке. В разные годы американцы играли в Москве "Три сестры" А. Чехова, "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского (реж. О. Табаков), "Ночлежку" ("На дне" А. Горького), "Носороги" Э. Ионеско (реж.Р. Козак), "Тени" Е. Шварца, которую поставил А. Марин, один из учеников Табакова, неоднократно приезжавший в летнюю школу, перешедший в режиссуру и успешно работающий сейчас в Канаде. Позже Табаков привлек к преподаванию и других своих учеников. Ему важна преемственность, атмосфера студийности, чувство локтя. Если поначалу развитие этих творческих отношений было хоть и активным, но не очень массовым, то довольно быстро положение стало меняться. Все больше молодых ребят стремилось в Москву, в Школу-студию МХАТ. Они видели, что им рады, чувствовали особую сердечность, внимание, теплоту, отзывчивость и, наверное, самое главное, ощущали себя причастными к 31 некоей "тайне", так как для них понятия "русская театральная школа" и "русская душа" были одинаково загадочными и вместе с тем реально осязаемыми. Так вот, если поначалу американские студенты воспринимали занятия в русской летней драматической школе как дополнение к своему американскому театральному образованию, то в последствии группа молодых актеров захотела пройти обучение в Школе-студии с самого начала — с первого по четвертый курс. Со всеми творческими дисциплинами, лекциями и общеобразовательными занятиями. Опыта такого никогда в России не было. Никогда не набирался полностью иностранный курс с преподаванием на английском языке. Табаков рискнул. Многие сомневались, что из этой затеи что-то получится. Ведь американцы действительно иные. У них другие вкусы, привычки, традиции, менталитет. Нам всем тогда казалось, что американцы достаточно закрыты и эмоционально сдержанны. Они не любят открывать душу и говорить о своих проблемах. Когда Табакова в одном из интервью спросили, что он думает по поводу западной театральной педагогики, он, в частности, заметил: "Я преподавал во многих странах. Наше учение в театральной педагогике — наиболее совершенное из того, что есть сегодня в мире. Случайно ли гениальный русский актер Михаил Чехов учил и Марлона Брандо, и Мэрилин Монро? Звезды, которых мы вспоминаем как легенды, нанимали русских актеров, которые жили в свое время в Америке, чтоб получить основы той сложной науки, которая называется системой Станиславского. А в чем несовершенство западной системы образования? Наверное, в том, что у них просто нет этой системы". Программа первого курса в Школе-студии МХАТ строится в основном на том, чтобы попытаться пробиться к каждому студенту, к самой его душевной сути, попытаться убрать все внешнее, наносное, поверхностное. Помочь научиться видеть, слышать, наблюдать, общаться, трудиться, быть естественным, вернуться к себе. Вся театральная педагогика, по сути, и есть путь к себе. Одна из известных учениц Станиславского, замечательная актриса Ольга Пыжова сказала: "Заниматься искусством театра — значит вместе думать о жизни". И сам Константин Сергеевич часто повторял, что воспитание актера и воспитание лично32 сти является единым процессом, а также основой художественности вообще и условием коллективного творчества. Репетируя роль с педагогом или просто делая этюд, ученик, студент неизбежно вынужден решать важные жизненные проблемы, каждый раз находить ответ, определяя, что нравственно, а что безнравственно. Серьезный уровень мастерства предполагает способность заглянуть в глубины своей души и души своего персонажа. Познание живого человека со всеми противоречиями, сложностями, слабостями, болью является основой русской культуры. Есть примеры, когда педагог оказывал влияние, изменял, например, легкомысленного, развязного студента, давая ему роль, требующую сильного характера, благородства, сочувствия, такта. В Школе-студии МХАТ до сих пор существует понятие "студийность", понятие "студийного" и "нестудийного" человека. Студийно все то, что способствует созданию благоприятной атмосферы для дружной работы и радостного творчества. "Нестудийно" то, что эту атмосферу разрушает. Каждый ученик должен соблюдать ряд правил, которые создавались и поддерживались десятилетиями: вежливость в обращении, умениие достойно вести себя во время репетиций, уважение к старшим и своим коллегам, непременное поддержание чистоты и порядка в стенах Школы-студии. А если кто-то не в состоянии преодолеть в себе грубость, лень, разгильдяйство, того просто отчисляют из Школы. Американский курс был все-таки набран, но адаптация проходила очень и очень непросто! Их было пятнадцать человек. Совсем непохожих. Из разных городов Америки. Одна из важных задач первого курса — из разношерстной группы студентов собрать команду, группу единомышленников. До тех пор, пока коллектива нет — работа по-настоящему не развивается. Немало сил уходит на то, чтобы объединить ребят, помочь им стать курсом. Американцы особенно отличаются тем, что в учебе, в работе они страшные индивидуалисты, каждый только за себя. Но при том невероятном ритме, который существует в театральном вузе с первого курса, при том количестве заданий, упражнений, этюдов, отрывков — в одиночку просто не выжить. Обычно этот год бывает самым драматичным за весь период. В той или иной степени каждому приходится ломать себя. Но постепенно ребята стали получать радость и удовольствие от занятий. Сами объявляли 33 бойкот лентяям, тем, кто опаздывает или пропускает репетиции. Они стали понимать, что сильны только как команда. Тем более их мало, и неявка даже одного человека ставила под угрозу срыва целую работу. Они неистово занимались танцем, сценическим движением, вокалом и, конечно же, актерским мастерством. В них уже тогда угадывалась невероятная работоспособность, одержимость. Ни кафедра, ни студенты других курсов ничего особенного не ждали от этих ребят. Многие относились к американцам как к странному эксперименту, хотя существование их рядом само по себе воспринималось как событие. Но на экзамене они по очереди стали выходить на площадку, показывать животных, делать этюды, выполнять упражнения под названием "Цирк", заражая всех вокруг волнением, радостной атмосферой, вызывая сочувствие и понимание. Это было здорово! Стало ясно, что на наших глазах рождается что-то настоящее. Ребята были настолько живыми, органичными, обаятельными! Они работали легко и слаженно, радостно и самоотверженно. Это было поразительно! Может быть, это не совсем уместное сравнение, но американцы были убедительнее, целесообразнее многих наших студентов-первокурсников. Наверное, только тогда многим стало ясно, что этот изначально рискованный эксперимент превращается в интересный опыт, обогащающий и американцев, и нас. В самом начале мы спрашивали ребят: "Вы-то сами чего ждете от русской школы, чего хотите, на что надеетесь?" Они толком и объяснить ничего не могли, и только уже потом, гораздо позже, когда учеба шла полным ходом, они формулировали: "Если поначалу с осторожностью воспринимаешь все новое, что тебя окружает, эту другую жизнь, то очень скоро просто влюбляешься во все это так, что невозможно оторваться. Здесь совершенно другое отношение к актерской профессии. Здесь все по-другому. Репетируешь с утра до вечера, особенно перед показом. Но может, поэтому и результат получается иной. Учеба в Школе-студии освобождает, дает ощущение полета. Иногда ловишь себя на том, что уже думать начинаешь по-русски! И если даже не репетируешь, а просто идешь куда-то, с кем-то встречаешься, гуляешь, что-то смотришь, то понимаешь, что это тоже часть профессии. Невозможно думать о роли только три часа в сутки, по расписанию... И отношения с ребятами, с педагогами 34 становятся очень близкими, родными. Чувствуешь, что у тебя появился еще один дом". В начале второго курса к основной группе ребят (трое из которых не смогли продолжить образование) примкнуло еще шесть новичков. За их плечами тоже была летняя театральная школа МХАТ. Их стало восемнадцать. По составу это уже был полноценный курс. Любая классическая пьеса распределялась среди ребят без проблем. Весь второй год был посвящен самостоятельным отрывкам — было четыре показа и работа с педагогами. В первом семестре была выбрана зарубежная классика — Т. Уайлдер, А. Миллер, Т. Уильямс, Б. Шоу, Э. Олби, а во втором русская классика — Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов. Некоторые работы рассматривались как дипломные спектакли, и к концу семестра стало ясно, что это абсолютно оправдано. Настолько интересные и неожиданные получились работы. Много внимания уделялось А. П. Чехову. Ребята учились чувствовать, понимать автора, его особую атмосферу. В. Набоков так говорил о творчестве Чехова: "Чехов писал печальные книги для веселых людей; я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-настоящему ощутить их печаль. Мир для него смешон и печален одновременно, но, не заметив его забавности, вы не поймете его печали, потому что они нераздельны". Для более подробной работы решили остановиться на чеховских водевилях: "Предложение", "Медведь" и "Юбилей". Водевиль — это особый жанр. Чеховский водевиль тем более. Учились анализировать произведения, определять идею, предлагаемые обстоятельства, цели и задачи персонажей. Не разгадав, не поняв эти чеховские одноактные пьесы, наверное, невозможно до конца понять и "Вишневый сад" — комедию в четырех действиях, и "Чайку" — тоже комедию и т.д. Водевили Чехова дают нам ключ ко всей его драматургии: "Помни, — как бы говорил читателю Чехов, — сатирические персонажи близко от нас, ближе, чем кажется, они среди нас, в нас самих"1. В современном театральном репертуаре водевиль можно встретить крайне редко. Он остался, главным образом, как упражнение в театральных училищах. Конечно, это замечательная школа актерского мастерства — развивает свободу, смелость, легкость. Работа над водевилем развивает комедийный темпера35 мент студента, его умение оправдывать самые необычные положения. Водевильное самочувствие придает актеру заразительность в достижении своей цели и готовность найти самые необыкновенные способы для выхода из любого положения. Главное в нем — беспрерывное течение действия, круговорот событий. Начало работы над водевилем не отличается от начала репетиций пьесы другого жанра. А момент обсуждения, споров, определения, для чего и почему сегодня стоит играть этот водевиль, пожалуй, самый важный. "Драматических героев от водевильных не отделяет ни богатство, ни положение в обществе, ни дурные или хорошие манеры, ничто, кроме постоянного душевного усилия. Стоит усилию ослабнуть, как герой переходит на сторону водевильной среды и поглощается ею"2. Во время подробного разбора текста мы с американскими студентами прежде всего пытались найти некие точки соприкосновения, узнаваемость этих чеховских персонажей в нашем сегодняшнем дне, в нас самих. Возможно, самая большая трудность в работе и заключалась в том, чтобы убедить ребят, выходящих на площадку, делающих первые этюды, — идти от себя. Вначале они пытались защищаться от любых неудобств, сложностей. Закрывались, старались смешить, прятались за выученный наизусть текст, какие-то невероятные костюмы, но потом почувствовали, что скользят по поверхности произведения, не затрагивая его суть. В водевиле "Предложение" герой приходит просить руки соседской барышни, но они говорят о чем угодно — об урожае, о лужках, о гончих собаках, — но только не о любви! Они ссорятся, кричат, падают в обморок, пьют капли... но ни один из них даже не пытается увидеть, услышать другого. С одной стороны, отчаянная потребность, жажда любви, с другой — ужасающая внутренняя пустота. "А ведь именно на любви проверяется чеховский герой... Пробуждение человеческого в человеке у Чехова начинается с любви"3. В письме к брату в январе 1889 года А. П. Чехов писал: "Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать... Лучше не любить, чем любить деспотической любовью... Меня маленького так мало ласкали..." 36 И вот когда читаешь эти строчки с американцами, они как-то понимающе затихают. У них меняются глаза. Ребята выходят на площадку и уже не стараются кого-то изображать. Ведь у каждого из них глубоко внутри есть такая же потребность в понимании, любви, уважении. У каждого есть свои тайны, свои драмы. И ребята учатся, намечая характеры, действуя в предлагаемых обстоятельствах пьесы, находить за авторским текстом что-то очень личное, конкретное, свое. Это дает им возможность вместе с обучением профессии открывать в своей душе какие-то новые грани. Надо сказать, что инерция восприятия — фантастически сильная вещь. Мы очень не хотим верить в то, что многое в мире происходит не так, как нам это представляется. Эти ребята, этот американский курс, на протяжении четырех лет разрушали стереотипы прежде всего в самих себе, в своих представлениях о мире, о театре, о людях. За время учебы их нагрузка была так велика, напряжение столь сильно, отрезок времени так короток, а изменения в них были такими ошеломляющими, что дипломные спектакли, которые шли на сцене МХАТ и Школы-студии, поразили своей глубиной, профессиональностью, добротой, азартом. Такое количество людей, понимающих английский язык или не знающих его вовсе, стремилось увидеть этот курс, раскупая билеты на месяц вперед, что можно смело сказать, что и для нас это явилось огромным событием, разрушающим стереотипы и штампы в отношении американцев. Их фантастическая работоспособность восхищает, их теплота, душевность бесконечно трогают. Очень хочется верить, что у этой истории будет продолжение... И что не только красота способна спасти мир, но и театр — как наиболее эффективная форма общения между людьми. Как писал Питер Брук по поводу созданной им международной труппы: "Цель нашего центра очень проста — открыть те двери, которые закрыты, способствовать такому взаимному проникновению культур, которое раньше было невозможным. И это желание как свидетельство общности наших стремлений к большей открытости, к более глубокому узнаванию друг друга. Силы мы можем черпать, только взаимодействуя. Мы должны помогать друг другу"4. 1 2 Паперный З. Записные книжки Чехова. М., 1976. С. 287. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. М., 1979. С. 55. 37 3 4 Паперный З. Записные книжки Чехова. С. 87. Брук Б. Пустое пространство. Секретов нет. М., 2003. С. 296. 38 А. Л. Дубровская ЗАМЕТКИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА Театр — это любовь. Роли и спектакли можно создавать только любя людей и те произведения, над которыми работаешь. Жан-Луи Барро В 2001 году художественный руководитель курса, на котором я работала, профессор М. А. Пантелеева совершенно неожиданно предложила мне вместе с актером Театра им. Е. Б. Вахтангова, доцентом института, заслуженным артистом В. Н. Ковалем поставить на ее курсе дипломный спектакль — "Три мушкетера" А. Дюма в инсценировке М. Розовского. Дипломный спектакль — какое счастье! И именно "Три мушкетера" — произведение, любимое с детства, в котором сошлись и моя любовь к истории Франции, и лихо закрученный сюжет, и очень яркая форма плюс юмор. "Три мушкетера" моя первая фундаментальная педагогическая работа (до того я делала только отрывки). "Три мушкетера" кладезь образов, да к тому же инсценировка М. Розовского прекрасно разошлась на весь (почти весь) курс М. А. Пантелеевой, курс, на котором я работала с набора и на котором — я уж это знаю наверняка — блестящий мужской состав и девочки-красотки! А еще М. А. Пантелеева хотела, чтобы этот спектакль был обязательно музыкальным. Достаю в Консерватории клавир М. Дунаевского, музыку к известному фильму кинорежиссера Г. Э. Юнгвальда-Хилькевича. Эти песни, звучащие на каждом концерте, из каждого радиоприемника, кажутся мне избитыми. Очень настороженно прошу концертмейстера "почитать" клавир. Но музыка песен, которую играл мне концертмейстер в пустой гулкой аудитории, заворожила, 39 к тому же в клавире есть песни, номера, не вошедшие в фильм, но явно хорошо характеризующие персонажи, а значит, нужные нам для спектакля. Да, именно с этой музыкой мы работали... Итак, большая педагогическая работа, спектакль, заняты 22 студента. Первая мысль: о чем ставить будущий спектакль? Конечно, о настоящей дружбе, понятии, почти утерянном сегодня, о взаимопомощи, о взаимопонимании людей. Нет сегодняшнего педалирования интереса к деньгам, нет меркантильной любви, нет "подворотни и братков". Красивые девушки и мужественные юноши. Первая встреча со студентами, распределение ролей. Мы с В. Н. Ковалем волновались страшно. Ребята заинтересованы, но говорят, что перечитали роман Дюма, и он (роман) показался им скучноватым, затянутым. Они не очень верят, что из него можно сделать зрелищный спектакль, да к тому же их пугает количество "клишированных" образов. Например, д’Артаньян: в сознании студентов в начале репетиционной работы д’Артаньян — это герой-любовник, красавец, высокий, статный, перед его красотой не может устоять ни одна дама, короче говоря, д’Артаньян им видится взрослым мужчиной с большим опытом личной жизни, чем-то средним между А. Делоном и М. Боярским. А исполнитель роли д’Артаньяна у нас Дима Высоцкий — невысокий, угловатый, щуплый, очень юный, по амплуа совсем не герой-любовник, а яркий характерный артист. Значит, и надо д’Артаньяна делать эдаким задиристым петухом, мальчишкой с твердыми жизненными принципами, крепко-накрепко внушенными ему отцом и религией. Ведь К. С. Станиславский учил, что образ рождается только тогда, когда делаешь материал роли "от себя", а идти от себя к образу — значит вначале идти "к себе" и в каждом поступке своего персонажа, в обстоятельствах роли искать себя. Причем "себя" не уставшего, скучного или равнодушного, а себя — интересного, а значит, мягкого или веселого, нежного или задорного, храброго или ловкого, как того потребует роль. "Научившись действовать "от себя", установите, какая разница между вашими действиями и действиями героя пьесы, и действуйте, уже не размышляя, где кончаются ваши действия, а где начинаются его действия. И те, и другие соединяются сами по себе, если до этого вы проделали весь путь, который я вам указываю... Итог: верное самочувствие на сцене, действие и чувства 40 приведут вас к органической жизни на сцене в образе действующего лица. Этим путем вы наиболее близко подойдете к тому, что мы зовем "перевоплощением". Но при том условии, конечно, если вы верно поняли пьесу, идею ее, сюжет, интригу и воспитали в себе характер действующего лица"1. Вооружившись таким авторитетным советом, вновь открываю роман, читаю портрет д’Артаньяна у А. Дюма: "Молодой человек... представьте себе Дон Кихота в восемнадцать лет, Дон Кихота без доспехов, без лат и набедренников..." Вот это то, что надо нашему Диме Высоцкому — Дон Кихот восемнадцати лет, Дон Кихот, умеющий до конца сражаться за справедливость, за правду! Мне кажется, да нет, я просто уверена в своей правоте, но Дима сопротивляется, репетирует немножко "нахрапом", спешит к сценическому образу такого рубахи-парня, для которого нет преград, а женщины — и даже любимая Констанция Бонасье — всего лишь небольшой зпизод в кипучей приключенческой жизни. Короче, у нас с Димой получается некий Джеймс Бонд, агент 007. Но это же не д’Артаньян! "Дима, — прошу я, — не надо сразу давать оценку всем поступкам д’Артаньяна. Надо в процессе репетиций, в процессе совершения поступков персонажем постепенно искать, какой он, твой д’Артаньян". Дима, кажется, внутренне со мной не очень согласен, но вынужден кивать головой. Сама в этот момент как педагог понимаю, что Дима — очень одаренный студент — стремится как можно скорее миновать самое основное в работе — процесс. Он весь горит от нетерпения поскорее начать прогонять готовые сцены, а мне-то нужно, чтобы он попробовал в себе, как в актере, открыть новые качества, а для этого необходима кропотливая долгая работа и даже, если можно так сказать, жесткий график, режим, режим следования системе Станиславского, жесткий график соблюдения методики подхода к образу, пропагандируемый нашей школой, школой, основанной на соблюдении заветов Станиславского, дополненных и переработанных Вахтанговым. Мне как педагогу надо "озаботить" Диму (впрочем, и всех остальных студентов тоже) несколькими вопросами. Какое физическое самочувствие у д’Артаньяна? Вместе мы приходим к выводу, что д’Артаньян очень легкий, он почти "летает" по сцене, он чрезвычайно быстрый, а вовсе не агрессивный, 41 и побеждает он во всех фехтовальных поединках именно в силу своей легкости и быстроты. Какие у него отношения с Констанцией Бонасье? Дима согласен со мной, что его герой по-настоящему любит Констанцию, но проблема заключается в том, что студентка, играющая Констанцию Бонасье, Аня Ходюш, вызывает у него совершенно противоположные чувства, она ему несимпатична... Боже мой, как же мне это преодолеть? Нет, во время репетиций они оба четко говорят любовный текст, выполняют мизансцены с объятиями и поцелуем, но сцена не получается, нет их актерского включения, веры в происходящее на сцене. Понимаю, что Дима недоволен партнершей, с этим чувством надо срочно бороться, а то он будет обращаться не к живой Ане, а к своей выдумке. К. С. Станиславский от этого предостерегал: "Какая мука играть с актерами, которые смотрят на вас, а видят какого-то другого и применяются к нему, а не к вам! Такие партнеры отделены стеной от тех, с кем они должны были бы общаться непосредственно; они не принимают ни реплик, ни интонаций, никаких приемов общения"2. А тут еще не просто партнерша, а возлюбленная. Известно, что самое трудное на сцене — играть любовь, здесь любая неискренность, малейшая фальшь может погубить всю сцену. Знаю, что любовь выражается заинтересованностью, прошу, умоляю Аню и Диму внимательно поискать друг в друге такие черточки, которые могут заставить их улыбнуться, а может быть, даже и засмеяться. Трудно, долго, но в конце концов, кажется, я их примиряю друг с другом, их сцена перестает быть "мертвой", и к выпуску спектакля ребята нормально общаются друг с другом. (Я очень горжусь этой своей победой в области воспитания.) Еще один вопрос: каков темперамент д’Артаньяна? То есть как д’Артаньян реагирует и оценивает разные обстоятельства своей роли? Дима согласен со мной, что темперамент у д’Артаньяна взрывной, но далеко не всегда прямолинейный. И не мелкий, а крупный. Еще раз обращаемся к примеру Дон Кихота: его борьба с мельницами — это борьба с неискренностью и подлостью всего мира. У д’Артаньяна также цели и задачи масштабны — спасение королевы Франции Анны Австрийской во имя благополучия и процветания страны и совсем чуть-чуть для того, чтобы заслужить благосклонность Констанции. Все, что лежит в мел42 кой, бытовой плоскости, д’Артаньяну неинтересно. Масштаб Дон Кихота помогает Диме максимально увеличить свою и без того большую энергию в роли. Немаловажное значение в создании образа имеет костюм, организация жизни "человеческого тела", от которой в прямой зависимости находятся и некоторые действия персонажа. Разумеется, костюм должен быть историческим (Франция XVII века), но нам с Димой надо не разрушить тяжелым камзолом образ д’Артаньяна-юнца, не очень уверенного в себе мальчика, который, по определению Дюма, от внутренней неуверенности в себе "каждую улыбку воспринимал как оскорбление, а каждый взгляд — как вызов". Находим верное решение: белая рубашка, не сковывающая движений, подчеркивающая телосложение Димы, сверху грубый кожаный жакет светло-коричневого цвета, такие же кожаные брюки, ботфорты, разумеется, рапира. Костюм направил Диму на очень верную походку д’Артаньяна: немного вразвалочку, расставив ноги, во время сцен с друзьями — Портосом, Арамисом, Атосом; и чуть-чуть вприпрыжку, как упругий мячик, во всех сценах с недругами, особенно с кардиналом Ришелье, в фехтовальных поединках и в сценах с Констанцией. У К. С. Станиславского читаю: "...У живого организма роли есть и внешний образ, тело, которое надо воплотить в гриме, в типичном для роли голосе, в манерах говорить и интонировать, то есть в речи, в типической походке, в манерах, в движениях, в жестах, в действиях"3. Иными словами, мало актеру понимать масштаб и суть образа, но актеру необходимо найти точное внешнее поведение образа, его сценический рисунок. Как мне кажется, в результате наших репетиций Димин сценический рисунок роли д’Артаньяна был, как минимум, убедительным. Его д’Артаньян стал стержнем нашего спектакля. В нем сочетались юмор и трогательность, максимализм юности и мужская логика поступков его героя. Дима Высоцкий, студент курса профессора М. А. Пантелеевой, за роль д’Артаньяна в дипломном спектакле "Три мушкетера" был награжден театральной премией имени К. С. Станиславского за лучшую мужскую роль сезона. А сегодня Дима — артист Театра на Таганке, занятый почти во всем репертуаре театра. Значительно сложнее мне было с поиском пластического, сценического рисунка роли у другого студента — Антона Ку43 кушкина (ныне очень перспективного актера Академического театра сатиры), исполнителя роли де Тревиля. В идеале верная суть образа в творчестве должна рождать верную форму поведения актера на сцене. Но это в идеале! Иногда даже очень верное содержание само по себе не рождает единственно правильную форму, а актеру необходимо отыскать эту единственную правильную форму, которая наладит связь между сутью вещей, содержанием образа и его пластическим решением, его сценическим рисунком. Так вот, Антон никак не мог схватить манеру своего персонажа, резкие перепады характера де Тревиля, иначе говоря, мы с ним не могли найти верную характерность образа, Антон наигрывал, я злилась на свою беспомощность. У Дюма де Тревиль ненамного старше мушкетеров (если мушкетерам немного за двадцать, то де Тревилю — немного за тридцать). Оказалось, что такой возраст — 35-37 лет — двадцатилетнему студенту "найти" очень сложно. У К. С. Станиславского: "...Я признаю, что все актеры должны быть характерными, — конечно, не в смысле внешней, а внутренней характерности. Но и внешне пусть актер почаще уходит от себя"4. Антон хочет, пробует "уйти от себя", но его де Тревиль получается стариком. "Явный" возраст, большая разница в летах легче "берется" молодым актером. Первое время у нас на репетициях де Тревиль — мушкетер в почтенной старости, с замедленным ритмом существования, большими, длинными паузами, тяжелым телом; даже первые усы, которые Антон нашел, свисали вниз, а не топорщились кверху, как мне бы этого хотелось. А нужно 35 лет — де Тревиль такой же взрывной и быстрый, как д’Артаньян, но мудрее, опытнее, он общается немного сверху вниз со своими подчиненными — мушкетерами, не в силу возраста, а в силу опыта, и д’Артаньян ему напоминает его самого не лицом, а повадками, удалью, быстротой принятия решений, искренностью. Антон сопротивлялся моим мотивировкам, как мог: после каждой реплики партнера он делал громадные паузы. Так, в первом своем эпизоде — встрече-знакомстве с д’Артаньяном — Антон в каждую реплику как будто бы "въезжает", перебарывая себя. Из-за этих пауз сцена теряла динамику, а Антон — органику. В свое оправдание студент говорил мне, что боится наиграть, что он страшится фальши, неправды на сцене. Подобная "осторожность" 44 была причиной того, что сам Антон оставался зажатым, громко кричал реплики, так, что однажды даже сорвал себе голос. Справиться с этой проблемой ему помогла музыка: в конце эпизода знакомства де Тревиль и д’Артаньян поют дуэтом. Антон—де Тревиль запел: Рука твоя тверда, вот верная черта Гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда Париж узнал гасконца де Тревиля. Ребята, сидящие на репетиции в зале, затихли, у Антона появились живые глаза. Не знаю, помогли ли ему чудесные стихи Ю. Е. Ряшенцева, его точные метафоры, или дивная музыка М. И. Дунаевского, или вполне профессиональное пение партнера (надо сказать, что у Димы—д’Артаньяна очень хорошая музыкальная подготовка, а Антон до поступления в институт музыкой не занимался и не пел), или все эти факторы вместе плюс наши мучительные разговоры, поиски характерности на репетициях, но вдруг, совершенно неожиданно не только для меня, но и для самого себя, в тех нескольких музыкальных фразах, которые он даже не пел, а скорее произносил, стал "прорезываться" де Тревиль: почувствовалась крепкая мушкетерская рука, появилось верное, чуть "поверх" отношение к д’Артаньяну, ноги стали крепкими, в голосе послышались нотки грубоватого опытного вояки. А главное: Антону самому стало интересно. Вспоминаю когда-то поразившую меня своей точностью реплику Ж.-Л. Барро из его "Размышлений о театре": "Актер подобен жокею, он должен "оседлать" образ"5. Конечно же, самое трудное в мастерстве актера — стать таким удачливым "жокеем" и научиться "оседлывать" образ. Я считаю, что Антону удалось в де Тревиле оседлать свою лошадь, его де Тревиль стал живым человеком, с горящими глазами, хорошим темпераментом и внятной судьбой. Артем Гареев — кардинал Ришелье — антипод д’Артаньяна и де Тревиля, представитель "враждебного" лагеря, отрицательный персонаж. Артем вроде бы вначале загорелся ролью, ему нравился образ Ришелье, он прочитал романтическую драму В. Гюго "Марион Делорм", рассказывающую о Ришелье; Артем хорошо рассуждает об образе: да, Ришелье — первый министр 45 Франции в 1624—1642 гг., да, эти годы — годы его абсолютной власти, король беспрекословно слушается кардинала... Кардинал Ришелье, — продолжает рассуждать Артем на репетиции, — умен и циничен; например, до нас дошли мысли Ришелье о народе. "Народ, — писал Ришелье, а зачитывал нам Артем, — следует сравнить с мулом, который, привыкнув к тяжести, портится от продолжительного отдыха больше, чем от работы". Эти слова своего героя Артем соотносил с выражениями некоторых сегодняшних политиков. Я очень радовалась тому, как Артем подробно, скрупулезно, тщательно относится к работе над ролью, но, как только мы "встали на ноги", оказалось, что мыслит Артем правильно и рассуждает интересно, но только из его суждений и рассуждений, как говорится, "каши не сваришь". Артем не "видит" своего Ришелье как живого человека, он для него остается историческим персонажем, он его "не присваивает"... От репетиции к репетиции, неделя за неделей, месяц за месяцем у нас ничего с Артемом не происходило, по сцене ходил по-прежнему не Ришелье, кардинал Франции, а студент Артем, и звучал со сцены совершенно пустой, временами очень напыщенный, временами слишком "заумный" текст. В таких случаях, я знаю, М. А. Пантелеева, человек с колоссальным опытом работы в училище, говорит: "Не спеши, не гонись за результатом, потерпи. Артем долго копит, не может быть, чтобы его работа не прорвалась..." Как-то раз на нашей очередной "разговорной" репетиции Артем пожаловался, что не может найти прототип Ришелье, не может угадать черты его живого лица. Он, конечно же, знает, что литературный персонаж иногда живет рядом, что его можно встретить где угодно — и в магазине, и в метро, и на улице, и в институте, но пока Артем его нигде не может "найти"*. * Здесь мне хотелось бы немного пояснить, как можно "увидеть", "встретить" своего героя. В Театральном институте имени Б. В. Щукина в начале третьего семестра есть специальный раздел, помогающий студентам найти, нащупать путь к образу; называется этот раздел "наблюдения". Смысл наблюдений состоит в том, что все внимание студентов направлено на внешние сиюминутные проявления жизни. На улицах Москвы, в метро, в маршрутном такси, в гостях, — где бы будущий актер ни находился, он должен уметь видеть, запоминать, "фотографировать" проявления жизни, и тогда его взгляд приобретет необходимую актеру цепкость, четкость видения; тело студента, его мышцы смо- 46 Артем очень хорошо "показался" в экзамене второго курса "Наблюдения", а вот сейчас с Ришелье "завис"... Как-то во время чуть ли не последних прогонов к нам зашел заведующий кафедрой мастерства актера профессор А. Г. Буров. Он начал требовать от Артема большей яркости красок, а не только тихих рассуждений. И если в реплике Ришелье "власть должна принадлежать сильным и старым людям. Вы знаете, по данным королевского лекаря, человек в наш, XVII век, живет в среднем 35-38 лет. Мне уже 36. Я — глубокий старик. И я знаю, что такое жизнь!" Артем может говорить достаточно тихо и сдержанно, то где-то надо выявить его подлинный темперамент, гнев. А. Г. Буров вышел на сцену и начал произносить реплику Ришелье: "Вы — убийца де Жюссака, моего гвардейца", — здесь Буров перешел на крик, — "моего любимца", — и вновь сдержанно, — "одного из лучших фехтовальщиков!.." Артем оторопел, задумался. "Можешь наиграть, не бойся, все лишнее потом уберешь, надо вскрыть темперамент Ришелье", — учил Артема А. Г. Буров. Артем вышел на сцену, точно скопировал заведующего кафедрой, и как будто у него внутри повернули какую-то ручку, открыли шлюз, подняли задвижку, он начал не литературно, а вполне конкретно понимать роль: все поступки Ришелье, его соперничество с Бекингемом из-за французской королевы Анны Австрийской, его подтрунивания над королем Людовиком XIII, его шахматный поединок с д’Артаньяном... Артем подсознательно начал "лепить" своего Ришелье с А. Г. Бурова. Проснулась в Артеме и природа юмора, Артем даже смог от имени своего персонажа придумать анекдот, органично вошедший в текст его роли, из спектакля в спектакль принимающийся на "ура" зрителями (кардинал Ришелье, завидующий мушкетерам, де Тревилю и их непосредственному "начальнику" Людовику XIII, рассказывает королю Франции последний дворцовый анекдот: однажды мушкетер приходит к себе домой и видит у себя дома голого гвардейца, в шляпе. "Ты что тут делаешь, каналья? — гут запомнить пластику, а потом сохранить рисунок увиденного, а его сознание будет нацелено на творческий отбор жизненных впечатлений. Главная задача этого раздела — суметь перевести пассивное, ограниченное личным опытом студенческое ожидание открытий на активное изучение не своей, а чужой, другой природы. И эту другую природу надо будет оправдать, то есть в чужом найти свое, найденное присвоить, добиться своей органики. 47 спрашивает мушкетер. — Действительно, каналья, — отвечает гвардеец, — купил себе за тысячу луидоров шляпу-невидимку"). Сейчас Артем — один из ведущих актеров Русской драмы в Таллинне, увлекается театральной педагогикой, у него своя театральная студия при общеобразовательной школе. Игорь Голяк — Людовик XIII — студент, долгое время считавшийся далеко не однозначным, с довольно-таки трудными сценическими данными. Вначале мы предложили ему роль мужа Констанции, господина Бонасье, но как-то очень сопротивлялась психофизика Игоря, его актерская индивидуальность. Игорь более изнеженный, балованный, эти качества ему помешали бы в роли Бонасье, но должны ему помочь в работе над Людовиком XIII. К тому же сам Игорь попросил попробовать его на роль короля. Ну что же, самое основное у нас уже есть — студент хочет, он заражен происходящим, ему интересно, он испытывает радость от репетиций, приносит все новые и новые предложения. А радость, как учил Вахтангов, — это естественное чувство творящего человека и основное творческое самочувствие актера. Работать с Игорем было легко. Его Людовик получился немного напыщенным и глуповатым, то есть именно таким, каким его описал А. Дюма. Проявился очень хороший юмор у студента, который позволил ему жить легко в спектакле, хотя его персонажу — королю Франции — было совсем невесело и непросто. Но наступил такой момент в работе, когда студент, не нарушая сценических интересов персонажа, живя ими по-настоящему, проявляя большую энергию в борьбе со своими недругами, внутренне способен смеяться. В результате все уходы Игоря—Людовика XIII со сцены сопровождались аплодисментами. Игорь заразился самим репетиционным процессом, поступил на режиссерский факультет РАТИ. Валечка Кузнецова — аббатиса монастыря. Валя — очень одаренная студентка. Своей работой в спектакле она подтвердила тезис Станиславского, развитый и разработанный Вахтанговым: если действия актера направлены к определенной цели, "подлинны, продуктивны и целесообразны", то при каждом их повторении в процессе репетиции актер будет творить импровизационно. То есть Валины искренность и непосредственность, полная вера в предлагаемые обстоятельства так ее раскрепостили, что она могла каждый раз чуть иначе, чем во время прошлой репетиции, ве48 сти себя на сцене, при этом ни на йоту не нарушая уже сложившийся рисунок, у нее получился "подвижный" образ настоятельницы монастыря. Станиславский отмечал, что образы на сцене должны быть так же подвижны, как в жизни: "Остановить движения образов жизни, принять образы выполненные нельзя, как нельзя остановить движения воздуха или морской волны, — это надо помнить и знать, что в каждую репетицию, в каждый спектакль будет прилив все новых и новых комбинаций случайностей"6. А аббатиса у Валентины стала воплощением женственности — она хитра, но в то же время простодушна, любопытна до чрезвычайности, падка на дворцовые сплетни. Ей интересна последняя мода и все, все, все, что во все века интересует женщин любых сословий. Я попыталась показать всеми вышеприведенными примерами, с какими трудностями мне, молодому педагогу, приходилось сталкиваться в работе со студентами над образами; как я поняла, что создание образа — это цепь последовательных этапов. И невозможно один этап заменить другим, невозможно пропустить какой-либо этап или перескочить через него. Но каждый раз путь к образу нужно искать заново, исходя из индивидуальных особенностей конкретного студента. Работа с этими студентами помогла мне практически понять многие положения театральной педагогики. Но я была совершенно неправа, думая, что теперь у меня есть рецепты на все случаи поисков образов со студентами... 2003 год. На курсе доцента Г. П. Сазоновой я (теперь уже самостоятельно) делала дипломный спектакль "Золушка" по пьесе Е. Шварца. Курс студентов из Южной Кореи. Ребята очень плохо говорят по-русски, переводчика нет. Их всего пятеро, но мне разрешено пригласить еще нескольких корейских студентов с других курсов. (В Театральном институте им. Б. Щукина учатся студенты из Южной Кореи как по полной, четырехлетней программе, так и те, кто уже три года учились в Сеуле, в школе им. К. С. Станиславского, где преподают наши выпускники, а к нам приехали еще на два года повысить свою профессиональную подготовку). Так вот, основной костяк будущего спектакля — курс Г. П. Сазоновой, у нас они проучились год, успели, что называется, "вспомнить" школу, сдали упражнения на "память физических действий", этюды с импровизированным текстом, 49 наблюдения, этюды к образу по пьесе А. Чехова "Дядя Ваня". Последний экзамен сдали очень хорошо, им даже было предложено кафедрой продолжить заявленную работу и довести ее до спектакля, но сами студенты отказались, мотивируя это тем, что они приехали к нам всего на два года и не хотели бы полтора года из двух заниматься "одним и тем же". Им хочется чего-то более яркого! Ничего себе задача! Мы с Галиной Петровной расстроены, потом она произносит, размышляя: "Может быть, сказку?" Хорошая идея! На этом курсе есть студентка Чон Ми Хен — настоящая Золушка, очень работоспособная и трогательная девочка, она, что называется, "попадает" в литературный материал. Конечно, за литературную основу надо брать пьесу Шварца. На короля и принца исполнители есть, есть и самая "злобная" сестра — Марианна, но нет Мачехи, и ни одна из корейских студенток других курсов мне не подходит: нет в них стержня, женской силы и актерской смелости. Исторически кореянки не могут, права не имеют повышать голос на мужчину, конфликтовать с мужчиной, мужчине надо подчиняться. Нет, студентки согласны, что у Е. Шварца Мачеха оправданно спорит с супругом, но им всем ближе Фея — добрая красавица, в крайнем случае — сестра Анна (если уж необходимо ругаться, повышать голос и даже драться, то пусть уж лучше с девушкой — это они могут понять и оправдать). Что же делать с Мачехой? Вместе с художественным руководителем курса принимаем решение: назначить на роль Мачехи юношу — студента Ли Су Хун. Надо отдать ему должное — он стоически перенес такое решение педагогов. Для меня же это было необычайно ново: помочь найти студенту — мужчине женскую пластику, оправдать все поступки женского персонажа с точки зрения мужчины. А что творилось на репетиции, когда Сун Хун первый раз надел костюм! Хохот стоял гомерический! Мы решили, что наша Мачеха будет невысокой, но очень полной брюнеткой с ярким макияжем, большой грудью, небольшими усиками. Ходит она на крепких устойчивых каблуках, руки — в перстнях, на груди — монисто, на голове — пышная шевелюра. А надо сказать, что наш Сун Хун — субтильный, скромный, носит очки, немного сутулится... Безусловно, роль Сун Хуну сделали грим и костюм. Чарли Чаплин так описывал свое создание образа бродяги Чарли: "Оде50 ваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешней характерностью, но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ... Стоило мне надеть "его" костюм, и я чувствовал, что это настоящий живой человек. Он внушал мне самые неожиданные идеи, которые приходили мне в голову только тогда, когда я был в костюме и гриме бродяги"7. Мне кажется, что со студентом Ли Сун Хуном происходило практически такое же превращение — в костюме, на каблуках, в шикарном черном парике, он начинал импровизировать, появлялись новые краски и находки, его пышная грудь дышала, а его пластика приобретала некие округлые формы, свойственые женщине. Но самым дорогим для меня стал момент выпуска спектакля, когда на заседании кафедры народный артист СССР, профессор В. А. Этуш, прекрасно знающий всех студентов нашего института, спросил меня: "А кто эта студентка, так замечательно работающая Мачеху?" В записной тетради Е. Б. Вахтангов заметил, что в сущности, актер должен был бы только разобрать и усвоить текст вместе с партнерами и идти на сцену творить образ. Это в идеале. Но актер непременно дожен быть импровизатором. Это и есть талант. Значит, студент Ли Сун Хун — просто очень талантлив?.. Со студенткой Чон Ми Хен, исполнительницей заглавной роли, у меня были сложности иного рода. Она прекрасно репетировала те эпизоды роли, где Золушка — забитая девочка, работящая, терпеливо переносящая издевательства сестер и мачехи. Ми Хен верно реагировала на все "тычки и зуботычины" своей родни, верно утешала и оберегала своего отца-дровосека. Даже казавшийся мне очень трудным эпизод встречи с крестной— Феей Ми Хен проводила убедительно, но как только Золушка— Ми Хен надевала красивое платье и хрустальные башмачки и должна была по сюжету превратиться в прекрасную принцессу, так магия театра улетучивалась. По сцене ходила угловатая, неубедительная, зажатая студентка с застывшей дежурной улыбкой на лице, напоминающем скорее маску. Вообще-то корейским студентам свойственно работать на результат, на показ эмоций: например, удивление — это поднять "бровки домиком", огорчение — опустить голову вниз и т.д. 51 Узнаю, что прообразом корейского профессионального театра был театр масок Таль Чум, являющийся самым распространенным видом народного творчества. Происхождение Таль Чум исчисляется от V века нашей эры, и до сегодняшнего дня Таль Чум неизменен как по форме, так и по содержанию. Танцы в масках, объединившие воедино танец, песню, устное повествование, элементы шаманских обрядов очень популярны в Корее до сих пор. Маски для Таль Чум делались из бумаги, дерева или тыквы, костюмы актеров подчеркивали индивидуальность каждого персонажа, будь то аристократ, монах или простолюдин, мужчина или женщина. Зритель в Корее заранее знает, как правильно реагировать на ту или иную маску. И, если можно так выразиться, генетически студентам из Южной Кореи кажется, что для успешной работы над образом достаточно выбрать нужную маску и надеть определенный костюм, и роль готова. У корейских студентов существует стандартная мимика, характеризующая ту или иную ситуацию, и педагогу стоит огромных трудов переубедить студента, что в театре европейском, и особенно в русском, нельзя выходить на сцену, используя маску; необходимо актерское и человеческое, живое включение в материал и оправданный в каждый сценический момент процесс работы над образом. Пытаюсь донести до студентов смысл слов Н. В. Гоголя: "Умный актер, прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие внешние особенности доставшегося ему лица, должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли... должен рассмотреть главную преимущественную заботу каждого лица, на которую издерживается его жизнь, которая составляет постоянный предмет мыслей, вечный гвоздь, сидящий в голове. Поймавши эту главную заботу выведенного лица, актер должен в такой силе исполниться ею сам, чтобы мысли и стремления взятого им лица как бы усвоились ему самому и пребывали бы в голове его неотлучно во все время представления пьесы"8. Только овладев логикой поведения действующего лица пьесы, опираясь на с в о й жизненный опыт, на с в о и знания, на с в о и ошибки, победы и поражения, призвав на помощь с в о ю творческую фантазию, студент может добиться появления образа. Те проблемы, о которых я попыталась рассказать, известны каждому театральному педагогу, многие проблемы мне еще 52 предстоит решать с другими студентами, которые придут учиться к нам завтра. Но и по этим двум педагогическим работам я поняла, что в театральной школе не надо ставить глобальную задачу научить студента играть. Школа должна подготовить почву для будущего творчества, которое заключается в умении перерождаться... Дипломные спектакли в школе нужны для процесса воспитания будущего актера. Ведь работа над образом не заканчивается сдачей спектакля кафедре мастерства актера, работа над проращиванием "зерна" образа продолжается и на спектаклях. Только при зрителях учеба становится театром, а студент — актером. Основная педагогическая задача — раскрыть индивидуальность ученика и воспитать в студенте способность к самостоятельному творчеству. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1957. Т.4. С. 334. Там же. С. 173. 3 Там же. С. 184. 4 Там же. С. 168. 5 Барро Ж.-Л. Размышления о театре. Париж, 1959. 6 Станиславский К. С. Записная книжка за 1914 г. // Музей МХАТ, архив К.С., № 788, л.44. 7 Чаплин Чарльз. Моя биография. М., 1966. С.142. 8 Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М.,1949. Т. 4. С. 269. 1 2 53 А. М. Бруссер ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ К РАЗНЫМ КАТЕГОРИЯМ СЛУШАТЕЛЕЙ Современная социально-экономическая и культурно-образовательная ситуация явно выявила потребность в развитии речевого образования. Такие понятия, как культура речи, эталон произношения, речевая манера и т.п. сегодня звучат почти архаично. Однако в настоящее время значительно расширился круг людей, для которых правильная выразительная речь стала необходимым элементом их профессиональной деятельности. Это — актеры, теле- и радиожурналисты, педагоги, публичные политики, юристы, менеджеры и другие. Ниже будут рассмотрены основные категории: студенты театральных вузов, аспиранты кафедр сценической речи, теле- и радиожурналисты и другие обучающиеся. При этом речь должна способствовать решению профессиональных задач, стоящих перед каждой из перечисленных групп. Например, перед студентами театрального вуза — будущими актерами стоит задача научиться говорить так, чтобы их речь была слышной, внятной, понятной и соответствовала принятым нормам современного произношения, чтобы овладеть речевой характерностью и освоить приемы художественного чтения. Эти навыки являются неотъемлемой частью творчества актера, которым он обучается в течение четырех лет на предмете "Сценическая речь". Этот предмет является одной из основных профилирующих дисциплин театрального образования, тесным образом связанной с предметом "Мастерство актера". Профессиональные задачи других категорий могут отличаться от студенческих. Например, бесстрастное изложение информации (ведущий "Новостей"), убеждение в правоте своих взгля54 дов (политики), умелое ведение дискуссии (ведущие ток-шоу), погружение слушателей в излагаемую проблему (лекторы, экскурсоводы). Многие годы профессиональное речевое воспитание существовало в основном в театральном образовании. Существующие методики преподавания техники речи, как правило, направлены на повышение речевого уровня студентов — будущих актеров и достаточно подробно разработаны. Каждая театральная школа имеет свою методику обучения, которая базируется на основополагающих теоретических, методических исследованиях и практических разработках в области сценической речи. Каждая конкретная методика находит свое отражение в учебной программе и учебно-методических пособиях, которые рекомендованы кафедрами сценической речи разных театральных школ. Методику обучения сценической речи в Театральном институте им. Бориса Щукина в дальнейшем мы будем называть базовой. Цель обучения студентов — развитие и усовершенствование природных речевых возможностей будущих актеров. Задача курса — приобретение профессиональных навыков по всем разделам предмета. В программе Театрального института имени Бориса Щукина предусмотрены основные разделы: "Дикция", "Дыхание и голос", "Орфоэпия", "Логика речи", "Стихосложение" и "Художественное чтение". Методика обучения студентов, разработанная в Театральном институте имени Бориса Щукина, нашла отражение в учебной программе по предмету "Сценическая речь"1. Она предусматривает определенную последовательность освоения разделов курса, тесно связанную с последовательностью обучения на кафедре "Мастерство актера". Например, первый семестр работы по сценической речи посвящен подготовке речевого аппарата к звучанию (разделы "Дикция", "Дыхание и голос", "Орфоэпия"), которое необходимо студентам на мастерстве актера во втором семестре. Начиная с третьего семестра, вводятся разделы: характерность речи и логика речи, которые необходимы студентам в работе над этюдами по 55 созданию образа и педагогическими отрывками (третий и четвертый семестры). Определение целей и задач каждой из возможных категорий обучающихся должно корректировать и конкретизировать базовую методику обучения. В нашей педагогической практике разработаны методические пособия по технике речи, адаптированные к разным категориям, таким как студенты2, магистранты, стажеры и аспиранты3, теле- и радиожурналисты4, а также люди, для которых речь является частью их профессионального имиджа. Будущие педагоги по сценической речи имеют, как правило, актерское образование, затем, пройдя специализацию (созерцательная стажировка, аспирантура), начинают заниматься педагогической деятельностью. Сегодня значительно увеличилась потребность в высококвалифицированных специалистах в области речи. Многие университеты и институты открывают кафедры "Культуры и техники речи", такие компании, как "Билайн" и "Shwarzkopf", хотят обучать своих менеджеров и продавцов-консультантов, руководители крупных предприятий, политики и бизнесмены обращаются к педагогам-речевикам за индивидуальной помощью. Учитывая вышесказанное, хочется отметить, что социальная значимость и недостаточная теоретическая разработка выявляет остро стоящую проблему формирования и профессионального воспитания будущих педагогов по технике речи. На наш взгляд, необходимо выработать приоритетное отношение к данной проблеме, создав теоретическую и методическую базу обучения. Методика обучения аспирантов по кафедре "Сценическая речь" должна опираться на базовую методику и при адаптации учитывать цель обучения данной категории слушателей. Будущий педагог должен не только сам владеть всеми техническими нюансами предмета, но и освоить его методическую и методологическую базу, определить педагогический и психологический смысл своей дальнейшей профессиональной деятельности. Главный принцип разработанной нами методики заключается в определении задач, решение которых должно привести к основной цели обучения — созданию педагогической индивидуальности. 56 Если задача студента состоит в том, чтобы овладеть определенными профессиональными навыками, то задача педагога — научить студента это сделать. Для этого необходимо научиться соединять теоретические, методические, профессиональные и педагогические навыки. Сравним задачи, стоящие при обучении студентов и будущих педагогов (раздел "Дикция"). Задача студента делится на три этапа: — найти верное звучание; — отработать его в упражнениях и специально подобранных текстах; — автоматизировать закрепленный навык в бытовой и профессиональной речи. Задачи педагога можно определить следующим образом: — определить дикционную ошибку; — установить верное звучание; — проконтролировать его в упражнениях и специально подобранных текстах; — контролировать автоматизацию навыков на занятиях по сценической речи и мастерству актера. Для выполнения поставленных задач нами сформулированы следующие методические рекомендации. Для примера возьмем дикционную ошибку — смешение звуков "Л" и "Р". После того, как установлены и проверены звуки, сделаны упражнения и даны общеизвестные скороговорки, предлагается: 1. Придумать и предложить свой вариант упражнений. Например, произнесите специально подобранные слова, следя за тем, чтобы не происходило смешение звуков "Р" и "Л": рама — лама ром — лом враль — ларь кружит — Луша криво — лира рампа — лампа роль — лор крик — лик крошка — ложка ружья — лужа 57 крен — лень крона — лоно рвань — лань рев — лов ряса — лясы Рим — налим рей — лей руки — из лука и др. 2. Придумать и предложить студентам предложения, составленные из этих слов. Например: Сделал криво струны лиры. Через раму видно ламу. И на рампе свет от лампы. Можно предложить молодым педагогам еще один путь индивидуального подхода к постижению методики. Для этого разделим дикционные ошибки на две группы. Одна группа — неверное произношение отдельных звуков (эта ошибка связана только со звучанием). Другая группа — неверное произношение сочетаний согласных звуков (эта ошибка часто бывает связана с написанием). Известно, что в русском языке существуют правила написания слов с одинарным или двойным согласным. Предлагается, используя специальные пособия по русскому языку, выписать и предложить студентам для прочтения следующие слова: с одинарным звуком: калибр лаоска директриса дилетант петуния сабантуй сумочка (сумка) отаптывать подержанный пыльный рыбный мавританский канатный с двойным звуком: каравелла лаосский баронесса дрожжевой оттаивать спиннинг суммочка (сумма) оттаптывать поддержанный равнинный рулонный одесский караванный и др. 58 Упражнение состоит в том, что студент должен произнести предложенные слова, распознавая, где нужно устный вариант соединить с письменным. Далее предлагается найти слова, в которых произнесение одинарного или двойного согласного может изменить смысл сказанного. Например: воз — ввоз ведение — введение валиться — ввалиться вернуться — ввернуть водный — вводный волок — вволок водить — вводить век — ввек воз и ныне там ввоз багажа запрещен ведение дела введение в специальность валиться с ног ввалиться в дверь вернуть книгу ввернуть лампочку водный стадион вводный курс волок по дороге вволок в квартиру водить по кругу вводить в круг век прошедший ввек не забуду и др. Следующим этапом могут быть специально составленные предложения. Например: 1. Добрый джинн любит хороший джин. 2. На полу были разбросаны конфеты и конфетти. 3. Странница перевернула страницу и продолжала читать. 4. Он обивал оббитый диван. 5. Дорогая поделка оказалась подделкой. 6. Не забудь ввернуть лампочку и вернуть книгу. 7. Поданы документы подданной Великобритании. 8. Из манки варят манную кашу. 9. У финна в руках была финка. 10. Из-за сора вышла ссора. 11. Баронесса договорилась со стюардессой, что директриса заменит актрису. 12. Миссионер на мессе объяснил свою миссию. 13. Артиллерия поддержала кавалерию. 59 14. У женщин в экспрессии происходят депрессии. 15. Одесситы любят Одиссея, Отелло и Одетту. 16. Ссора способствовала получению ссуды. 17. В хобби хиппи входит хоккей в холле. Уже многие годы телевидение является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В советское время речь диктора была эталоном. Невозможно было представить себе человека, звучащего в эфире, с дикционными и орфоэпическими недостатками. Ведущие и дикторы подвергались жесткому отбору, проходили специальную подготовку, вырабатывали профессиональные речевые навыки. В результате оставались те, кто по всем параметрам соответствовали принятым в то время нормам. Сегодня критерии речевого отбора работников ТВ резко снизились. Увеличилось количество программ, а соответственно, и ведущих. Появились авторские проекты, ток-шоу, множество рекламных, туристических, музыкальных программ. Возникло кабельное ТВ и частные каналы. Все это повлекло за собой полную речевую анархию, которую мы слышим с экрана ТВ. Известно, что много лет в Москве плодотворно работает Институт повышения квалификации работников ТВ и РВ. Его педагоги обучают студентов из всех регионов нашей страны. К сожалению, это учебное заведение не может справиться с огромным потоком журналистов, начинающих свою телевизионную карьеру. Наша практика работы с тележурналистами телеканала REN TV дает возможность сформулировать некоторые проблемы обучения: Недостаточное базовое речевое образование. Общий уровень речи в СМИ, снижающий критерий оценки. Жесткий график работы. Отсутствие редакторского и педагогического контроля. Обучение и повышение квалификации работников радио и телевидения, для которых речь является одним из важных элементов их профессиональной деятельности, основано на изучении базовых разделов: дикция, дыхание и голос, орфоэпия и логика речи. Большое значение имеет наличие или отсутствие базового курса обучения. В разобранном нами методическом пособии 60 по логике речи для теле- и радиожурналистов проведен анализ текстов, звучащих в эфире на канале REN TV, с учетом их неполного базового речевого образования. Цель обучения — создание творческой индивидуальности теле-радиожурналиста. Одна из важнейших задач — используя дикционную, орфоэпическую и смысловую точность, донести до слушателя мысль, заложенную в тексте. При подготовке текста к озвучиванию можно рекомендовать следующую методику: Прочитать текст про себя. Расставить логические паузы, проверить, все ли знаки препинания им соответствуют, ненужные знаки препинания зачеркнуть. Отметить ударением или повышением голоса слова, важные по смыслу. Отметить вводные слова и вводные части речи понижением голоса или увеличением темпа (на письме они обозначаются скобками). Прочитать текст без голоса, используя активную артикуляцию, следя за дыханием. Делать "доборы" воздуха в момент логической паузы. Медленно прочитать текст вслух, учитывая, что зритель впервые получает данную информацию, применив интонацию "рассказывания". Отметить сложные для произнесения звукосочетания и слова. Если возможно, заменить трудные для произношения слова синонимами, либо отработать их звучание. Прочитать весь текст, обращая внимание на внятность и четкость произношения. Прочитать текст, проверяя хронометраж. На наш взгляд, обучение и повышение квалификации работников ТВ и РВ требует дополнительных теоретических, методических и практических разработок. С возникновением новых направлений социальной активности бизнес-сообщества распространение получают такие профессии, как менеджер, продавец-консультант, представитель рекламного бизнеса, креативный директор и др. Все они, наравне с публичными политиками, юристами, учителями и экскурсовода61 ми, часто нуждаются в повышении общей культуры речи и составляют четвертую категорию слушателей. Как правило, человек, желающий улучшить свою речь, обращается к педагогам театральных вузов, так как общеизвестно, что в театральном образовании существует обязательный, профессионально-профилирующий предмет "Сценическая речь". Цель обучения слушателей этой категории — привести в соответствие профессиональный и речевой уровень. Задачи каждого слушателя должны быть определены в индивидуальном порядке. Особенностью этой категории является: — отсутствие, как правило, базового речевого образования; — произнесение (прочтение) нефиксированного текста; — разнообразие тематики выступлений при наличии специальной терминологии. Следует отметить, что представители данной категории слушателей не всегда могут адекватно оценить свои речевые проблемы. Для разработки индивидуальных планов занятий предлагается: — ученику записать на диктофон и прослушать любой художественный или публицистический текст и выявить свои речевые проблемы; — повторно вместе с педагогом прослушать записанный текст и сопоставить два мнения; — принять решение о необходимости занятий. Так, например, публичный политик хочет исправить дикцию. При прослушивании записи педагог может выявить и другие речевые недостатки, например, присутствие говора или отсутствие логической выразительности. Дальнейшие занятия должны проходить по согласованному плану, включающему один или несколько разделов техники речи. Слушатели данной категории, как правило, делятся на две группы. Представители первой из них хотят заниматься лишь одним разделом предмета, который, на их взгляд, доставляет наибольшее количество речевых неудобств или нареканий. На примере раздела "Дикция" автор предлагает следующие варианты индивидуального подхода. 62 Слушатель А. имеет проблемы, связанные с произнесением шипящих звуков. После первого этапа работы по нахождению верного звучания специально для него можно сделать подборку слов. Например: "вш" [фш] протрезвевший заледеневший неудавшийся полинявший поразивший выявивший проявившийся отяжелевший унижавший вставший оставшийся удивившийся "вж" в жизни в жару взять в жены дорога в жизнь вживую в жидкости в жбан вживлять вживить вжаться вжиться в желтом и др. Слушатель В. имеет проблемы с губными звуками "В" и "Ф", у него вялые губы. Предлагается составить для него другой вариант слов и словосочетаний. Например: основывать освидетельствовать утрамбовывать задействовать завоевывать укомплектовывать растолковывать задействовать расшнуровывать усовершенствовать аналогового правового государства из налогового кодекса для нового платья у кривого зеркала здорового образа жизни торгового центра от правого плеча у талантливого певца для выносливого спортсмена и т.д. Далее предлагается использовать предложения, скороговорки и тексты, составленные для студентов, а также составлять специальные тексты с учетом индивидуальных ошибок. Представители второй группы данной категории слушателей согласны с необходимостью комплексного подхода к освоению предмета "Техника речи". Для работы с ними автор предлагает следующие методические рекомендации. 63 Необходимо учитывать, что каждый обучаемый имеет свою профессиональную терминологию, которой ежедневно пользуется. Поэтому во время подготовки к занятию педагог должен подбирать или придумывать примеры, упражнения и тексты, которые соответствовали бы профессиональным интересам обучающегося. Еще в конце XIX века Л. Н. Толстой, активно занимаясь педагогической деятельностью, писал: "Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику"5. Если педагог потратит время при подготовке к уроку, использует словарь и найдет нужные ученику слова, вникая в суть его профессиональной деятельности, ученик на уроке сможет воспринять максимум информации. Если же ученик будет выполнять данное ему домашнее задание и на уроке его усилия соединятся с усилиями педагога, эффективность занятий увеличится. Ниже предлагаются возможные варианты узкопрофессиональных текстов, которые могут быть использованы для работы с представителями данной категории. Например, для юриста или адвоката автор предлагает следующую тематическую подборку: — суд вынес решение о недействительности бартерной сделки; — представитель истца получил определение по истечении десятидневного срока на обжалование; — договор не был признан недействительным; — в порядке конституционного, гражданского, хозяйственного, уголовного или административного судопроизводства; — товар был изъят на основании акта проверки документов; — обжалуемое постановление оставлено в силе; — бремя доказывания при рассмотрении спора возлагается на сторону, акт издавшую; — доказательства, подтверждающие несоответствие действительности бартерного договора об уступке прав требования. Для человека, который занимается экономикой, работает на бирже или в банке, предлагается другой вариант текстов: — уровень информирования инвесторов; 64 — комиссия по возобновлению действия лицензий; — развитие сегмента рынка коллективных инвестиций; — стимулирование идентификации, оценки, мониторинга и контроля операционных рисков со стороны профучастников; — потенциал реализации пая весьма ограничен; — держатель опционов пут на фьючерсы на акции "Лукойл"; — заработки на внутридневных спекулятивных операциях; — масштаб серых схем вывоза капитала; — агрегированные данные учитывают уход портфельных инвесторов; — аутсайдерам необходимы денежные вливания. Для менеджера, работающего в мебельном бутике, третий вариант: — сквозной узор спинки широкой скамьи-дивана не препятствует свободной циркуляции воздуха; — характерен геометрический орнамент со стилизованными растительными мотивами; — в итальянской керамической плитке сочетаются каноны древности и авангарда; — лаконичный по форме комод на изогнутых изящных ножках — образец густавианского стиля; — тепло беспрепятственно проходит между дощечками, а белый цвет ограждения гармонирует с зеленью ковра; — контрастные цвета создают веселую, непринужденную атмосферу; — разноцветные стеклянные вазы для свечей защищают пламя от ветра; — искусственный камень получается путем формования и обжига глиняной массы до полного спекания. Чем точнее и полнее будут подобраны тренировочные тексты, тем проще будет учащемуся закреплять полученные на уроках навыки и автоматизировать их в каждодневной речи. После проговаривания и контроля предложенных текстов педагог может задать вопросы, касающиеся незнакомой ему терминологии, с целью вызвать ученика на разговор с использованием профессиональных терминов. 65 Например, что такое судебное определение или фьючерсы? Отвечая на поставленный вопрос, ученик в свободной, импровизированной форме, используя полученные на уроках речевые навыки, пытается оперировать профессиональной лексикой. Часто речевая ошибка может заключаться не только в конкретных дикционных или орфоэпических дефектах, а в неумении логического и структурного построения текста. В таких случаях автор на практике использует методику, основанную на высказывании французского специалиста Э. Легувэ, который еще в конце ХIХ века писал, что научиться говорить можно, только научившись читать6. Мы предлагаем использовать тексты из русской классической литературы, в которых часто можно встретить примеры основных речевых конструкций, таких как противопоставление, перечисление, сравнение, а также смешанные варианты этих конструкций. Например, противопоставление: "И они замолчали: в голубом просвете окна качались их старческие силуэты: купецкий и барский; больной, зеленый, с блистающими на солнце глазами и седенькой бородкой и розовый, бритый, длинноволосый, весь пахнувший одеколоном — два старика: у одного на пыльных руках золотое кольцо с крупным рубином; у другого нет никакого рубина, но руки в черных перчатках; у одного ремнями связанный плед и подушка; у другого плед без ремней и маленький несессер; у одного на лице, простом, иконописном, разврат совершенно высушил губы; у другого бесполое лицо грустно розовое, а сочные губы играют иронией; один высок, угловат, сух и когда на пиджак сменяет свой купецкий черный наряд, то у пиджака торчат надставные плечи; плечи другого округлы, а спина пряма, как у юноши; один — в картузе, другой — в черной шелковой шапочке с наушниками и в дорогой черной блузе; один сед; другой еще сер, хотя и ровесник седому; один — мукомол, мужик; другой — барон, сенатор". И. Бунин сравнение: "Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего 66 ветром, что носится, и мечется, и уманивает сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в Синее Море, — из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы языка живого, сотворенного и, однако же, без устали творящего, больше всего я люблю слово — Воля. Так было в детстве, так и теперь. Это слово — самое дорогое и всеобъемлющее". К. Бальмонт перечисление: "Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище. Хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, никто не поможет: каркает само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!" Н. Гоголь стремительное развитие мысли: "Алексей Александрович, сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собой и ничего не отвечал. Все, что для Степана Аркадьича оказалось так очень просто, тысячу тысяч раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным еще и по другим, еще более важным причинам. 67 Что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью было невозможно. Разведенная мать будет иметь свою незаконную семью, в которой положение пасынка и воспитание его будет, по всей вероятности, дурны. Оставить его с собою? Он знал, что это было бы мщение с его стороны, а он не хотел этого. Но, кроме этого, всего невозможнее казался развод для Алексея Александровича потому, что, согласившись на развод, он этим самым губил Анну". Л. Толстой вариант смешанных конструкций: "Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нас есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контрабаса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!.. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого". М. Лермонтов После прочтения и логического разбора подобных текстов учащемуся дается задание: используя одну из предложенных конструкций, написать свой вариант текста на интересующую его тему. Слушательница Н. (менеджер по продаже недвижимости) по нашему совету использовала данный принцип при подготовке 68 аргументов встрече с потенциальным покупателем загородного дома в поселке Николина гора и написала текст, используя отрывок из рассказа М. Ю. Лермонтова: "Я хочу передать ощущения, которые испытываешь на Николиной горе. Ведь этот поселок был создан в 30-е годы прошлого столетия для представителей научной и культурной интеллигенции Москвы. Этот дом имеет чудное расположение. Вот с этого балкона можно окинуть всю Николину гору с конца в конец. За дорогой, которая ведет к центральной ее части, виднеются спортивные площадки, которым дивятся все приезжие. Чуть дальше, ближе к центру, клуб, который хранит отпечаток другого века, другого мира. Это место не обыкновенный большой, вновь созданный поселок (каких тысяча). Это не безмолвная громада новых коттеджей. Нет! У Николиной горы есть своя душа, своя жизнь. Как на древнем римском кладбище каждый ее камень хранит надпись, начертанную роком, надпись, толпе непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением! У Николиной горы есть своя корневая система, питающая обитателей поселка, и вы, и ваши дети с радостью будут чувствовать это. Если встать с другой стороны дома и посмотреть в сторону реки, в самом отдалении, на краю синего небосклона белеет романтическая Успенская церковь на древнем городском валу, на крутой горе. Мы видим, как просыпается день, как с ее колокольни разливается согласный звон колоколов, подобно какой-нибудь фантастической увертюре, и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод! Ведь это счастье, что вы сможете внимать этой неземной музыке, живя в таком чудесном доме". Этот текст был также прочитан и разобран на уроке. Его художественный уровень в данном случае не имеет значения. На следующем этапе занятий слушательница Н. использовала в своей импровизированной речи на эту тему лишь некоторые слова и строй предложений прописанного текста. В результате это помогло ей облечь свои мысли в убедительную неожиданную 69 форму, что способствовало успешному завершению сделки. Наша практика показывает, что чтение художественных текстов и использование их лексических, стилевых, структурных и других особенностей в индивидуальной устной речи позволяет слушателям в ответственный момент чувствовать себя более уверенно. Этому способствуют пересказ текста, умение сформулировать основную его мысль, возможность проанализировать отличие сюжета от темы и другие устные задания. Упражнения по технике речи наиболее эффективно совмещать с упражнениями по освоению риторики и культуры речи. Далее предлагаются некоторые методические рекомендации, которые могут помочь в индивидуальном обучении представителей среднего и высшего руководящего звена. По обоюдному согласию педагога и ученика выбирается тема предполагаемой дискуссии. По заданию педагога ученик трижды "берет слово". В первый раз — емко, достаточно полно обрисовать круг необходимых вопросов, сопоставить ряд имеющихся мнений, выдвинуть в развернутом виде аргументы в защиту своей точки зрения и сделать вывод. Во второй раз — как можно короче выдвинуть основные тезисы и аргументы и сделать вывод, не потеряв убедительности. В третий раз — постараться найти наиболее эффективную форму своего высказывания. Для этого: — внимательно продумать и убрать ненужные термины, пояснения и лирические отступления; — проверить значимость аргументов; — определить стиль и жанр высказывания. Как правило, после такого упражнения обучающийся начинает задумываться о значении, силе и весе употребляемых им слов. Нельзя забывать о том, что представители данной категории слушателей не имеют актерского образования, а также представления о словесном действии и подтексте. Если же в жизненных ситуациях люди пользуются этим, то, как правило, интуитивно. После небольшого теоретического экскурса по данной теме можно предложить упражнение, состоящее из двух этапов. 70 Этап первый — используя несложную скороговорку, сделать попытку выполнить элементарное словесное действие — обвинить, выразить благодарность, дать указание, предупредить. Этап второй — на возможной импровизированной профессиональной фразе повторить сделанное на первом этапе упражнение. При правильном выполнении задания реакция часто бывает ошеломляющей. Выясняется, что человек и не подозревал, какие варианты подтекста он имеет в своем арсенале. Вообще многие ошибки возникают, а потом входят в привычку лишь только оттого, что человек может не знать правильного варианта или не уметь им пользоваться. Например, самоконтроль может спасти от слов-паразитов за 2-3 дня, а точная работа губ облегчит непомерные голосовые затраты. Каждый новый ученик помогает нам открывать все новые и новые методические и методологические подходы. С одним нужно заниматься расслаблением мышц, другого активными речевыми задачами "лечить" от стеснения. Одному необходимы для снятия говора ритмические упражнения и пение, другому нужно объяснить его логические ошибки, используя диктофон или видеозапись. Но все, и юрист, и политик, и менеджер, при первой же встрече должны почувствовать, что педагог готов заниматься исправлением именно их конкретных недостатков и искать их причину. А также на каждом уроке убедиться в возможности соединения общеречевых и узкопрофессиональных задач. Только в этом случае можно надеяться на эффективное устранение недостатков в речи у представителей данной категории слушателей. Практический опыт занятий со всеми перечисленными выше категориями слушателей подтверждает эффективность адаптирования базовых методик обучения сценической речи студентов театральных вузов к каждой категории слушателей и разработки для них соответствующих методических пособий. Узкая адресная направленность адаптированных учебнометодических пособий, на наш взгляд, может повысить уровень и результативность занятий по технике речи. 71 Учебная программа по предмету "Сценическая речь" / Сост. Бруссер А.М., Оссовская М.П. Утверждена ученым советом института. 2 Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003. 3 Бруссер А.М. Учебно-методическое пособие для ассистентов-стажеров по технике речи (1 и 2 семестры). М., 2002. 4 Бруссер А.М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком. М., 2002. 5 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В т. М., 1936. Т. 2. С.195. 6 Легувэ Э. Чтение как искусство. СПб., 1896. 1 72 Е.В. Романова ТЕКСТОЛОГИЯ СПЕКТАКЛЯ КАК МЕТОД ТЕАТРОВЕДЕНИЯ Текстология как литературоведческая дисциплина исследует произведения письменности средствами лингвистики в целях установления семиотической диахронии: историческое осмысление, критическое прочтение текста и его интерпретация. Применяя текстовый анализ к исследованию спектакля, выясняется, что он состоит из множества знаков, объединяющихся в системы и образующих определенное сообщение. Учитывая, что спектакль как комплексное явление связан с одновременным функционированием ряда семиотических систем1, необходимо определить принципы их существования. Знак и знаковые системы в теории театра, начиная с 20-х годов XX века, были предметом изучения различных исследований и освещались по-разному. Структуралисты Пражского лингвистического кружка (П. Богатырев, Й. Гонзл, Я. Мукаржовский и др.), анализируя театр как знаковую систему, впервые поставили вопрос — что такое знак в театре. Признав театр в качестве знаковой системы, приняв принципы знакового анализа и знакового функционирования, исследователи были вынуждены ставить вопрос о единице анализа, искать минимальную семиологическую единицу сцены — представления, выяснять объем понятия "знак", рассуждать о возможности или невозможности выделения такой единицы в театральном спектакле. Современная лингвистическая философия и вслед за ней все области знания, признающие себя в статусе семиотических систем, выделяют семантику, синтактику и прагматику в качестве основных направлений в изучении жизни знаков. Театральные парафразы концепций Соссюра—Пирса—Морриса (предложенная в качестве классификаторной знаковая сетка включала "ико73 ну", "индекс", "символ", "общий знак", "качественный знак", "единичный знак") отразили сложность процедуры теоретического накладывания философских и лингвистических моделей на практику театра. Первым театральным семиологам, пражским структуралистам не были видны последующие сложности такой операции, их занимало изучение привычных театральных явлений, понятых как знаковые. В сценических предметах обнаруживались свойства, выявленные и определяемые с помощью нового понятия — "знак". Задача второго поколения семиологов (польская школа: Т. Ковзан, И. Славиньска) была сложнее: становился очевидным разрыв между точностью анализа, достигнутого в лингвистике, и неимением собственной единицы анализа для достижения искомой точности в театральной семиологии. Отказ от понятия "театральный язык" в пользу понятия "театральный текст", трудность анализа полисемичного театрального знака, игра смысла, противостояние одних систем значений другим, отсутствие однозначного, универсального и законченного театрального знака — все это указывало на кризис в исследованиях "знака", на кризис субстанциональной семиологии, что и было отражено в работах исследователей в теории театра последнего поколения (А. Юберсфельд, П. Пависа)2. Большинство театральных семиологов указывают на невозможность выведения собственно театрального минимального знака и аргументируют это следующим образом. В лингвистике существует минимальная единица потому, что знак, поддающийся точному анализу, имеет двойное деление на морфемы и фонемы. В театре драматический текст состоит из вербальных и иконических знаков, а последние не поддаются точному анализу, так как не имеют точного деления на фонемы и морфемы. Ельмслев3 постулирует "иконичность" вербального знака, его изначальную "нечистоту" присутствием в нем мускульного напряжения, не включенного в анализ. Одна и та же языковая форма может быть представлена в фонетической записи, в графической субстанции, в языке жестов. Для Ельмслева это разнообразие языковой формы не является причиной для отказа от понятия "языка", в то время как для театральных семиологов (Юберсфельд, например) этот довод оказался решающим для отказа от понятия "язык театра" в пользу понятия "текст театра". 74 Ставя перед собой ту же цель поиска семиотической единицы лингвистики, коммуникации, значения в применении к театральному искусству, итальянские ученые Э. Маркони и А. Роветта попытались ввести в театральную семиотику математический аналитический аппарат. Вопрос: существует ли в сценическом пространстве "что-то", что может быть названо универсальным, был решен таким образом. Различные элементы, которые существуют в сценической игре, и бесконечная вариативность способов, которыми они соединяются, затрудняют ответ на этот вопрос. Различные элементы сценического единства, всегда вариативные и всегда модифицируемые, "всплывают на сцене" в каждое мгновение по-разному расположенными. Слово, звук, свет, сценическая конструкция, кулисы, движения, жесты, мимика — все эти компоненты одновременно представлены и включены в сложный "знак", который постоянно присутствует во всех этих одновременно существующих элементах4. Театр сам по себе не устанавливает раз и навсегда фиксированный код. И, вероятно, не существует собственной минимальной единицы театра как таковой. Но существуют различные типы минимальных единиц, каждая из которых свойственна определенному коду, который используется в данный момент. Временная, темповая механика не способна разрешить проблему бесчисленных уровней, одновременно сворачивающихся в данное мгновение в знак. Восстановленное структурализмом (в исследованиях классификаторного типа) и введенное в семиотику понятие "признак"5 (как свойство, как особенность сценического объекта) проясняет анализ, даже если в процессе работы оно приходит с различными значениями. В свою очередь понятие "признак" было включено в понятие "уровень", предложенное Л. Пизано. Он провел классификацию уровней, на которые был разделен "сценический объект", свел все знаковые уровни к одному — уровню рациональному и ввел в математику заимствованный у арабов "0" как символ нуллификации, в то же время являющийся знаком, который символизирует ничто — ничто, которое является не концепцией, термином или понятием, а эмоцией6. Подключая математический аппарат для достижения большей точности театрального семиотического анализа, Маркони—Роветта столкнулись с тем, что театр, обладая огромным количеством подвижных 75 и изменяющихся структурных элементов, избегает подсчетов и вычислений. Жизнь сцены не сводится к познанию и изучению только лишь знака; существование научной возможности определить минимальную семиотическую единицу сцены остается под вопросом: семиотический инструментарий статичен, в то время как сценическое явление главным образом динамично. И здесь важным является изучение театрального искусства с точки зрения семиологических предпосылок зрительского восприятия. Эти выводы не стали окончательными. Основываясь на классификаторной методологии, наука о знаках поставила следующий вопрос: корректно ли был применен метод классификации в театральном искусстве? Необходимо ли в данном случае обратиться к исследованиям генезиса уровней, которые составляют театральный знак математизированным способом, чтобы иметь возможность более глубоко изучить и понять сущность знака. Вообще же существующие в семиотике представления о знаке в театре можно разделить на две основные концепции. Одна из них ― аналитическая (школа французских семиотиков Р. Барта, А. Юберсфельд и др.). В соответствии с этой концепцией единицей театрального знака является каждый значащий элемент спектакля. Единицу театрального знака можно с этой точки зрения определить как единичный элемент образного материала, обладающий интонационной динамикой. Взаимоотношения отдельных театральных знаков создают на основе контрапункта информационную полифонию, характеризующую театральный язык. Противоположную концепцию можно назвать "интегрирующей". Она рассматривает многослойность театрального знака и оперирует понятием особых серий гомогенных единичных знаков в рамках сложного театрального знака или, как называет их И. Брах, "комплексных знаков". В основном эту концепцию развивали польские семиотики Г. Ковзан, И. Брах, З. Осиньский и др. Обе концепции взаимосвязаны и во многом пересекаются. Однако проблема театрального знака еще не нашла окончательного решения. Как замечает А. Юберсфельд7, принципиальная трудность в анализе театрального знака связана с его "полисемичностью". Театр, как считает Юберсфельд, не является "языком" в строгом смысле этого слова, так как нельзя выделить единицы этого языка и установить строгие правила их объединения, 76 нельзя также однозначно отождествлять ход спектакля с процессом коммуникации. Если текст пьесы можно анализировать при помощи лингвистических и коммуникативных принципов, то спектакль представляет собой совокупность разнообразных знаков, осуществляющих специфический процесс коммуникации актеров (а через них режиссера и автора пьесы) с аудиторией. Среди знаков, составляющих спектакль, выделяют знаки вербальные (поддающиеся лингвистическому анализу) и невербальные. Последние сочетают в себе свойства знаков-индексов и иконических знаков, а иногда и знаков-символов. С точки зрения итальянских исследователей Э. Маркони и А. Роветты, структура и функционирование театра аналогичны структуре естественного языка. Драма (как сценическое представление) — это текст, составленный последовательностью знаков, связанных друг с другом правилами и законами отражения действительности. Таким образом, с точки зрения семиотики, спектакль, включая знаки, принадлежащие разным кодам (текст включает в себя, помимо слов автора, слова читателя и критики), может быть понят полностью только при знании всех этих кодов. Однако именно множественность кодов делает спектакль в основном понятным и тем, кто всеми кодами не владеет. Единственной собственно театральной знаковой системой А. Юберсфельд, например, считает систему соответствий между текстом пьесы и спектаклем. Отношения между текстом и спектаклем мотивируются связью театра с коммуникативными процессами. Юберсфельд рассматривает два основных коммуникативных свойства: театральная иллюзия и театрализация. Эффект иллюзии присущ спектаклям, решенным в натуралистической манере. Происходящее на сцене обладает вполне вещественной реальностью, но реальность эта противоречива: с одной стороны, события на сцене развиваются согласно тем же законам, которые управляют жизнью зрителя вне театра, но с другой ― зритель никак не может повлиять на происходящее на сцене. В этом случае зритель является пассивным наблюдателем. Театрализация представляет собой прием, направленный на то, чтобы зритель все время помнил, что он в театре, смотрел на спектакль со стороны и вместе с тем осмысливал его содержание. Крайним примером реализации Юберсфельд считает ситуацию "театр в театре". Прием театрализации воспри77 нимается зрителем как условный, нереальный по форме, но содержание его часто более правдиво, причем здесь эта правда выражена эксплицитно и воспринимается зрителем активнее и более творчески. При переходе элементов театральности от текста к представлению, сам текст как таковой видоизменяется: приобретает визуализацию и конкретизацию определенных элементов и тем самым создает новый смысл. Вновь созданный зрелищный текст выступает результатом взаимодействия различных знаковых систем. Эти знаки (визуальные и вербальные) вписываются в процессе коммуникации в коммуникант, который они представляют. Таким образом, знаки как информативные единицы образуют семантический план театрального представления. Восприятие зрителем сценического пространства обладает особенностями и не может отождествляться с восприятием картины. Восприятие зрительного, пространственного образа спектакля зависит от множества факторов, начиная от свойств здания театра и кончая личностными характеристиками зрителя и его местоположения в зрительном зале. Зритель воспринимает информацию самую различную и одновременно абстрагируется от личной информации, идущей как со сцены, так и из зрительного зала (правда, не во всех случаях). Но особенно специфично восприятие зрителя, окруженного сценической площадкой. "Постановка и семиологический анализ, ― как считает П. Павис, ― призваны сценически показать образование речи, конструирование и деконструирование драматического текста из-за вмешательства носителей высказывания. Подобная сценическая конкретизация речи особенно заметна в классической драматургии, где обмен репликами... способен явно обнаруживаться, в противовес авангардной литературе, где речь "прямо" проявляется как разорванная на куски: скажем у Брехта текст позволяет проявиться различными типами дискурса и подкрепляющих его жестов персонажа..."8 Однако возможность пользоваться и манипулировать так называемыми театральными кодами (пространственно-сценическими, игровыми и др.) тесно связана с понятием знака, знака театрального. Сложностью и неразработанностью этих понятий в семиотике занимался А. Эльбо, французский семиотик, задавшийся вопросом: существует ли семиотика театра? Этот вопрос вызван разнобоем в истолковании не только центрального понятия 78 "знак", но и понятия "текст". В некоторых работах "знак" и "текст" отождествляются, в других термин "текст" относится (в данном случае, у Эльбо) к литературному тексту, в третьих — "текст" является названием любого продукта культуры. А. Эльбо видит специфичность проблемы в трех основных особенностях театра: постановке, драматургии (в которой действие преобладает над повествованием) и приоритете пространственного над временным. К этому добавляется значение драматической интуиции, особая роль актера и сценографии. Именно поэтому, по его убеждению, анализ должен опираться на типологию знаков, созданную Т. Себооком. Знаки при этом делятся на сигналы, иконические знаки, индексы, символы и названия. Кроме того, в театре особую роль играют стереотипы мышления актера и зрителя, то есть набор означающих элементов, утвержденных традицией и относящихся к определенному означаемому, учитывая, что "чистая" внезнаковая спонтанность в театральной сфере невозможна. Ж. Деррида считает, что очень трудно определить тот момент, когда можно отказаться от понятия знака. Необходимо, чтобы оно выработало весь свой ресурс. А пока можно утверждать, что текст ("сообщение") выступает в качестве целостного объекта, не подлежащего расчленению на отдельные знаки9. Именно такой текст, прежде всего театральный, можно называть знаком. Отождествление терминов "текст" и "знак" придает неопределенность и расплывчатость их содержанию. Иерархически структурный анализ спектакля (музыкального и драматического) опирается на гипотезу, что любой театральный текст представляет иерархически структурный объект, находящий воплощение как в словесных, так и визуальных символах. Текст пьесы организован согласно тем же принципам, что и любой другой текст: он существует совершенно автономно, текст пьесы можно прочесть, как текст любого другого произведения, и в драматургическую триаду "текст — исполнители — публика" он входит в качестве отдельного элемента. Даже если текст пьесы не существует физически как рукопись, а импровизируется по ходу репетиции, он является автономным объектом, отдельной реальностью, которая связана со спектаклем, но не сливается с ним. Однако при всей своей автономности текст пьесы диалектичен, и диалектика эта заключается в том, что театральный текст одновременно 79 и самодостаточен и нет. В этом отношении драматург одновременно является писателем в собственном смысле этого слова и человеком, пишущим лишь для того, чтобы увидеть свой текст воплощенным в физическом действии; текст пьесы существует как самостоятельное повествование и в то же время является лишь основой для сценического действия. Основной особенностью текста пьесы, определяющего все его характеристики, является то, что, будучи текстом письменным, он создан для того, чтобы быть проигранным. И поскольку устная речь создает безграничные возможности для модификации исходного письменного текста, между текстом пьесы и его сценической интерпретацией создаются определенные отношения семиологического характера. Характеристики текста, воплощаясь в речи, не только становятся материальными и конкретными, но и существенным образом видоизменяются. В сущности, от текста в спектакле остается только членение — акты, сцены, картины, само же материальное наполнение времени и пространства становится совершенно иным. Таким образом, воплотить текст в речи — значит перейти от пространства письменного текста и от времени его прочтения к иной пространственно-временной перспективе — перспективе сценической речи и сценического действия, где основной текст, или слова персонажей, и вторичный текст, или авторские ремарки, реализуются в спектакле в виде декораций, структуры сценического пространства, мизансцен, костюмов персонажей и т.д. Говоря о сценической реализации текста пьесы, можно утверждать, что знаковый характер спектакля как разновидности коммуникативных процессов принципиально отличен от характера драмы, хотя и находится в непосредственных отношениях с нею. Качественная комплексность драматического театра не отличается от комплексности языка: для них общее как протяженность ("таксономическая структура"), так и разнообразие функций ("изотропия уровней"), но они различаются количественно, так как число их действий гораздо больше, и характеризуются включением большего числа языковых уровней (самая большая комплексность достигается в опере). Все элементы, каждый на своем уровне (слово, интонация, мимика, жест, движение, грим, костюм, декорация, свет, шумы), одновременно воздействуют на 80 зрителя. Очевидно, что театральная "сетка" — это лингвистическое письмо, так как состоит из текста драмы и сопровождающих элементов, которые имеют объяснительный характер. К примеру, для итальянских семиологов театра — это, прежде всего, организованное движение семиотических знаков, но движение осуществляется во времени. И если текст пьесы с точки зрения театра представляет собой объективную, извне заданную действительность, то сценический объект представляется особым языком, отражающим и обозначающим эту действительность. Подобно тому, как не существует однозначного соотношения между знаками языка и явлениями действительности, не существует и однозначного соответствия между текстом пьесы и ее сценической интерпретацией. Вопрос об отношении между текстом или драмой (словесным остовом) и спектаклем (сценическим действием), между литературой и театром лежит в основе семиотических исследований о театре. Этому способствует фундаментальная особенность литературы — надфразовое содержание линейного текста, что дает возможность его перевода на уровень "предметно-телесной" образности и перехода в системы пластических знаков. Вернемся к утверждению, что театр представляет собой знаковую систему, систему производства значения. В социальнокультурном аспекте наряду, например, с системой социальных отношений, языком как системой и другими, театр может также образовывать ту самую "конституциированную"10 составную часть культуры, которую мы понимаем под сообществом такого рода системных культур. Театр не принадлежит к системам культуры, функция которых заключается в удовлетворении первостепенных физических потребностей, но по своим соответствующим особенностям принадлежит к устоявшимся системам. Системы культуры не просто воспроизводят значение, что являлось бы само по себе противоречием, но постоянно придают определенное смысловое значение воспринимаемому ― звукам, действиям, предметам, которые образуются при взаимодействии культур, в которых они были порождены. Воспроизводство значения следует посредством воспроизведения субъектов (автор, режиссер, зритель, актер). Субъекты, по Моррису, состоят из трех принципиальных, не сокращаемых далее конститутивных факто81 ров ― носителей-субъектов, Designat-denotat и интерпретантов11. Из этих трех факторов Моррис заключает три относительности, а именно: 1. отношение субъекта к другим носителям субъектов как синтактическим величинам субъектов; 2. отношение субъектов к подразумеваемым под ними объектами как семантическими величинами; 3. отношение субъектов к пользователям этих субъектов как прагматических величин. Процесс, в котором субъекты имеют свое значение — семиоз — это акт, объединяющий означаемое и означающее, и продуктом которого является знак. Такое разграничение имеет лишь классификационный, а не феноменологический смысл, во-первых, потому, что семантический акт не исчерпывается единством означаемого и означающего и значимость знака определяется еще и его окружением; а во-вторых, их единство является результатом членения. Значение возникает тогда, когда субъект сопоставляется с чем-либо пользователем субъекта в пределах совместимости субъектов. В этой ситуации можно сделать вывод, что значение, смысл театрального знака никогда не бывает ни однозначным, ни универсальным вне и до своего сценического применения, и в принципе не может нести заранее определенного смысла. Воспроизводство значения театрального знака зависит от его взаимоотношения с другими сценическими знаками. Значение может меняться, если субъект включается в другую субъектную совместимость, или сопоставляется с чем-нибудь другим, или используется другим пользователем субъекта. Учитывая, что меняется одна из трех величин, меняется и значение субъекта. Значимость есть семиотическая категория. Этой характеристикой объясняются также общеизвестные факты, что зрители в театре, исходя из особенностей, одним и тем же сценическим субъектам — будь то слово или рисунок ― придают различное значение. Исходя из этого, мы можем заключить, что значение субъектов семиотической системы театра определяется всеми пользователями субъектов, оно содержит единую для всех коллективную часть значения, денотат, и сверх этого возможную дополнительную часть значения, коннотат. Значение всегда понимается как комплекс, который, действуя интерсубъективно в соответствую82 щей системе, составляет "объективную" и "субъективную" части. Как денотативные, так и коннотативные составные части значения имеют свою историю, являясь результатами жизненного опыта. Значения создаются согласно определенным правилам, тем самым осуществляется основное положение кода. Под кодом мы понимаем общепринятую систему правил для связи и интерпретации субъектов, как, например, установление наличия коммуникации субъектов. Общие значения в культуре даются всегда в том случае, когда все ее члены по своей конституции соприкасаются с одними и теми же кодами дивергированные значения возникают, когда различные группы относительно одних и тех же субъектов используют различные коды. Коды, лежащие в основе культурной системы как внутренние, так и внешние, и произведенные ими значения могут быть описаны и интерпретированы только в исторической обусловленности. Театр, понимаемый как система культуры среди других систем, выполняет функцию производства значения на основе внутреннего кода. Этот код регулирует: а) то, что должно считаться знаком театра, б) какие из этих знаков и в каких условиях могут комбинироваться между собой, а также в) какие значения этих знаков, в определенных контекстах, а также частично, могут изолированно функционировать. Кроме того, театральный код с точки зрения интерпретации знаков или знаковых связей может зависеть от правил внешних кодов. Если внутренние театральные коды вследствие этого конструируются как внешние, то есть полностью специфические, отличающиеся от кодов других систем культуры, то эти коды предусматривают процесс означивания конструкции целого специфического знака и целых специфических синтаксических, семантических и прагматических правил12. В результате смысл театрального представления как текста зависит не от авторских "поисков и намерений", но от того, что можно скорее назвать интеллектуальной системой означающих. Театральный текст, написанный драматургом, созданный режиссером, актерами, сценографом, художником, ― текст не только из слов, но и мизансцен, движения и жестикуляции актеров, декораций, освещения, музыки ― словом, всего того, чем, собственно, и является представление, ― может быть прочитан. 83 Текст в семиотическом понимании этого термина представляет собой систему знаков, закодированных по определенным правилам. Например, в русском языке знаками являются слова, которые употребляются по правилам русской грамматики. Точно также и любое театральное представление организуется по правилам тех эстетических систем, которые господствуют в определенную историческую эпоху. Так, реалистический и натуралистический театр исходит из постулата миметического правдоподобия, то есть воссоздания на сцене жизни в том виде, в каком она существует в действительности: реалистически воссоздаваемый бытовой интерьер, повседневный костюм актеров на сцене, реалистически мотивированная психология поведения персонажей и, наконец, типичная условность реалистического и натуралистического театра ― иллюзия "четвертой стены", якобы отделяющей мир, представленный на сцене, от зрительного зала: там — смоделированный мир в миниатюре, здесь ― мир повседневный, протекающий в реальном времени. Театральное представление являет собой коммуникативный процесс, то есть постоянное взаимодействие актера на сцене и зрителя в зале, между которыми происходит активный обмен информацией. Ибо не только актер служит средством коммуникативного послания-сообщения зрителю, но и зритель своей реакцией — смехом, молчанием, перешептыванием с соседями, напряженным вниманием, аплодисментами и др. — передает информационные сигналы актерам, влияя на ход представления. Театральное действо как закодированное сообщение-послание содержит особую эстетическую информацию, которую получает и раскодирует, т.е. интерпретирует зритель. Представление в виде закодированного сообщения, как уже отмечалось выше, в семиотической теории театра рассматривается как текст, который зритель "считывает". Театральный знак определяется не сам по себе как отдельная данность, а лишь по отношению к другим знакам. В результате тот текст, который воспринимает зритель, состоит из нескольких текстов, наложенных друг на друга. Во-первых, это текст автора пьесы, как говорилось выше, драматургический текст, предназначенный для произнесения со сцены, и дидаскалии — авторские пояснения, не предназначенные для их озвучивания актерами. Текст дидаскалий может быть минималь84 ным, как, например, у Шекспира, или, наоборот, — может расширяться до бесконечности, в некоторых случаях, как у Беккета, полностью вытесняя произносимую речь (в его "Сценах без слов"). На драматургический текст наслаивается режиссерский текст мизансцен. Затем следуют текст сценографа-художника (декорации, костюмы, грим), текст художника по свету, звукооператора (музыка, шумовые эффекты и т.д.). И, наконец, последний текст — текст актерского исполнения, включающий в себя пластику движения, жестикуляцию, мимику, интонацию и прочие способы организации речи персонажей: темп, ритм, тембр голоса. Все это в сценическом представлении не имеет случайного характера, поскольку приобретает смысловую значимость по ходу действия спектакля. Здесь все носит системный характер и все нуждается в восприятии и истолковании зрителем. Множественность этих текстов дает понять, что сценическое произведение никогда не бывает интерпретированным и понятым однозначно, без учета цельного образа спектакля. Основы семиотического понимания театра, которые были выдвинуты еще в 30-х годах Я. Мукаржовским, П. Богатыревым и О. Зихом, в 60-х годах подвергались обсуждению в работах ряда польских ученых: С. Шкварчинской, Т. Ковзана, З. Осиньского, Э. Бальцежана, И. Брах, И. Славиньской и др. Развитием этих работ явились новейшие монографии о семиотике театра, появившиеся в разных странах в последние годы (работы Э. Маркони. А. Роветты, А. Юберсфельд, С. Йохансена и др). На значение трудов польских ученых указывал в своем обзоре современной теории драмы голландский исследователь А. ван Кестерн. 2 См. также: в исследованиях У. Эко, посвященных проблеме иконического знака ("Отсутствующая структура", 1972; статья "К преобразованию понятия иконического знака", 1978), которые не были направлены специально на театральный знак и имели общетеоретический и общеэстетический характер. 3 Еще один тезис Ельмслева, никак не отраженный в исследованиях по семиотике театра, касается субстанции выражения в разговорном языке. С точки зрения традиционной фонетики, субстанция выражения в "естественных" языках должна состоять исключительно из "звуков". Обращая внимание на тот факт, что речь сопровождается мимикой, жестами, и что речевые элементы могут быть заменены ими, оказывается, что в механизме "естественного" языка участвуют не только органы речи (гортань, рот, нос), но и все связки мускулов, с уверенностью можно сказать, что грань между вербальным и иконическим знаком стерта; грань, которую в театральной семиотике воспринимают как незыблемую. 4 Цит. по: Теория театра: Сб. статей. М., 2000. С.81. 1 85 Наиболее точным — с учетом требований математической точности — можно считать толкование этого понятия, данное в работах Луи Прието. 6 См. подробнее о схеме перехода от рациональности к интуиции, от эмотивности — к рациональности и от плоскости физической — к эмотивности в работе Маркони Э., Роветта А. Театр как общая модель языка. 7 См. подробнее о семиотической теории театра в кн. Юберсфельд. А. Диалог театра. 8 Пави П. Игра театрального авангарда и семиологии / Как всегда ― об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992. С. 230-231. 9 П. Павис в работе "Голоса и образы сцены" констатировал кризис понятия "знака" в театральной семиологии и определил поиск минимального знака как утопичную идею. Пави пришел к выводу, что для анализа сценического произведения необходимо учитывать целостность его замысла, и что важен образ спектакля как таковой. Нужна совокупность знаков, система означающих, отсылающих зрителя к означаемому. 10 Термин Э.Фишер-Лихте. 11 См.: Fischer-Lichte, Erika: Semiotik des Theaters. — Tuebingen: Narr, 1983. ― Band 1: Das System der theatralische Zeichen. S. 8-9. 12 Fischer-Lichte, Erika: Semiotik des Theaters. — Tuebingen: Narr, 1983. ― Band 1: Das System der theatralische Zeichen. S. 22-23. 5 86 Н. А. Вихрева ТЕРМИН КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА КАК НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ XXI век входит в историю как век информатизации. Однако в хореографическом искусстве до сих пор не существует единой, общепринятой системы нотации хореографических произведений, наподобие нотного стана в музыкальном искусстве. Начиная с XV века возникло немало систем нотации. Практически все они базировались на абстрактных знаках, но наиболее востребованным способом, в конечном итоге, являлся словесный. Слово — наиболее распространенная форма общения в человеческом обществе. Системы, основанные на абстрактных знаках, доступны только очень узкому кругу лиц, в то время как хореографические произведения, зафиксированные словесно, расширяют этот круг. Хореографическое произведение может быть зафиксировано — записано с помощью слова на языке определенной страны. Слово способно дать достаточно надежную информацию для адекватной его расшифровки. Вопрос в том, как емко использовать слово для получения полной информации. Шифрование хореографического текста с помощью словесного кода имеет свои сложности, а именно — необходимо использовать слово, вмещающее качественную и количественную информацию. Одно и то же движение может быть описано одним, двумя или большим количеством слов. Получатель информации всегда обладает желанием как можно быстрее прочитать текст, расшифровать его, понять. В хореографическом искусстве приняты термины танцевальных движений. Их роль огромна. Термины являются своеобразным языком, на котором происходит общение специалистов — хорео87 графов, педагогов, репетиторов, артистов, студентов и др. Термин обладает определенными информационными возможностями. В подавляющем большинстве случаев термин фиксирует комплексное движение, что в значительной степени сокращает объем фиксируемого текста. Особенно наглядно это проявляется при использовании словесного способа фиксации. Термин является в некотором смысле абстрактным знаком, не зависящим от субъективного значения слова. История рождения специальных терминов классического балета длительна. Она начала складываться в XVII — XVIII вв. в Королевской Академии танца в Париже. Термины получили французские названия. В нодних случаях значение французского слова указывало на содержание движения, его характер, в других — нет. В процессе развития классического балета заметно менялся смысл терминов. Термины теряли непосредственную связь с французским языком, становились символами, знаками того или иного движения. На развитие терминологии XIX — XX вв. имело влияние наличие различных школ классического танца. В середине XIX века ярко заявила о себе Итальянская школа классического танца. Выдающиеся деятели хореографического искусства К. Блазис и особенно Э. Чекетти работали в крупных балетных центрах Европы и России. Активно участвуя в учебных, репетиционных и постановочных процессах балетных трупп, они привнесли в уже имеющуюся терминологию движений классического танца новые понятия. У Э. Чекетти ряд терминов приобрел смысл, отличный от ранее существовавшего. Распространение метода Э. Чекетти оказало влияние на терминологию балетного театра XX века. После знаменитых Дягилевских сезонов "Русского балета" в Париже и особенно после Октябрьской революции 1917 года многие русские деятели балета покинули Россию. Им принадлежит честь рождения искусства классического балета в Америке, возрождение его в Англии и даже во Франции. Они несли в эти страны свое знание терминологии классического танца, принятой в России. Метод А. Вагановой, заявленный ею в 1934 году, когда вышла в свет ее книга "Основы классического танца"1, стал основой советской школы классического танца. 88 В предисловии А. Ваганова писала: "Французская терминология, принятая для классического танца, как я уже указывала во всех дискуссиях на эту тему, — неизбежна, будучи интернациональной. Для нас она то же, что латынь в медицине, — ею приходится пользоваться... Хотя сейчас же внесу некоторую оговорку: не все наши названия совпадают с названиями, принятыми у французов. Уже многие десятки лет наш танец развивается без непосредственной связи с французской школой. Многие названия отпали, некоторые видоизменены, наконец, нашим училищем введены новые. Но это все варианты одной общей и международной системы танцевальной терминологии"2. Серьезные методологические работы по технике и терминологии классического танца ведутся в Англии и Америке. В закреплении терминологии классического танца важная роль принадлежит словарям. При этом необходимо уточнить, что многие словари по балету давали и дают в основном информацию о танцовщиках, балетмейстерах, балетах и очень немного данных по терминологии. Даже современный объемный "Международный Словарь Балета" (Internation Encyclopedia of Dance)3 не дал никаких сведений по терминологии классического танца. Описание движения и методические правила его исполнения, имеющего определенный термин, появились в словарях уже с середины XX века. Целевая направленность словарей различна. Это могут быть словари терминов, имеющих практическое использование в учебной и репетиционной работе, и могут быть словари, описывающие значения терминов, не учитывая этого положения. Одним из первых словарей танца возможно следует назвать "Танцевальный словарь" ("Dictionnaire de la Danse"), впервые изданный в Париже в 1767 году. В XIX веке появление словарей и работ, имеющих сведения о терминах классического танца, связано с Италией и Францией. В XX веке появляется огромное количество работ по теории классического танца, и терминологии и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Америке. Во второй половине XX века в мире интерес к словарям по терминологии балетного искусства возрастает. В России в 1790 году был переведен на русский язык словарь Шарля Компаня "Танцевальный словарь, содержащий в себе ис89 торию, правила и основания танцевального искусства"4. С тех пор не было ни одного достаточно полного словаря терминов классического танца, кроме предельно краткого "Словаря французских терминов классического танца" В. Дарпасяна5, изданного в Армении в 1976 году, основанного на дословном переводе терминов с французского языка на русский, и в том же ключе появившегося в 2006 году "Словаря-справочника терминов классического танца"6 Г. Прибылова. До этого сведения по терминологии классического балета можно было получить в "Программах по классическому танцу". Первая увидела свет в 1928 году. Она была издана в Ленинграде и имела название "Учебный план и программы вступительных испытаний". В программе присутствовало движение Temps de courante (1-я часть), которое в последующих программах исчезло, а также французские названия направления движений: en avant, en arrière, de côté, devant, derrière, положения на пальцах или полупальцах — sur les pointes, sur le demi-pointe. Эти французские слова нигде и никогда не переводились на другой национальный язык, эти слова стали интернациональными. Трудно переоценить появление в 1934 году книги А. Вагановой "Основы классического танца". Она была первой в мире, кто подробно, методически точно описал движения классического танца. Она использовала термины классического танца, и ее работа для многих поколений стала основополагающей не только в понимании техники классического танца, но и терминологии. Она, как и Э. Чекетти, дала ряду движений иное название, отличное от используемого в мировой практике. Не случайно крупные словари терминов второй половины XX века разделяют метод Чекетти и метод Вагановой. В советский период делались попытки перевести на русский язык французские термины. Начал это А. Волынский в "Книге Ликований"7, впервые изданной в 1925 году. Он переводит французские термины grand plié и demi plié на русский язык, фиксируя эти движения как "полу-plié и полное plié"8. В 1940 году В. Мориц, Н. Тарасов и А. Чекрыгин в книге "Методика классического тренажа"9 продолжили перевод ряда французских терминов на русский язык. К примеру: существующий термин grand battement jeté они фиксируют как "большой батман jeté"10 и в то же время сохраняют принятый в зарубежной 90 литературе термин rond de jambe a terre11. (В настоящее время в России употребляется термин par terre) В 50-е годы XX века в России были идеи отказаться от французского языка в наименовании терминов, перевести их на русский язык, что внесло еще бóльшую путаницу. Этот процесс был приостановлен в начале 50-х годов, когда был поднят "железный занавес". Советские специалисты стали выезжать в страны Европы и Америки, балетные труппы ведущих театров мира, знаменитые иностранные звезды балета начали гастролировать в России, появились иностранные журналы по балету — "Dance and dancers", "Dance Magazine" и другие, специальная балетная литература, в том числе в России: А. Мессерер. "Уроки классического танца", 1967 г.12; Н. Тарасов. "Классический танец", 1968 г.13; В. Костровицкая, А. Писарев. "Школа классического танца", 1968 г.14; В. Костровицкая. "100 уроков классического танца", 1972 г.15; Н. Базарова. "Классический танец", 1975 г.16 и др. В 1966 году справочник "Все о балете"17 дал определенные данные по терминологии классического танца. В 1981 году выходит в свет энциклопедия "Балет"18, где мы встречаем более объемное представление терминов, материалы по терминологии печатает журнал "Балет" (1989—1993). К сожалению, труд Г. Прибылова "Словарь-справочник терминов классического танца"19, представляет собой краткий неполный словарь, во многом уступая сведениям по терминологии в энциклопедии "Балет" и материалам журнала "Балет". Подобное положение во многом затрудняет решение проблемы нотации хореографических произведений словесным способом. Информация о термине классического танца в словарях — это своего рода фиксация танцевального движения. Авторы словарей классического балета по-разному подходили и подходят к описанию термина, информация в них различна в количественном и качественном отношении. Некоторые словари представляют собой справочники-указатели, в которых авторы переводят французское название термина на национальный язык и дают краткую характеристику движения. Авторы другого типа словарей раскрывают методику исполнения движения. При описании движения, помимо схемы, включается описание движения в пространстве: в частности, в каких горизонтальных уровнях проис91 ходит движение — на полу на целой стопе, на полу на полупальцах, на полу на пальцах или в воздухе. Может быть определено направление движения, положение танцующего по отношению к определенной точке зала. Временная длительность при этом чаще всего отсутствует. Дается структура, схема, скелет самого движения, а исполняться оно может в любом темпе — медленно и быстро. Описание содержания термина в словарях различно. К примеру: практически первый в России "Танцовальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства" Шарля Компаня20 описывал движение так: "Battements: биения. Биения суть движения, производимые на воздухе одною ногою в то время, как тело расположено бывает на другой..."21 "Cabrioles. Кабриоль. Есть биение ногами, делаемое посредством скакания при конце кадансол, когда тело поднимается на воздух"22. Почти 200 лет спустя Ваграм Дарпасян в 1976 г. представил практически дословный перевод на русский язык французских слов, употребляемых в классическом танце в качестве терминов. К примеру: brisé — разбитый, gargoullade — бульканье, cabriole — козлиный прыжок, flic-flac — хлоп-шлеп. Поза классического танца arabesque описывается в различных словарях по-разному. К примеру: Сирил В. Бомонт (Beaumont C.W.) "Arabesque — основная поза в танце"23 Гейл Грант (Gail Grant): "Arabesque — одна из основных поз в балете, название которой происходит от Мавританского орнамента. Это положение тела в профиль, при котором корпус стоит на вытянутой ноге или в demi-plie, другая нога вытянута назад под прямым углом к опорной ноге; руки могут находиться в различных гармоничных положениях, создавая возможно более удлиненную линию всей позы от кончиков пальцев до носка поднятой ноги. Линия плеч должна быть перпендикулярна по отношению к направлению позы. Формы арабеска бесконечно варьируются. Метод Чеккетти употребляет пять основных арабесков; в русской вагановской школе четыре арабеска; во французской школе — два. Обычно арабеском заканчивается танцевальная фраза как в медленных движениях adagio, так и в живых, веселых движениях allegro"24. 92 Энциклопедия "Балет": "Arabesque (арабеск, франц. букв. — арабский) — одна из основных поз классического танца, отличие которой — поднятая назад нога с вытянутым (а не согнутым, как в позе attitude) коленом. В русской школе классического танца приняты четыре вида arabesque. Arabesque исполняются на вытянутой ноге, на plié, на полупальцах, на пуантах, в прыжке с поворотом и вращениями. Позу можно бесконечно варьировать. Изменения в позициях ног и рук, положении спины, головы, направленности взгляда влекут за собой преображение выразительной сути arabesque"25. Анализ словарей терминов классического танца открывает много познавательного и неизвестного для специалистов различных школ мира. Во французском "Словаре движений классического танца" Ж. Шале-Хаас (J. Challet-Haas)26 фигурируют термины, неизвестные для русской школы классического балета: grand battement arrondi en dehors27, grand battement soutenu28, grand battement fondu29, grand battement sous-plié30, sout de biche31, sissonne "collé"32, jetés-contretemps33. Из словаря Гейл Гранта34 в России не известны следующие термины: contretemps, emboîté en descendant35, emboîté en reculant36, battement degage37, battement glissé38, temps de cuisse39. Из словаря Ронды Раймон (Rhonda Ryman)40: sissonne fermée relevée de côté dessus41, battement tendu relevé42, temps de fleche43. В области классического танца существует небольшое количество полных словарей, включающих как современные термины, так и термины прошлых лет. Существуют словари и справочники, дающие не все значения термина, употребляемые в практической работе. К примеру: энциклопедия "Балет"44, "Международная энциклопедия танца"45 указывают только на одно значение термина degage, в то время как этот термин имеет несколько значений, что будет рассмотрено ниже. Сборник-справочник "Все о балете" и энциклопедия "Балет" представляют неполный словарный состав терминов. Например, ни в том, ни в другом нет указания на термин pique, имеющий широкое применение в международной практике. В словаре К. Декрата (Q. Decret)46 нет терминов piqué, relevé, degagé. Наиболее полными словарями, указывающими и на принадлежность термина определенной школе, являются словари Г. Гранта47 и Р. Райман48. 93 С течением времени французские термины потеряли связь с французским языком. В настоящее время они существуют самостоятельно, являясь символами, знаками определенных танцевальных движений. По правилам французской грамматики следовало бы писать un pas assemblé, un pas tombé и т.д. В какой-то период французские слова, выступающие в качестве терминов классического балета, перестали подчиняться правилам французской грамматики. Таким образом, уже очень давно исчез артикль — un, une; в редких случаях продолжает присутствовать существительное pas. Отсутствие артикля и существительного не изменило значения термина, но дало более компактную ясную форму изложения. Авторы, фиксирующие движения классического танца, употребляют термины: assemblé, tombé, cabriolé, jéte и т.д. К примеру: К. Ралов (K. Ralov) — "правой ногой coupe dessus, левой ногой jeté dessus, правой ногой assemble dessous"49. Т. Карсавина — "grands jetés вперед по диагонали"50. A. Ваганова — "glissade правой ногой в сторону..."51. B. Костровицкая — "шесть assemblés в сторону с переменой ног вперед, два jetés в сторону"52. А. Мессерер — "assemblé в сторону (менять) левой ногой"53. С другой стороны, для некоторых терминов остается французское слово pas (движение). В практической работе используются термины: pas de bourree, pas de poisson, pas couru и т.д. Имеется различие в употреблении множественного и единственного числа. Некоторые фиксируют pliés, battements jetés, ronds de jambe, другие этого не делают. Анализ специальной литературы по балету и словарей терминов классического балета в России и за рубежом выявляет разночтения в толковании терминов классического балета. Еще в 1890 году Альберт Цорн писал: "Немало труда стоило мне упорядочение терминологии танцовального искусства, в которой, надо сознаться, господствует до сих пор чистое столпотворение вавилонское"54. Сложное положение в области терминологии классического танца остается и в настоящее время. Разночтения терминов классического танца заключаются в следующем: в одних случаях тождественные понятия движений и положений определяются по-разному и имеют различные терми94 ны; в других — неидентичные понятия называются одинаково, то есть имеют один термин. Существуют движения, еще не получившие своего наименования. Это ведет к разночтению. Основные разночтения заключаются в следующем: I положение Существование различных терминов для характеристики одного движения, то есть тождественные понятия определяются поразному. Рассматривается движение — шаг на пальцы или полупальцы в любом направлении. А. Ваганова — jeté на полупальцы55. "Программа по классическому танцу" 1967, 1987 г. — шагcoupé. Н. Тарасов — degagé56. A. Мессерер — piqué, шаг- piqué57. Н. Базарова — "как бы сверху (piqué) встать на пальцы"58. B. Костровицкая — jeté на полупальцы59. С. В. Бомонт — piqué60. А. Менье — piqué61. Л. Кирсли и Ж. Сиклэр — piqué62. Г. Грант — piqué63. К. Радлов — piqué64. Р. Райман — piqué65. Из вышеизложенного следует, что в мировой практике используется для шага на полупальцы или пальцы в любом направлении термин piqué. В России его использует А. Мессерер. Специалисты хореографических учебных заведений практически этим термином не пользуются, используя термин jeté на полупальцы или пальцы, шаг-coupé. II положение Существование одного термина для характеристики различных движений, то есть неидентичные понятия имеют один термин. Рассматривается использование термина degagé А.Менье — "degagér — нога, чуть приподнимаясь, вытягивается вперед, назад, в сторону на пол, на 45° и выше"66 (Прил.2. С.2). 95 Г. Грант — "degagé (дегаже). Свободный. Это вытягивание ноги в открытую позицию с вытянутым до конца подъемом стопы и без передачи на нее веса тела. Degagé делается вперед, в сторону, назад и с fondu. Употребляется для перехода из одной позиции в другую. Термином degagé в методе Чекетти обозначается также такой поворот ноги, при котором стержнем служит бедро. Например: встаньте в позу первый arabesque, 2-я нога поднята. Поворачивайте корпус en face, одновременно медленно поворачивайте 2-ю ногу в бедре наружу так, что образуется поза á la seconde en Fair"67. Л. Кирсли и Ж. Сиклэр — "degagé — в этом случае танцовщик делает шаг в позу с маленьким developpé"68. К. Ралов — "левой ногой pique в сторону, правая нога — degagé в сторону69 Р. Райман — "degagé — движение работающей ноги, результатом которого является абсолютное вытягивание ее, при этом носок касается пола. Нога может быть вытянута вперед, в сторону или назад, при этом опорная нога на plié или вытянута"70 А. Ваганова71 — "degagé левой ногой на 45° на II позицию". "Все о балете"72 — "degagé (дегаже, от degagér — высвобождать) — V подготовительное движение для перехода с ноги на ногу. Стоя или приседая на одной ноге, танцовщик(ца) освобождают другую ногу от тяжести корпуса". Н. Тарасов — "degagé — нога с V позиции отводится на II или IV позиции приемом battement tendu, далее делается проходящее demi-plié и переход на отведенную ногу"73. Энциклопедия "Балет"74 — "degagé (дегаже, франц. букв. — извлеченный, высвобожденный), отведение ноги на нужную высоту по принципу battement tendu для последующего перехода на нее". А. Мессерер75 — "degagé левой ногой в сторону (45°), double tour piqué en dehors"76; "degagé правой ногой в сторону (pointe tendue)"77. В свете вышеизложенного следует, что термин degagé употребляется в нескольких значениях: 1. Выдвижение вытянутой ноги скольжением по полу (приемом battement tendu) на носок в любом направлении; 2. Подготовительное движение для перехода на другую ногу; 3. Шаг на отведенную ногу во II или IV позиции; 96 4. В adagio fouette из положения ноги в arabesque в положение в сторону. Рассмотренные положения препятствуют получению надежной информации, затрудняют расшифровку закодированного текста, что приводит к разночтению. Анализ указанных ранее работ выявил ряд неточностей в употреблении терминов классического танца и в России, и за рубежом. Подобных разночтений можно привести множество, в частности, это касается употребления терминов battement jeté, chaîné, développé и др. Практическая работа по нотации хореографических произведений выявила ряд движений, которые имеют наиболее широкое использование и являются в известной степени фундаментальными. 1-е движение: поднимание ноги на воздух в любом направлении. Выполнить движение можно только двумя способами: — поднимание вытянутой ноги на воздух; — поднимание ноги на воздух через сгибание. Надежность нотации требует четкого определения этих движений соответствующими для них терминами. Поднимание ноги на воздух через сгибание имеет термин développé, употребляемый специалистами всего мира. Поднимание вытянутой ноги на воздух не имеет термина, единого для всех специалистов в области балета. A. Ваганова при фиксации движения на 45° пользовалась термином degagé78, но не всегда. Например: "V позиция на demiplié, правая нога откидывается в сторону II позиции на 45°"79. Поднимание ноги на 90° обозначается термином relevé lent. В 1936г. появилась "Программа по хореографическим дисциплинам" Ленинградского государственного хореографического техникума. Именно в этой программе впервые появляется термин "battement relevé-lent — медленное поднимание и опускание вытянутой ноги на 90°"80. B. Костровицкая, А. Писарев описывают его так: "relevé lent исполняется следующим образом: работающая нога с вытянутым подъемом и пальцами из I или из V позиции без отрыва носка от пола сначала отводится, как на battement tendu, в любом направлении и затем медленно поднимается на 90°, после чего так же 97 медленно опускается в исходное положение, при этом вытянутый носок скользит по полу"81. Энциклопедия "Балет": "relevé (релеве, франц. от relevér — поднимать) 1) подъем на полупальцы и пальцы; 2) поднимание вытянутой ноги на 90° и выше в различных направлениях и положениях классического танца"82. Имеется в виду медленное поднимание ноги на 90°, в то время как в хореографических текстах постоянно присутствует и движение быстрого поднимания вытянутой ноги. В. Костровицкая, А. Писарев: "Оставаясь на полупальцах, выбросить правую ногу быстрым battement на 90° в сторону II позиции"83. Н. Тарасов: "... relevé на высокие полупальцы в указанной позиции. Затем впереди стоящая нога отбрасывается во II позицию на 90° приемом grand battement jeté"84. В русской школе подобное движение подчас называется термином grand battement, что адекватно этому движению, т.к grand battement заканчивается в позицию. В словаре Г. Гранта находим два термина: degagé a terre и degagé en l'air. Эти термины использовали в своих работах Т. Карсавина, А. Мессерер. 2-е движение — подъем корпуса на полупальцы и пальцы. Выполнять это движение можно только двумя способами: 1. Сделать шаг в любом направлении на полупальцы или пальцы. 2. С пола подняться на одной или двух ногах наверх на полупальцы или пальцы. Первый способ. Шаг на полупальцы или пальцы имеет широко распространенный в мировой практике термин piqué. В России он обозначается как jeté на пальцы, шаг на пальцы, шаг-coupé. Второй способ. Это движение имеет термин relevé, также являющийся почти единым для всех специалистов. Стоит заметить, что в русской школе появился термин relevé lent. В данном случае relevé расценивался как глагол фран98 цузского языка, в то время как термины классического танца уже давно не имеют связи с французской грамматикой. В заключение, говоря о состоянии терминологии классического танца в мире, скажем, что, несмотря на встречающиеся разночтения в толковании терминов, следует обратить внимание на важность их использования. Рассмотрим фиксацию движения, имеющего термин assemblé. К примеру: четыре assemblés в сторону с переменой ног вперед; используя термин dessus возможно записать так: четыре assemblés dessus. В свете вышеизложенного следует вывод: существующее в мировой практике отсутствие единства в употреблении терминов классического танца затрудняет процесс передачи информации среди специалистов хореографического искусства, что является определенным тормозом в развитии этого искусства. Как бы ни велика была роль мультимедийных средств информации: видео, киносъемки, компьютерных программ, они не могут заменить словесной системы нотации хореографических произведений, где термин играет важную роль как носитель точной информации. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л., 1980. Там же. С.10. 3 Internation Encyclopedia of Dance / Founding editor Solma Jeanne Coohen. New York., Oxford: Oxford University Press, 1988. Vol.1. 4 Компань Ш. Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила, основания танцевального искусства. М., 1790. 5 Дарпасян В. Словарь терминов классического танца. Ереван., 1978. 6 Прибылов Г.Н. Словарь-справочник терминологии классического танца. М., 2006. 7 Волынский А.Л. Книга ликований. М., 1992. 8 Там же. С. 195. 9 Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика классического тренажа. М.; Л., 1940. 10 Там же. С. 27. 11 Там же. С. 30. 12 Мессерер А. Уроки классического танца. М., 1967. 13 Тарасов Н. Классический танец. М., 1981. 14 Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. Л., 1968. 15 Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л., 1981. 16 Базарова Н.П. Классический танец. Л., 1984. 17 Все о балете. М. Л., 1966. 1 2 99 Энциклопедия "Балет". М., 1981. Прибылов Г.Н. Словарь-справочник терминологии классического танца. 20 Компань Ш. Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила, основания танцевального искусства. 21 Там же. С. 50. 22 Там же. С.60. 23 Beaumont C.W. French-English Dictionary. London: Fakenham an Reading, 1977. 24 Grant G. Technical Manuel and dictionary of Classical Ballet. New York, 1950. С. 1. 25 Энциклопедия "Балет". С. 27-28. 26 Challet-Haas J. Repertoire des pas de la Danse classique. Paris, 1987. 27 Там же. С. 12 28 Там же. С.13 29 Там же. 30 Там же. 31 Там же. С. 46. 32 Там же. С. 47. 33 Там же. С. 32. 34 Grant G. Technical Manuel and dictionary of Classical Ballet. 35 Там же. С. 39. 36 Там же. 37 Там же. С.15. 38 Там же. 39 Там же. С. 83. 40 Ryman R. Dictionary of Classical Ballet Terminology. Royal Academy of Dancing. London, 1995. 41 Там же. С. 78. 42 Там же. С. 14. 43 Там же. С. 83. 44 Энциклопедия "Балет". 45 Internation Encyclopedia of Dance / Founding editor Solma Jeanne Coohen. Vol. 1. 46 Decrat Q. Dictionnare de la dance. Paris: Librairies-imprimeries reunites, 1895. 47 Grant G. Technical Manuel and dictionary of Classical Ballet. 48 Ryman R. Dictionary of Classical Ballet Terminology. 49 Ralov K. The Bournonvill school. London, 1979. С. 122. 50 Karsavina T. Classical ballet. The Flow of Movement. London, 1962. С. 81. 51 Ваганова А.Я. Основы классического танца. С. 166. 52 Костровицкая В. 100 уроков классического танца. С. 99. 53 Мессерер А. Уроки классического танца. С. 361. 54 Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. Одесса, 1890. С. 6. 55 Ваганова А.Я. Основы классического танца. С. 141. 56 Тарасов Н. Классический танец. С. 198. 57 Мессерер А. Уроки классического танца. С. 379. 18 19 100 Базарова Н.П. Классический танец. С. 176. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. С. 206. 60 Beaumont C.W. A bibliography of dancing. London, 1926.С. 26. 61 Meunier A. La danse Classique. Paris, 1931. С. 136. 62 Kersley L. and Sinclair J. A dictionary of Ballet terms. London, 1953. 63 Grant G. Technical Manuel and dictionary of Classical Ballet.С. 108. 64 Ralov K. The Bournonvill school. С.2. 65 Ryman R. Dictionary of Classical Ballet Terminology. С. 59. 66 Meunier A. La danse Classique. С. 133. 67 Grant G. Technical Manuel and dictionary of Classical Ballet. С. 14. 68 Kersley L. and Sinclair J. A dictionary of Ballet terms. С. 44. 69 Ralov K. The Bournonvill school. С. 131. 70 Ryman R. Dictionary of Classical Ballet Terminology. С. 23. 71 Ваганова А.Я. Основы классического танца. С. 142. 72 Все о балете. С. 142. 73 Тарасов Н. Классический танец. С. 197. 74 Энциклопедия "Балет". С. 179. 75 Мессерер А. Уроки классического танца. 76 Там же. С. 260. 77 Там же. С. 84. 78 Ваганова А.Я. Основы классического танца. С. 135. 79 Там же. С. 179. 80 Там же. С. 7. 81 Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. С. 27. 82 Энциклопедия "Балет". С. 427. 83 Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. С. 220. 84 Тарасов Н. Классический танец. С. 353. 58 59 101 102 ЖИВОПИСЬ 103 104 Г. А. Назарова К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЖИТИЙНЫХ ЦИКЛОВ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ Значение личности митрополита Алексия (МА) для истории Древней Руси очень велико. Он сыграл большую роль в политической жизни Руси XIV века и особенно в деле собирания разрозненных мелких княжеств вокруг растущего Московского княжества. После смерти князя Симеона Ивановича Гордого митрополит Киевский и Всея Руси Алексий стал наставником князя Дмитрия Ивановича и до его совершеннолетия фактически возглавлял Московское княжество. В качестве церковного и государственного деятеля святитель стоял у истоков успешной борьбы Великого княжества Московского против ордынского ига. Митрополит Алексий стал одной из самых значимых и почитаемых фигур в русской истории. Местное почитание митрополита Алексия началось, вероятно, сразу же после его смерти (+1378 г.). Об этом свидетельствует древнейшее изображение Алексия вместе с первым Московским святителем — Петром на шитом воздухе 1389 года в составе деисусной композиции1. Позднее следы почитания митрополита Алексия надолго прерываются. Турилов объясняет это продолжительным (1390— 1406) пребыванием на митрополичьей кафедре Киприана, прижизненные отношения святителя с которым носили характер соперничества, а также брачным союзом великого князя Василия I с Софией, дочерью великого князя литовского Витовта. Несмотря на эти обстоятельства, именно в его годы Русской церковью, вероятно, в 1379—1382 годах была написана первоначальная краткая повесть "О Алексии митрополите"2. Она содержится в Рогожском летописце и Симеоновской летописи и была в Троицкой летописи, сгоревшей в 1812 году3. Г. Н. Прохоров, исследователь 105 примыкающей к житию митрополита Алексия "Повести о МитяеМихаиле", обратил внимание на тематическую, композиционную, стилистическую и лексическую связь этих двух летописных рассказов4. Он отметил, что рассказ "О Алексии митрополите" представляет собой "весьма суммарное и неточное описание жизни митрополита от рождения до смерти и похорон", с акцентом "на постепенное прохождение Алексием всех иерархических ступеней". Тем самым, считает исследователь, "по контрасту, в невыгодном свете выставляется фигура Митяя-Михаила", по желанию великого князя, ставшего наместником митрополичьего престола после смерти митрополита Алексия. А "беспристрастный и фактографичный" рассказ о митрополите Алексии являет собой как бы "посредственную ступень между погодным летописным повествованием и "Повестью о Митяе" с ее интригой и сюжетом"5. При митрополите Фотии в 1431-м или 1438 годах мощи митрополита Алексия были чудесно обретены6. В связи с открытием мощей святителя чудовский архимандрит Питирим, впоследствии епископ Пермский, написал новую редакцию жития и службу на обретение мощей святителя7. Интерес к личности митрополита Алексия особенно проявился после утверждения автокефалии в 1448 году. Автокефалия Русской церкви формировалась в период, сложный не только в истории самой России, но и в судьбах всего восточного православия. В 1439 году византийские патриарх и император поддержали Флорентийскую унию. Русской иерархии пришлось вырабатывать свою каноническую позицию в ситуации, когда приобретение церковной самостоятельности по отношению к Константинополю с одновременным противостоянием Риму и дальнейшим попыткам возродить унию диктовало необходимость согласованных действий церковной и светской власти, т. е. симфонии священства и царства. Исследуя политическую идеологическую составляющую автокефалии, Н. В. Синицына совершенно верно подметила, что "в истории Российского государства и Русской церкви автокефалия и симфония оказались двумя сторонами единого исторического процесса"8. Наверное, поэтому одним из первых дел митрополита Ионы, поставленного собором русских епископов в 1448 году, было установление празднования митрополиту Алексию, который раз106 вил "воззрение, что православная Русь — часть священной христианской политики, политического тела Церкви, а власть великого князя всея Руси и русского митрополита — органы его устроения"9. Кроме того св. Алексий последовательно проводил политику поддержки принципа, лежащего в основе наследственной монархии, т. е. наследования по нисходящей линии (от отца к сыну) в противовес наследованию по боковой линии (к старшему в роде), преобладавшему в предшествующий период. Помимо поддержки великого князя Дмитрия Донского, митрополит Алексий выступал как поборник освященной временем традиции во всех спорных ситуациях. Так, в конфликте 1357 года между великим князем Тверским Василием Михайловичем и его племянниками, детьми казненного в Орде Александра Михайловича, митрополит Алексий взял сторону старшего в роде князя против Всеволода Александровича, претендовавшего на тверской престол10. В 1363 году, после смерти Нижегородского князя Андрея Константиновича, митрополит поддержал Суздальского князя Дмитрия в его противоборстве с младшим братом Борисом, захватившем в обход прав старшего Нижний Новгород, несмотря на то, что еще недавно он являлся соперником Москвы11. В 1365 году в споре из-за наследства удельного Тверского князя Семена Константиновича между братом покойного, Клинским князем Еремеем, и великим князем Михаилом Александровичем митрополит Алексий поддержал именно ближайшего родственника12. То есть при митрополите Алексии начал вырабатываться тот порядок престолонаследия, который оказался одним из важнейших принципов построения единства русских земель. Почти сразу же после прославления мощей святителя в 1450 году по поручению митр. Ионы Пахомий Логофет написал службу, "Повесть об открытии мощей", а в 1459 году — пространное житие, в основу которого легли летописная повесть и житие, написанное еп. Питиримом13. Житие митрополита Алексия в редакции Пахомия Логофета послужило литературным источником для иконы "Св. Алексий с житием", написанной в 1481 году14, вместе с парной ей иконой митрополита Петра для иконостаса Успенского собора Московского Кремля. Оба святителя считались святыми покровителями и заступниками Руси и в первую очередь Москвы. Иконе "Св. мит107 рополит Алексий с житием" посвящено огромное количество исследований15. Круг проблем, которые ставили перед собой исследователи, в основном касался вопросов датировки иконы (на этот счет существуют различные точки зрения: от 70—80 гг. XV — до начала XVI вв.), литературного источника, лежавшего в основе изображения, и определения заказчиков ее программы. В 19 клеймах иконы, следуя за текстом жития в редакции Пахомия, святитель Алексий предстает перед нами как основатель монастырей (клеймо 7 и 8 — основание Андроникова монастыря, клеймо 14 — основание Чудова монастыря); усмиритель гнева ордынского хана Бердибека (клеймо 6); чудотворец (клеймо 9 — чудесное возжжение свечи у гроба св. Петра, 10 — исцеление ханши Тайдулы), что подтверждают и посмертные чудеса св. Алексия (клейма 17-19). Эта икона послужила образцом для последующих житийных икон митрополита Алексия, сохранившихся от конца XVI — XVII вв. Открытием последних лет стало изображение святителя в росписи 1540—1543 годов в церкви Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске. В южном приделе этой церкви, который, по мнению исследователя этих фресок Ю. Г. Малкова,16 был первоначально посвящен митрополиту Алексею, сохранилось, кроме поясного изображения святителя, еще несколько сцен из его жития. По наблюдению Ю. Г. Малкова, композиции, расположенные в дьяконнике церкви, оказались близки по иконографии клеймам иконы святителя Алексия с житием из Успенского собора Московского Кремля. Обращение к теме жития было вызвано в это время несколькими событиями: в княжение Василия III остро встал вопрос о рождении наследника престола, и великий князь во время своего второго брака обращается с молитвой о чадородии к святителю — покровителю правящей династии московских Рюриковичей и заступнику традиции престолонаследия в московском великокняжеском доме от отца к сыну. После рождения в 1530 году наследника престола, будущего царя Иоанна IV, по обету в 1531 году великий князь Василий Иванович сделал новую раку для мощей святителей Петра и Алексия, а 11 февраля 1535 года митрополит Даниил переложил мощи Алексия в новую раку17. Следующий период почитания митрополита Алексия приходится на середину XVI века и связан с личностью митрополита 108 Макария, который утверждал теократический характер царской власти и необходимость союза власти мирской с церковью, при главенствующей роли церкви. Самостоятельность Русской церкви была одной из главных его забот. В этой связи проводится цикл мероприятий, направленных на осуществление этой цели. На Соборах 1547-го и 1549 годов было прославлено большое число русских святых, а многим местночтимым святым установлено общероссийское почитание. В середине — второй половине XVI века пишутся Великие Четьи Минеи, Степенная книга царского родословия, создается Лицевой летописный свод. Оригинальный вариант представляет житийный цикл митрополита Алексия в Лицевом летописном своде. В состав Лицевого свода, выполненного в 1570-е годы,18 входило несколько иллюстрированных житий19, среди которых было и "житие митрополита Алексея"20. "Повести о митрополите Алексии" уделено в составе Лицевого летописного свода 56 листов (Остермановский I, л.727об. —л.756), которые проиллюстрированы 55-ю миниатюрами21. В основе миниатюр "Повести" лежит уже не Пахомиевская редакция жития, а четвертая редакция жития митрополита Алексия, специально составленная в 1526—1530 годах для Никоновской летописи. Житие представляет собой компиляцию нескольких источников, главными из которых служили первоначальный летописный рассказ и редакция "Жития Пахомия Логофета"22. "Житие митрополита Алексия", входящее в состав Никоновской летописи, существенно отличается от Пахомиевского прежде всего по составу: какие-то эпизоды, описанные у Пахомия, здесь отсутствуют, и наоборот, появляются новые. Не совпадают и некоторые исторические факты жизни святителя23. Соответственно, это различие текстов отразилось и на иллюстрациях к "Повести о митрополите Алексии". По сравнению с иконой лицевое житие содержит большее количество эпизодов, преимущественно за счет новых, никогда не иллюстрировавшихся на иконах. Эти эпизоды связаны с исторической и политической ситуацией при рождении будущего святителя Алексия его детстве (л.728об.—732об.), с пребыванием Алексия в Богоявленском монастыре вместе со Стефаном, братом 109 преп. Сергия Радонежского (733об.—736об.), последней литургией святителя (л.752об.) Те же эпизоды, которые уже встречались в составе житийных икон, также были расширены за счет дополнительных сцен. Такое подробное представление эпизодов "Жития святителя Алексия" в Лицевой "повести" связано с тем, что текст требовал всеобъемлющего иллюстрирования, соответствовавшего общим требованиям создателей Лицевого свода. Практически все композиции миниатюр многофигурные, в каждой из них заклюючены по два-три эпизода. Миниатюры, предваряющие текст, представляют зрителю такое же повествование, какое читателю является в словах. Художники не оставили без внимания ни один скольконибудь значимый эпизод повествования. Не упускается ни одна деталь текста. Такая подробная фиксация событий соответствует и общим принципам иллюстрирования Лицевого свода, и характерной для всего искусства позднего Средневековья повествовательности его языка. Сравнительный анализ некоторых аналогичных сцен на иконе из Успенского собора и миниатюрах "Повести" показал разницу в интерпретации одних тех же событий художниками конца XV и конца XVI веков. В качестве примера можно рассмотреть одну из самых известных сцен из жития митрополита Алексия — исцеление Тайдулы. В Лицевом своде она представлена на лл. 745об.—747об. На миниатюре л.745об. иллюстрируется моление митрополита Алексия перед отъездом в Орду. В целом, по содержанию сцена схожа с аналогичной на иконе из Успенского собора (в 9-м клейме иконы Дионисия перед закрытой гробницей святителя Петра предстоит св. Алексий с молящимися). Однако дополнительные детали на миниатюре чуть смещают акценты. В центре композиции изображена сильно горящая свеча на массивном подсвечнике. Она делит композицию на две части: справа от свечи в позе моления изображены св. Алексий и священнослужители, один из которых указывает митрополиту Алексию на святыни, расположенные слева от свечи. Там показан пятиглавый храм, Успенский собор, на котором помещена икона "Богоматерь-Умиление". В проеме храма изображена гробница святителя Петра-чудотворца. Видна только верхняя половина этого ложа с лежащим на нем святителем, все 110 остальное перекрыто восточной, абсидальной частью храма. Наполовину загорожен абсидальной частью и престол с литургическими сосудами, расположенный прямо перед ложем Петра. Свеча, которая стоит на одном возвышении с престолом, объединяет собою все изображенные святыни. Язык ее пламени почти касается и иконы Богородицы, и ложа святителя Петра, указывая на их связь. Поэтому сказать определенно, на какую именно святыню указывает человек, стоящий рядом со св. Алексием, трудно. В верхнем левом углу несколько человек готовят "потребное к путному шествию...". Таким образом, если в иконах важно было показать силу молитвы святителя Алексия, то в миниатюрах центральными являются главные святыни Московского царства, находящиеся в Успенском соборе Московского Кремля, где и происходил молебен. И несмотря на то, что сам текст (л.745об.) — "нача пети молебен в церкви Пречистыя Богородице соборней" (выделено мною. — Г. Н.) — предполагал конкретизацию места моления без детализации24. Акцент здесь ставится на святынях, хранящихся в главном соборном храме. Их почитание ко второй половине XVI века, времени составления Лицевого свода, достигает особой силы и связано с общей политической программой, включающей в том числе собирание и прославление национальных святынь. Это предположение подкрепляет сцена "исцеление Тайдулы" на л.747об. На иконе (11-е клеймо иконы Дионисия) в центре митрополит Алексий окропляет водой чуть приподнявшуюся на ложе с помощью служанки Тайдулу. За святителем стоят прислуживающие ему церковнослужители. В аналогичной сцене миниатюры (л.747об.) в центре мы опять видим ту же самую свечу на подсвечнике. Она четко делит ее на две части: справа Алексий со спутниками, за его спиной на здании помещена та же икона Богоматери, но в зеркальном виде (Младенец слева от Богородицы). Святитель окропляет святой водой Тайдулу — она с женами стоит по другую сторону от свечи. В верхнем левом углу сцены удивляющийся царь Джанибек. Здесь не только прямая иллюстрация текста л.747об.: "и свещу воска оного иже о себе зажжеся и тамо повеле зажещи и покропи Тайдалу царицу священною водою". Важно заметить, что в тексте прямо не говорится об иконе или о самой Богородице, однако дается намек на чу111 до, происшедшее именно благодаря целительной силе главных русских святынь — иконы Богоматери Владимирской и святителей Петра и Алексия25. Апофеозом темы, связанной со святителем Алексием, является изданная Обществом любителей древнерусской письменности (ОЛДП) в 1887 году Лицевая рукопись с 225 миниатюрами "Жития митрополита Алексия" и предварительно датированная издателями началом XVII века26. Современные ученые по-разному датируют эту рукопись. Началом XVII века датировал ее, вслед за Н. П. Лихачевым, Г. В. Попов27. Он упомянул эту Лицевую рукопись в научно-справочном аппарате к факсимильному изданию миниатюр конца XVI века "Повести о Зосиме и Савватии". Ученый поставил это "Житие" в ряд лицевых рукописей XVI — начала XVII веков, вышедших из той же знаменитой царской книгописной мастерской, где создавался и Лицевой летописный свод. В противовес мнению некоторых ученых, которые считали, что царская мастерская распалась после того, как работы над Лицевым сводом были прерваны в 70—80-е годы XVI века, Г. В. Попов на основании некоторых типологических и стилистических признаков этих рукописей высказал предположение, что эта мастерская выполнила еще группу заказов (среди которых была и специально рассматриваемая им "Повесть о Зосиме и Савватии"). Лицевое "Житие митрополита Алексия", по его версии, завершало эту группу рукописей, являясь одной из последних работ этой мастерской. Ю. А. Грибов28 на основании анализа водяных знаков обосновал другую датировку этой рукописи — 30—40-е годы XVII века. Вместе с тем можно предположить, что данный памятник воспроизводит протограф, который связан с рубежом XVI — XVII веков, когда были созданы и другие памятники знаменитой царской мастерской. Это Лицевое житие митрополита Алексия иллюстрирует текст "Степенной книги царского родословия", созданный еще в 1560-е годы XVI века, где вся история России была представлена как непрерывная цепь взаимодействия священства и царства, как история генеалогических колен ("степеней") русских князей от князя Рюрика и князя Владимира. Вместе с тем заглавия "степеней" ("граней") открываются именами митрополитов, которые вместе с князьями осуществляли политическое и духовное устро112 ение Руси. В частности, одиннадцатая степень посвящена царствованию великого князя Дмитрия Ивановича и открывается "Житием митрополита Алексия". Примечательно, что Лицевое "Житие митрополита Алексия" (ОЛДП), до сих пор еще не привлекавшее к себе серьезного внимания исследователей, содержит упоминания большого числа русских государственных деятелей — великих князей и царей русских и митрополитов. В контекст "Жития митрополита Алексия", и этапов его прославления включена русская история середины XIV — конца XVI веков. Начинается "Житие" повествованием о рождении будущего святителя и завершается устроением драгоценных рак святителю царем Федором Ивановичем и переложением туда мощей святителя Алексия царем Борисом Годуновым. Последние события происходили в конце XVI века. Серебряную раку для мощей святителя Алексия начали сооружать в 1596—1597 годах. Работа продолжалась несколько лет и завершилась уже в царствование Бориса Годунова около 1600 года. Создание раки святителю Алексию входило в ряд мероприятий Федора Ивановича, объединенных обширной программой создания рак русским чудотворцам и связанной (как это было и в правление Василия III) с молением о чадородии, о рождении будущего престолонаследника29. А в 1596 году, практически одновременно с сооружением раки, был установлен совместный праздник трем святителям Московским: Петру, Алексию и Ионе. Несколькими годами ранее, в 1589 году, на заседании освященного Собора с участием не только византийского патриарха Иеремии II, но и других представителей греческого духовенства состоялось наречение митрополита Иовы Патриархом. 26 января 1589 года митрополит Иов в Успенском соборе был поставлен в московские патриархи. Таким образом, обращение к личности митрополита Алексия в различные ответственные моменты русской истории, в том числе и в конце XVI века, было весьма актуально для заказчиков и иллюстраторов протографа "Лицевого жития митрополита Алексия". К авторитету и покровительству святителя Алексия вновь обратились в 30—40-х годах XVII века, когда, вероятно, была выполнена копия "Лицевого жития митрополита Алексия", иллюстрирующего одиннадцатую степень "Степенной книги царского родословия". Это было время правления первого царя из дина113 стии Романовых, Михаила Федоровича (1613—1645), а фактически периодом царств двух государей: царя Михаила и патриарха Филарета, который занял особое место в системе власти Русского государства. Будучи отцом царя по крови и его наставником в светских и духовных делах, Филарет оказался в положении соправителя страны, что отразилось в именовании его "великим государем". Филарет и Михаил явили единомыслие в политических делах. При двоевластии государственные грамоты писались от имени Государя Царя и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Возможно, что именно Филарет своей деятельностью подготовил почву для событий середины XVII века — времени правления царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, когда идея симфонии светской и царской власти в очередной раз приобретает особую актуальность. Таким образом, обращение к личности митрополита Алексия всегда было связано с важными, зачастую переломными моментами русской истории, например, в период автокефалии при святителях Ионе и Макарии (1542—1563), при учреждении патриаршества, а также в XVII веке после Смутного времени. После середины XVII века о создании значительных житийных циклов, посвященных святителю Алексию, неизвестно. Сохранилось только несколько посвященных ему житийных икон конца XVI—XVII веков30. По своей иконографии клейма житийных икон митрополита Алексия восходят к аналогичным клеймам иконы Дионисия. Как мы уже упоминали выше ,она явилась образцом для всех последующих житийных икон святителя. Однако сопоставление надписей клейм некоторых икон с текстом Пахомиевской редакции показало несоответствие изложения событий жизни святителя Алексия в клеймах икон и тексте жития31. Кроме того, в нескольких случаях при таком содержании клейм в самом их порядке расположения прослеживается хронологическая непоследовательность. Однако более очевидную зависимость некоторые из житийных икон обнаруживают от текстов поздних редакций "Жития митрополита Алексия" — редакции XVI века, включенной митрополитом Макарием в "Степенную книгу" и редакции конца XVII века, написанной, по предположению В. О. Ключевского32, известным справщиком книг и сотрудником Епифания Славинецкого иноком Чудова монастыря Евфи114 мием33 между 1686-м и 1697 годами при патриархе Адриане. В этом Житии, кроме предыдущих редакций и летописных сведений, автор использовал грамоты и документы XIV века, в том числе рассказ о переводческих трудах святителя. Правда, фактическое содержание редакции также не прояснило биографию святого, даже несмотря на обилие источников. Акцент в этой редакции сделан не на чудесах святителя, а на его общественной деятельности. Эта редакция конца XVII века вместе с осуществленной в 1695 году Дмитрием Ростовским обработкой "Жития святителя" были последними всплесками интереса к личности митрополита Алексия. Это могло быть связано с тем, что с наступлением Синодального периода в жизни церкви необходимость согласованных действий церковной и светской власти становится неактуальна. Приходит конец тех форм, в которые облекалось сотрудничество духовной и светской власти. Значение фигуры святителя Алексия подчеркивает то обстоятельство, что крупнейшие события Русской церкви всегда ассоциировались и с его именем. В периоды проявления этого интереса житийные циклы митрополита Алексия неизменно обогащались новыми эпизодами его жития. Несомненно, митрополит Алексий является одной из самых значительных фигур в истории Русской Православной церкви, подтверждением чего являются многочисленные храмы с посвящением святому34, различные редакции жития, иконы и Лицевые списки жития. Эти памятники помогают воссоздать общую картину бытования иллюстрированных циклов жития святителя. Маясова Н.А. Древнерусское шитье. М., 1971. Табл. 5, 14. Турилов А.А. Алексий, святитель, митрополит всея Руси. // Православная энциклопедия. М., 2000. Т.1. С.643. 3 См: Первоначальная (краткая) редакция "Жития митр. Алексея" // Клосс Б.М. Очерки по истории русской агиографии: Избранные труды. М., 2001. Т.2С.49-59. 4 Прохоров Г.М. Алексей (Алексий), митр. всея Руси // СККДР. Вып.2. Ч.1. С.243-244. 5 Там же. С.244 6 Все исследователи литературных сказаний, посвященных св. Алексию, начиная с В. О. Ключевского, обращали внимание на несовпадение времени обретения мощей (1438 г.) со временем правления митрополита Фотия (до 1431 г.), при котором, согласно источникам, произошло это обретение. См.: Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. С.132. 1 2 115 Долгое время считалось, что первоначальная редакция "Жития св. Алексия", находящаяся в летописях Симеоновской и Рогожском Летописце, принадлежит перу Питирима, и лишь недавно Р. А. Седова обнаружила два списка редакции "Жития святителя" авторство которой, скорее всего, принадлежит еп. Питириму. См.: Седова Р. А. К вопросу о первоначальной редакции "Жития митрополита Алексия", созданной Пермским епископом Питиримом // Макариевские чтения. Можайск. 1998. Вып 5. С. 351-364. 8 Синицина Н. В. Русская Церковь в период автокефалии. Учреждение патриаршества. // Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 61. 9 Пресняков А.Е. Московское царство. Пг., 1918. С.69 10 См.: Турилов А.А. Алексий, святитель, митрополит всея Руси. С. 640. 11 ПСРЛ Т11. СПб. 1892. С. 2-4. 12 Там же. С. 6. 13 Прохоров Г.М. Алексей (Алексий), митр. всея Руси... С.244. 14 Нерсесян Л.В. Святой митрополит Алексий с житием // Дионисий — "живописец пресловущий": К 500-летию росписи Дионисия в соборе Рождества богородицы Ферапонтова мон.: Выставка произведений древнерусского искусства XV—XVI вв. из собрания музеев и библиотек России. М., 2002. Кат.№ 3. С.88-91. 15 Там же. Здесь приведена наиболее полная библиография по данной иконе. 16 Малков Ю.Г. Стенопись собора Рождества Богородицы на Возмище в Волоколамске. (Предварительная публикация) // Древнерусское искусство: Исследования и атрибуции. СПб.,1997.С. 267-285. 17 ПСРЛ Т13. М., 1965. Ч.I. C.91-92. 18 Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998. С.221-222. 19 Например, "Житие Александра Невского" (или сказание "О велицем князе Александре Ярославиче" (Лаптевский лл.898—915об), "О епископе Стефане Пермском" (Остермановский II лл. 571—677об.), "Повесть древняя списанная о жизни Михаила Александровича Тверского" (там же лл.619об.— 625об.), "Вмале сказание о княгине Евдокии... супружнице достохвального вел. кн. Дмитрия Ивановича Донского" (там же, лл 703об.—709об.) и др. 20 БАН ОР. 31.7.30. 21 Также в Лицевом летописном своде имеются миниатюры, иллюстрирующие отдельные летописные известия о митрополите Алексии, дополняющие его жизнеописание еще целым рядом эпизодов. 22 ПСРЛ Т 11. СПб., 1897. С.29-35. 23 Надо сказать, что, еще начиная с В. О. Ключевского, многие исследователи, обращавшиеся к различным текстам редакций "Жития святителя Алексия", отмечали крайне запутанный характер его жития, "фактическое содержание которого представляет много темных мест" см.: Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С.132. Обилие источников не только не помогло новому редактору исправить ошибки прежних, но, как отметил еще В. Ключевский, "напротив, ввело его в новые: он приводит известие Епифания, что в начале княжения Симеона, брат Сергия Стефан застал 7 116 еще Алексия в Богоявленском монастыре, и однакож откуда-то выводит, что Алексий был наместником у Феогноста 12 лет и 3 месяца, следовательно, взят из Богоявленского монастыря во двор митрополита еще в княжение Калиты. Точно также новый редактор насчитывает 4 года епископства Алексия во Владимире, хотя в том же Летописном своде, где помещена эта редакция, сказано, что Алексий поставлен во епископы 6 декабря 1352 года, за 3 месяца до смерти Феогноста, после которой он вскоре поехал в Царьград ставиться в митрополита" // Там же. С.245. Примечание 1. 24 В "Житии Пахомия" текст отличается: "...и тако изыде в церковь съ всем причтомъ церковным, начат Пети молебен", — цитата дана по тексту жития редакции Пахомия Логофета посл. четв. XV в., подготовленному Р. А. Седовой и Л. И. Щеголевой // Житие святителя Алексия. Московский Патерик. Церковно-научный центр "Православная Энциклопедия". М., 2003. С.150-189. 25 Интересно, что на иконе XVII в. из Русского музея сцена моления перед отъездом в Орду (13-е клеймо) иконографически более близка к аналогичной сцене на иконе Дионисия, чем к сцене Повести, однако молебен перед закрытой гробницей св. Петра происходит на фоне храма, на котором помещена икона Богоматери с Младенцем в иконографическом типе Умиление, а перед иконой — горящая свеча. Изображение сопровождается надписью: "молится стый Алексий пресвятей Богородицы (подчеркнуто автором. — Г. Н.) и загореся свеща Петра чюдотворца". Можно предположить, что на иконографию клейма этой иконы повлияла аналогичная сцена из Лицевого свода, но смысл размещения в клейме иконы Богородицы поменялся. Здесь уже акцент не на святыне, находящейся в Успенском соборе, а на молитве святителя Алексия к самой Пречистой Богородице. 26 Житие митрополита Всея Руси святого Алексия, составленное Пахомием Логофетом СПб., 1877—1878. Вып. 1-2. 27 Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч. 1. С. СLXVII. Попов Г.В. Книжная культура XVI века и художественное оформление повести о Зосиме и Савватии // Повесть о Зосиме и Савватии: Научно-справочный аппарат. М., 1986. С. 73-103. 28 Грибов Ю.А. Образ Ивана Грозного в трактовке посадских художников последней четверти XVII в. // Народное искусство России: Традиции и стиль // Труды ГИМ. М., 1995. №86. Исследователь затронул вопрос датировки "Жития митрополита Алексия" попутно, т.к. основной целью его исследования был анализ образа Ивана Грозного, изображение которого содержится в этом житии и ряде других лицевых рукописей. 29 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. М., 1996. С.18-48. 30 Икона "св. Алексий с житием" XVI в. из Сольвычегодского Благовещенского собора// Иконы Строгановских вотчин XV—XVII вв.: По материалам реставрационных работ ВХРНЦ им. академика И. Э. Грабаря: Альбом-Каталог. М., 2003. С.32-33; Икона "св. Алексий с житием" XVII в. из Зачатьевского монастыря// Инв.№ НДМ 6226. Икона не опубликована. Благодарю М. М. Шведову за возможность ознакомиться с памятником; Икона XVII в. Трех святителей Московских с клеймами их жития из собрания ГРМ//ДРЖ 1507. Происходит из бывшего собрания Мараевых. В музей поступила из Государственных реставра- 117 ционных мастерских. Икона не опубликована. Благодарю И. В. Соловьеву за возможность ознакомиться с памятником; Икона "св. Алексий с житием" из Чудова монастыря XVII века // К сожалению, сама икона не сохранилась, имеется только ее черно-белый снимок в фототеке ГТГ (благодарю сотрудников фототеки ГТГ за возможность ознакомиться с фотокопией иконы). Стилистически памятник можно отнести к концу XVI — началу XVII в., хотя более точно определить время создания иконы трудно, из-за не очень качественного воспроизведения памятника. Впервые на этот памятник указал И. А. Кочетков. См.: Кочетков И.А. Иконописец как иллюстратор жития // ТОДРЛ. М., 1981.Т 36. С. 339-340. 31 Икона "св. Алексий с житием" XVII в. из Зачатьевского монастыря, икона "св. Алексий с житием" из Чудова монастыря XVII века. 32 Ключевский В. О. Древнерусские жития... С. 355-356. 33 Печатное издание этой редакции: Службы и акафист иже во святых отцу нашему Алексию митрополиту, всея России чудотворцу. М., 1891. 34 Перечень храмов, посвященных святителю Алексию см.: Турилов А.А. Алексий, святитель, митрополит всея Руси...С. 645. 118 Н. Ю. Вавилина ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ КВАТРОЧЕНТО. ПЕРСПЕКТИВА И СЦЕНОГРАФИЯ Паоло Учелло, с именем которого связывают первые опыты практического применения линейной перспективы, был, как известно, очарован и всецело захвачен этим методом изображения трехмерного пространства на плоскости. Если верить Джорджо Вазари, художник с утра и до ночи упражнялся в том, что мы бы сейчас назвали начертательной геометрией, а на все увещевания собственной жены восклицал: "Какая сладостная вещь — перспектива!". Спустя ровно пятьсот лет французский поэт Гийом Аполлинер, обращаясь к своим друзьям, художникам-кубистам, с не меньшим пылом воскликнет: "Еще одно небольшое усилие — и мы освободимся от перспективы! От этого жалкого трюка перспективы, от этого четвертого измерения, вывернутого наизнанку, от этого приема, неотвратимо все уменьшающего!". За пятьсот лет обожание перешло в ненависть, а "сладостная вещь" превратилась в "жалкий трюк" — казалось бы, печальный, но вполне предсказуемый с точки зрения диалектики итог. Однако теперь за нашими плечами осталось еще одно непростое столетие. Абстрактное искусство и квантовая физика, освоение космического пространства и теория относительности, наконец, философия нестабильности с ее отрицанием строгого детерминизма и признанием роли случайности — все это не могло прямо или опосредованно не повлиять на мировосприятие современного человека. Тем не менее, проблема остается открытой и, как это ни странно звучит, недостаточно изученной. Прошел период поклонения линейной перспективе, пережита эпоха ее уничижения. Остались в прошлом и жаркие споры о том, что скорее заведет 119 искусство в тупик: иллюзорная живопись или абстракционизм. Видимо, настало время переосмыслить многое из того, что казалось очевидным, сохраняя, насколько это возможно, объективность и беспристрастность. Первая научная конференция, посвященная перспективе, прошла в 1977 году. Тогда же был определен и основной круг вопросов, касающихся данной проблемы, многие из которых и по сей день остаются неразрешенными1. Даже сам факт "открытия" или "изобретения" линейной перспективы в первой половине XV века подвергается сомнению, поскольку изучение средневековых трактатов по оптике убедительно доказывает наличие уже в XIV веке обширной теоретической базы для "изобретения" подобного рода2. Вслед за многими другими исследователями мы закавычиваем слова "изобретение" и "открытие". Признав, что перспектива была "изобретена", мы тем самым признаем и ее абстрактновымышленную, искусственную природу. В случае же "открытия" перспективы приходится отнести ее к существующему объективно (то есть и вне человеческого сознания) закону природы. И здесь мы неизбежно вторгаемся на территорию психологии восприятия, позволяющей судить о субъективности-объективности нашего мировосприятия. Так или иначе, но горячность Учелло, превозносящего перспективу, и Аполлинера, отвергающего ее, свидетельствует о том, как долго этот способ изображения трехмерного пространства на плоскости властвовал в искусстве (и не только искусстве) западной цивилизации. Лишь в 20-е годы прошлого столетия книга "Перспектива как "символическая форма" Эрвина Панофского подвела определенный итог этому многовековому господству. Панофский высказал идею, кажущуюся сегодня очевидной, о природе перспективы: "Конечно, само по себе это не художественное, а чисто математическое явление, так как с полным правом можно сказать, что большая или меньшая погрешность или даже полное отсутствие перспективной конструкции не имеет никакого отношения к художественной ценности (как, разумеется, и наоборот, строгое соблюдение перспективных законов никоим образом не вредит художественной "свободе"). Однако если перспектива не является элементом ценностным, то она все же элемент стилистический"3. Это замечание, по сути, 120 снимает проблему "правильности" или "неправильности" той или иной системы восприятия и изображения пространства. Линейная перспектива становится лишь одним из способов такого изображения. При этом ни в коем случае нельзя умалять ее огромной культурно-исторической роли, о которой говорят практически все исследователи данного феномена: "Этот экспериментально-математический вымысел смог оказать неоспоримое влияние на культуру, философию и искусство Раннего Возрождения, когда — вспомним Брунеллески, Альберти, Тосканелли — “эксперимент и разум начинают сотрудничать”"4. Искусственный, абстрактно-вымышленный характер перспективы, позволяющей создавать некую уменьшенную модель мира, зачастую вызывал сопоставления с иллюзорным и смоделированным миром театра. "Обратная перспектива" Павла Флоренского, написанная практически одновременно с "Символической формой" Панофского, основана на сопоставлении двух систем изображения: ренессансной живописи и иконописи. "Иллюзионистские обманы" линейной перспективы противопоставлены Флоренским образу иконы, увиденному "оком души" и запечатленному с помощью обратной перспективы. Флоренский заметил самую суть проблемы, а именно то, что источником линейной перспективы стало не реальное пространство, но некая искусственно созданная модель, чрезвычайно напоминающая театральную декорацию. "Корень перспективы — театр, не только по той простой причине, что театру впервые понадобилась перспектива, но и в силу побуждения более глубокого: театральности перспективного изображения мира"5. Так, появление перспективы у Джотто Флоренский связывает с влиянием мистерий, театральных декораций, автором которых был сам художник и его ученики. В доказательство своей гипотезы ученый ссылается на знаменитый трактат Витрувия, в котором само слово "перспектива" не употребляется, но из контекста ясно, что адекватной заменой ему служит термин "скенография". Действительно Витрувий в "Десяти книгах об архитектуре" (книга I, глава II) определяет сценографию как один из видов "архитектурного расположения": "Скенография есть рисунок фасада и уходящих вглубь сторон, путем сведения всех линий к центру, помеченному циркулем"6. Во вступлении к седьмой книге 121 он вновь обращается к данной теме, описывая представление трагедии Эсхила: "Впервые в Афинах, в то время, когда Эсхил ставил трагедию, Агафарх устроил сцену и оставил ее описание. Побуждаемые этим, Демокрит и Анаксагор написали по тому же вопросу, каким образом по установлении в определенном месте центра сведенные к нему линии должны естественно соответствовать взору глаз и распространению лучей, чтобы определенные образы от определенной вещи создавали на театральной декорации вид зданий и чтобы то, что изображено на прямых и плоских фасадах, казалось бы одно уходящим, другое выдающимся"7. Столь явное указание на принципы перспективы (сейчас, правда, все меньше исследователей придерживаются мнения, что Витрувий имеет в виду именно линейную перспективу), естественно, не могло остаться незамеченным, и за многовековую историю исследований, посвященных данной проблеме, не раз было истолковано в соответствии с той или иной научной или творческой концепцией. Подчеркнем, что Витрувий первостепенное значение придает именно театральной практике, считая все теоретические изыскания вторичными по отношению к ней ("побуждаемые этим, Демокрит и Анаксагор..."). Кроме Демокрита и Анаксагора изучением проблем, напрямую или косвенно связанных с перспективными построениями, занимались и другие философы и ученые античности. Учение о экстрамиссии, испускании глазом неких лучей, которые и моделируют образ предмета, ведет свое начало еще от Пифагора. Его приверженцем остается и Платон, полагающий: мир видимый не более, чем отражение реального мира идей. Аристотель, напротив, был скорее сторонником интрамиссии, то есть считал, что лучи испускают сами предметы, а глаз лишь воспринимает их. Спор о экстрамиссии и интрамиссии продолжился и в Средние века, причем на сторону Аристотеля стали не только ученые, занимающиеся оптикой и математикой, такие как Альхазен, Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон, но и, например, Фома Аквинский, живо интересовавшийся проблемой не только духовного, но и телесного зрения. Заметим, что проблема видимого мира и психологии восприятия была актуальна для Средневековья ничуть не меньше, чем для Нового времени. И в этом отношении классические наука и философия являлись базой куда более обширной, чем мы можем 122 предполагать. Считается, что оптика Эвклида, картография Птолемея и астрономия Гиппарха активно использовались в Средние века и вполне могли послужить основой для "изобретений" художников Кватроченто. Во всяком случае, некие фантастические прообразы таких оптических приборов, как телескоп и микроскоп, прочно связанных в нашем сознании с образом Нового Времени, фигурировали и в средневековых источниках. Например, в одной из многочисленных легенд о Роджере Бэконе, имя которого, как и имя всякого ученого, было окружено ореолом таинственности, сообщается: "У брата Бэкона было зеркало, исключительная природа которого была такова, что всякий мог увидеть в нем, что пожелает, на пятьдесят миль в округе"8. Известно, что не только мистическая символика зеркала, удваивающего видимый мир и создающего его уменьшенное подобие, но и его оптические свойства серьезно рассматривались в эпоху Средневековья9. В связи с этим представляется маловероятным, что художники Средневековья, опираясь на существующую теорию, не могли воспользоваться методом центральной проекции. Ничего не остается, как предположить, вслед за Панофским, что на тот момент время для именно этой "символической формы" еще не настало, в силу причин куда более глубоких, чем незнание, непонимание или неумение применить ее на практике. Считается, что сам термин perspectiva (от лат. perspicere — "смотреть сквозь, проникать взором, ясно, правильно видеть") впервые был употреблен Боэцием (480—524) в значении ars perspectiva, то есть "оптика". Заметим, что итальянский вариант термина ("prospettiva") происходит от слова prospicere, что означает не "видеть насквозь", но "смотреть вперед". С начала XIII века понятие perspectiva вошло в научный обиход, но необходимо отметить, что на протяжении двух столетий под перспективой понимали исключительно оптику, используя для ее обозначения термины perspectiva communis или perspectiva naturalis. В этот период выходит достаточно много философских и научных трудов, так или иначе затрагивающих проблему пространства и зрительного восприятия: "Liber Abbaci" и "Pratica Geometriae" Леонардо Фибоначчи, "Opticae thesaurus" Альхазена, "De sphaera" и 123 "De iride seu de iride et speculo" Роберта Гроссетеста, "De Scientia Perspectiva" Роджера Бэкона, "Perspectiva Libri X" Витело, "Perspectiva communis" Джона Пекама. Более того, данный смысл сохраняется и к началу XV века, когда художники-практики, подобные Учелло и Мазаччо, уже с успехом использовали перспективные приемы изображения трехмерного пространства на плоскости. Именно в этом значении следует понимать слово "перспектива", употребляемое в трактатах математика и астролога Бьяджо Пелакани да Парма и выдающегося инженера Паоло дель Поццо Тосканелли. По сути, лишь в работе "De perspectiva pingendi" Пьеро Делла Франчески, написанной в 1480 году, оно впервые было употреблено в современном значении. Впрочем, как известно, первое математическое толкование перспективного построения, предложенного специально для художников, изложил в своем трактате "О живописи" еще в 1440 году Леон Батиста Альберти. Приведем знаменитый отрывок из его книги, написанной на латыни и переведенной самим автором на итальянский язык специально для своего друга, знаменитого архитектора Филиппо Брунеллески, коему и был посвящен сам трактат. "Сначала там, где я должен сделать рисунок, я черчу четырехугольник с прямыми углами... и принимаю его за открытое окно, откуда я разглядываю то, что на нем будет написано... Затем внутри этого четырехугольника я устанавливаю точку, которая занимала бы то место, куда ударяет центральный луч, и поэтому я называю эту точку центральной..."10 О таинственном "окне" Альберти споры ведутся и по сей день. Достаточно простое геометрическое построение наделяется глубоким символическим ("символическая форма"!) смыслом, а первый опыт его применения на практике воспринимается, по замечанию Сэмюэля Эдгертона, как "выдающееся событие, которое в корне изменило не только образ жизни, но и едва ли не ход европейской истории"11. Вопрос в том, было ли это изобретение действительно изобретением художников Кватроченто, если им с успехом пользовались еще Дуччо и Джотто? По легенде впервые линейную перспективу применил Филиппо Брунеллески за несколько лет или даже десятилетий до теоретической работы Альберти. Именно флорентийскому архитектору присваивают титул изобретателя перспективы. 124 В трактате об архитектуре Антонио Аверлино Филарете, написанном в 1461 году, автор употребляет выражение "эта перспектива" уже в новом, истинно ренессансном значении, имея в виду так называемую perspectiva artificialis, живописную линейную перспективу. Спустя два десятилетия после смерти Брунеллески Филарете вспоминает о его опыте с зеркалом (речь идет об одной из так называемых "демонстраций" или "ведут" с изображением флорентийского баптистерия и Палаццо Веккьо), якобы позволившем "обнаружить", то есть увидеть перспективное сокращение параллельных линий. Первый биограф Брунеллески, Антонио ди Туччо Манетти, в 1480 году опубликовавший "Жизнеописание" архитектора, не просто дает подробное описание данных "демонстраций", но уже без тени сомнения утверждает, что именно эти опыты позволили "изобрести" перспективу: "В первый раз он (Брунеллески) применил перспективу в небольшой картине на квадратной доске размером в половину брачча, где он изобразил наружный вид храма Сан Джованни во Флоренции... с таким прилежанием и тщательностью, что лучше бы не сделал даже миниатюрист... Чтобы представить небо, он поместил в том месте, где здания вырисовываются в воздухе, отполированную серебряную пластинку так, что в ней отражался настоящий воздух и проплывали гонимые ветром облака"12. Для проведения опыта необходимо было зеркало, глядя в которое через отверстие в картине, имеющее конусообразную форму (диаметром около 2 см с оборотной стороны картины и сужающееся до размера "чечевичного зерна" к наружной стороне), наблюдатель, стоявший в центральных дверях собора Санта Мария дель Фьоре, мог совместить нарисованное изображение с реальным видом на баптистерий. Таким образом, возникала полная иллюзия глубины и реальности рисунка. По мнению итальянского исследователя Рэнцо Бельтраме, Брунеллески таким образом не столько демонстрировал перспективное построение, сколько наглядно доказывал, что с помощью такого построения можно создать иллюзорный мир, подобный реальному, то есть демонстрировал, как сознание человека "воссоздает" трехмерное пространство из двухмерного изображения. Бельтраме, внимательно изучив текст Манетти, пришел к выводу, что его толкование как итальянскими, так и зарубежными учеными было 125 ошибочным. В частности, фраза "una tauoletta di circha mezo braccio quadro", переводимая и толкуемая всеми как "квадратная доска, размером в половину брачча", на самом деле означает "доска, размером в половину квадратного брачча". Термин braccio quadro широко использовался в эпоху Кватроченто именно для обозначения площади. Таким образом, проведя убедительные математические расчеты, Бельтраме доказал, что дощечка Брунеллески была не квадратной, а прямоугольной, со сторонами примерно 35 и 47 см. Кроме того, отверстие располагалось отнюдь не в центре картины, на пересечении диагоналей, а значительно ниже13. Вторая демонстрация (Манетти это особо подчеркивает) проходила уже без применения зеркала. По словам биографа, картина с изображением площади перед Палаццо Веккьо "получилась слишком большой", так что ее неудобно и тяжело было держать в одной руке (в другой руке наблюдателя по логике эксперимента должно было находиться зеркало). Дабы подчеркнуть иллюзию реальности, Брунеллески "по верхнему очертанию зданий вырезал доску таким образом, чтобы над ними было видно настоящее небо" (в первой ведуте небо и проплывающие облака отражались в отполированной серебряной пластине). Трудно предположить, что, задумывая серию опытов с зеркалом, Брунеллески во втором случае не учел размеров картины и тем самым нарушил логику эксперимента. Либо две ведуты не были связаны друг с другом, либо цель демонстраций заключалась в чем-то ином, а не в наглядном обосновании законов линейной перспективы. Еще один вопрос, который возникает в данном случае перед исследователем: почему Брунеллески никому не раскрыл секрет своих опытов? Ведь тогда никто бы не попытался оспорить его право изобретателя или первооткрывателя перспективы! Флорентийский инженер Таккола указывает доводы, якобы приведенные самим архитектором. Брунеллески сетует на то, что сначала изобретателя принимают с недоверием и пытаются всячески принизить значение открытия, а потом, спустя несколько месяцев или лет, начинают пользоваться его плодами, упоминая при случае в беседе, в переписке, применяя в собственных чертежах. Одним словом, проблема, имеющая отношение скорее к психологии поведения, нежели восприятия. Впрочем, ряд современных исследователей проецирует ее на самого Брунеллески, полагая, что 126 он специально окружил свои эксперименты ореолом таинственности, дабы придать им научную значимость, коей они на самом деле не обладали. Так, американский исследователь Лайнс считает, что Брунеллески выдавал желаемое за действительное, провозглашая себя изобретателем перспективы, тогда как в действительности он лишь применил некий эмпирический метод, не подкрепленный научной теорией. Психологи Кьюбови и Тайлер вообще ставят флорентийскому архитектору серьезный диагноз, утверждая, что его коварство и стремление к первенству носили "квазипараноидальный" характер14. Заметим, что стремление к первенству — одна из характерных черт эпохи Кватроченто, а желание современных исследователей непременно установить личность изобретателя перспективы — тоже своего рода идея фикс. Кроме того, столь беззастенчивая подтасовка фактов была бы возможна лишь в том случае, если бы экспериментатора окружали люди, чьи интересы чрезвычайно далеки от области исследования. В окружении Брунеллески отнюдь не было доверчивых невежд. Проблемами зрительного восприятия и перспективы напрямую занимались его ближайшие друзья: гуманист Леон Батиста Альберти и талантливый инженер и математик Паоло дель Поццо Тосканелли (С. Эдгертон и А. Парронки считают, что именно Тосканелли подсказал архитектору идею эксперимента). Есть и еще одно предположение о причине повышенной секретности, окружающей опыты Брунеллески. По мнению психолога Уормана Уэлливера, перспектива изначально стала своего рода секретным кодом, шифром, позволяющим художникам Кватроченто скрывать тайные аллюзии и мистический смысл их произведений. В последнее время у большинства исследователей уже не вызывает сомнения тот факт, что демонстрация линейной перспективы способами, описанными Манетти, маловероятна. Следует признать, что на основании имеющихся фактов мы вправе лишь строить гипотезы, не отвергая ни один из возможных вариантов. На наш взгляд, остроумно и вполне обосновано предположение, согласно которому обе ведуты были не чем иным, как эскизами... театральных декораций. По мнению ряда исследователей, изображение баптистерия (во Флоренции XV 127 века его считали древним храмом Марса) предназначалось для представления трагедии, а Палаццо Веккьо (относительно современное здание) — для комедии. Принимая подобную точку зрения, следует признать тот факт, что Брунеллески и его окружение хорошо знали трактат Витрувия, в частности, подробно изучили главу, посвященную сценографии, что, по ряду свидетельств, было вполне возможно. Вазари в числе прочих заслуг Брунеллески указывает и на то, что архитектор первым сконструировал "ingegni" (театральные механические декорации) для уличных празднеств и шествий. В сохранившемся описании празднества, проходившего во Флоренции в 1454 году, в день летнего солнцестояния (скорее всего, это было традиционное шествие в честь Иоанна Крестителя), рассказывается в числе прочего о повозке-декорации, представляющей собой восьмиугольный храм, семь сторон которого занимали семь персонифицированных Добродетелей, а восьмую — Дева Мария15. Несомненно, что восьмиугольное здание во Флоренции напрямую ассоциировалось с баптистерием Сан Джованни. Известно, что Брунеллески в течение долгого времени был приором квартала Сан Джованни и, следовательно, по долгу службы должен был заниматься организацией традиционного празднества. По свидетельству Вазари, и после смерти архитектора большинство его "ingegni" оставались действующими элементами флорентийских представлений и периодически реставрировались и подновлялись16. В любом случае, эксперименты оптические (с зеркалами) и сценографические питались общей творческой и философской атмосферой, царившей в городе. Эудженио Батисти предположил, что "ведуты" Брунеллески могут быть связаны со знаменитой "Новеллой о Грассо" ("La Novella del Grasso Legnaiuolo"), главными действующими лицами которой являются сам Брунеллески, его друг и по логике действия сообщник Донателло, а также их ближайшие приятели и вовлеченные в хорошо продуманную и сложную мистификацию флорентийцы17. Сюжет в кратком изложении таков. Однажды резчик по дереву Манетто Амманатини, прозванный Грассо ("Толстяк"), не явился на дружескую пирушку, чем вызвал справедливое негодование собравшихся, среди которых на его беду оказался и Брунеллески, предложивший в наказание за необязатель128 ность разыграть Грассо. На следующий день Брунеллески, предварительно показавшись Манетто Амманатини на глаза, заперся в его доме, и когда тот, вернувшись после трудового дня, попытался открыть собственную дверь, искусно подделал голос хозяина и назвал его именем Маттео. Грассо, услышав самого себя, обращающегося к самому себе же, но под чужим именем, был немало озадачен. В это время явился Донателло и тоже назвал резчика именем Маттео. В полной растерянности, желая уже самому себе доказать, что он никакой не Маттео, а Манетто, Грассо направился к Баптистерию, ожидая встретить там знакомых, которые развеют его сомнения. Вместо таковых к резчику подошли судебный пристав с шестью стражниками, объявили его не просто Маттео, но злостным должником Маттео и под этим предлогом отвели в тюрьму. Проведя безумный день в каземате, Манетто, уже почти уверовавший в то, что он Маттео, был выпущен под залог. Затем в питье бедняге подсыпают опий и сонного переносят в его собственный дом. Грассо просыпается, чувствуя великую радость от того, что все вернулось на свои места, но тут один за другим начинают возникать участники предыдущего действа, со всевозможными яркими подробностями пересказывая невероятную историю о должнике Маттео, который, спасаясь от кредиторов, весь день выдавал себя за Грассо. В голове несчастного резчика все окончательно путается, и только спустя несколько дней он догадывается, какую злую шутку сыграли с ним приятели. По мнению Баттисти, перед нами жестокий, но чрезвычайно грамотно выстроенный опыт из области психологии восприятия. Сначала Манетто думает, что он и есть Манетто, потом он начинает считать себя Маттео, а уже затем узнает, что это Маттео выдавал себя за Манетто, а не наоборот. Точка зрения в ходе эксперимента несколько раз кардинально меняется, в результате чего в сознании бедняги резчика полностью искажается картина мира. Отсюда вывод, схожий с сутью оптических экспериментов: положение наблюдателя относительно наблюдаемого предмета играет основополагающую роль в его восприятии. Лишь центральная проекция, напрямую устанавливающая связь субъекта с объектом, передает действительность не искаженной. Совсем недавно преподаватель истории искусств в Венском университете Фридрих Тейя Бах (Friedrich Teja Bach) высказал 129 чрезвычайно интересное предположение. По его мнению, шутка Брунеллески действительно тесно связана с его оптическими (перспективистскими) экспериментами. Кроме того, общей теоретической основой для проведения двух психологических опытов послужил платоновский диалог "Кратил" о "правильности именований"18. На первый взгляд, подобное толкование кажется невозможным. Ведь всеобщее увлечение Платоном охватит Флоренцию несколько десятилетий спустя, но обратимся к тексту самого диалога, в котором Сократ, выступая носителем идей Платона, пытается растолковать философу Кратилу (тому самому Кратилу, который утверждал, что и в одну реку нельзя войти дважды) суть собственной теории имен. Речь идет о том, кто может присваивать имена, и насколько имя соответствует сути того, к чему оно относится. С о к р а т. А согласен ли ты, что имя есть некое подражание вещи? К р а т и л. В высшей степени. С о к р а т. Не полагаешь ли ты, что и живописные изображения — это подражания каким-то вещам, но подражания, выполненные неким иным способом? К р а т и л. Да19. (...) С о к р а т. (...) Разве нельзя подойти к мужчине и со словами: "Вот твое изображение" — показать ему что придется: либо его изображение, либо жены? Показать — я имею в виду заставить его воспринять это зрительно. К р а т и л. Разумеется, можно. С о к р а т. А подойти к нему же и сказать: "Вот твое имя"? Ведь имя тоже в некотором роде есть подражание, как и картина. Так вот, сказать ему: "Это — твое имя", а затем заставить его воспринять на слух что придется: либо имя, подражающее ему, говоря при этом, что он мужчина, либо имя какой-либо смертной жены, говоря, что он — женщина. Не кажется ли тебе, что это возможно и случается иногда? 20 Сходство с проделкой Брунеллески столь разительно, что остается только удивляться, как шутники не заставили несчастного Грассо потехи ради откликаться на имя какой-либо смертной жены. В диалоге Платона Сократ с помощью своего знаменитого метода доводит Кратила до состояния, схожего с состоянием флорентийского резчика. Доказав, что имена можно давать или 130 заменять, философ утверждает, что то же самое можно сделать и с изображениями, которые могут в точности передавать облик человека. С о к р а т. (...) Смотри же, так ли я рассуждаю? Будут ли это две разные вещи — Кратил и изображение Кратила, если кто-либо из богов воспроизведет не только цвет и очертания твоего тела, как это делают живописцы, но и все, что внутри, — воссоздаст мягкость и теплоту, движения, твою душу и разум — одним словом, сделает все, как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, будет ли это Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кратила? К р а т и л. Два Кратила, Сократ. Мне по крайней мере так кажется21. (...) С о к р а т. Да ведь смешные вещи, Кратил, творились бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, если бы они были во всем друг другу тождественны. Тогда все бы словно раздвоилось, и никто не мог бы сказать, где он сам, а где его имя22. Заметим, что доводы Сократа поразительно схожи с концепцией художников-абстракционистов. Так, по словам Казимира Малевича, реалистическое искусство удваивает все существующее, порождая бесполезный мир двойников-"дубликатов", своего рода "вторых Кратилов". Таким образом, и линейная перспектива, создающая иллюзию достоверности, есть нечто иное, как математически обоснованная мистификация или, как язвительно заметил Павел Флоренский, "иллюзионистский обман". Несомненно, что в основе этого процесса лежат сложные мировоззренческие и философские явления. В эпоху Кватроченто происходит качественное изменение в вúдении, самоощущении личности. Именно поэтому линейная перспектива, прекрасно известная и средневековым мастерам, становится в этот момент чрезвычайно востребованной, как бы "заново открытой". Источник этого феномена, очевидно, кроется в том, что Павел Флоренский очень точно назвал "театральностью перспективного изображения мира". Результатом подобного видения становится то, что человек начинает ощущать себя творцом, способным создать если не сам мир, то его копию в масштабе, пропорциональном самому человеку. 131 Подробнее об изучении проблемы перспективы: 47. Kim H. Veltman. The sources and literature of perspective, volume I, http://www.sumscorp.com/perspective/Vol1/title.html. 2 О средневековых трактатах по оптике см.: Federici Vescovini, Graziella. Le teorie della luce e della visione ottica dal IX al XV secolo. Studi sulla prospettiva medievale e altri saggi. Perugia, 2006. 3 Панофский Э. Перспектива как “символическая форма". Готическая архитектура и схоластика / Пер. с нем., англ. СПб., 2004. С. 46. Цит. по: Federici Vescovini, Graziella. Le teorie della luce e della visione ottica dal IX al XV secolo. Studi sulla prospettiva medievale e altri saggi. P. 362. 4 Флоренский П. Обратная перспектива // Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 20. 5 Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2003. С. 12. 6 Там же. С. 119. 7 Знаменитая история монаха Бэкона // Великие некроманты и обыкновенные чародеи. СПб., 2004. С. 126. 8 Подробнее см.: Federici Vescovini, Graziella. Astrologia e scenza. La crisi dell’aristotelismo sul cadere del Trecento e Biagio Pelacani da Parma.Firenze, 1979. 9 Цит. по: Данилова И. Брунеллески и Флоренция. М., 1991. С. 107. 10 Цит. по: Edgerton, Samuel Y. Die Entdeckung der Perspektive. München, 2002. 11 Заметим, что столь исключительную роль перспективе придают не только историки искусства, но и математики. Так, преподаватель Пармского университета Алессандра Пуччи в своем исследовании "От перспективы к проективной геометрии" отмечает: "Перспектива была путеводной нитью, которая вела нас из века в век, раскрывая отличительные и новаторские черты каждой эпохи с точки зрения не только живописи, но также философии и математики". (http://www.math.unipa.it) 12 Цит. по: Данилова И. Брунеллески и Флоренция. С. 96. 13 Renzo L. Beltrame. Storia del costituirsi di un modo mentale. La prospettiva rinascimentale. Rapporto CNUCE C97-24. Dicembre 1997 (Rev. Novembre 1998) 14 См.: Michael Kubovy and Christopher Tyler. Arrow in the eye. The psychology of perspective and renaissance art. // http://www.webexhibits.org/arrowintheeye/index.html. 15 Подробнее см.: Francastel P. La Figure et le Lieu. L'ordre visuel du Quattrocento. Paris., 1980. PP. 71-72. 16 Подробнее см.: Pallen, Thomas A. Vasari on Theatre. Southern Illinois University Press, 1999.PP. 15-19. 17 См.: Battisti, Eugenio. Filippo Brunelleschi. Milano: Electa Architecture Mondadori Electa, 2002. PP. 326-327. 18 См.: Friedrich Teja Bach. Brunelleschi: Die Linie der Konstruktion — und ihre andere Seite. INTERNATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM KULTURWISSENSCHAFTEN.// http://www.ifc.ac.at 19 Платон. Кратил. 430 аb. / Пер. Т. В. Васильевой. 20 Там же. 430е-431а. 21 Там же. 432bс. 22 Там же. 432d. 1 132 Т. Ю. Пластова А. ПЛАСТОВ: ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ЖИВОПИСНЫЕ ТРАДИЦИИ КОНЦА ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВЕКА Творчество любого значительного мастера, будь то художник слова или кисти, невозможно понять и оценить вне культурноисторического контекста. "Вскормленный в питательной среде памяти интеллект мастера служит средством сопряжения духовных ценностей, накопленных веками и порождает систему философско-эстетических ориентаций, определяющих смысл ... творчества"1, — эти слова, сказанные искусствоведом С. Даниэлем о Н. Пуссене можно считать универсальным определением творческого генезиса всякого истинного художника. Феномен творческой биографии А. А. Пластова заключается в фактической неопределенности процесса становления его живописной системы. Так случилось, что, получив православное образование в Симбирской духовной семинарии, а затем художественное — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он почти двадцать лет уединенно работает на своей родине за тысячу верст от столиц, и появляется в Москве в середине тридцатых годов уже вполне сложившимся зрелым мастером. К тому же, по несчастию, практически все работы, написанные до 1931 года, погибли во время пожара в его доме в Прислонихе. Пластов родился в глухом поволжском селе в бедной семье псаломщика и просвирни. В роду были священники и иконописцы, и это генетическое родство с национальной духовной и живописной культурой он начал осознавать очень рано. В церкви, построенной и расписанной его дедом Григорием Пластовым, глядя на работу богомазов, приехавших подновлять росписи, он дал себе клятву "быть живописцем и никем более". Поднявшись вместе с иконописцами на леса, пятнадцатилетний подросток был 133 потрясен, что "обычной прилизанности икон не было и в помине. Контуры в палец, мазистая, резкая кладка красок. Я еле узнал знакомого бога Саваофа с глазами величиной в тарелку и ликом, без малого, в наши ворота... Дед был любителем густых, насыщенных до предела тонов. Он любил сопоставлять глубокие зеленовато-синие тона с кроваво-красными, перебивать их лимонно-изумрудными, фиолетовыми, оранжевыми; фоны были золотыми, почва под ногами — сиена жженая или тускло розоватосерая. Все головы писались какой-то огненной сиеной, тени — зеленой землей. Носы, завитки волос, губы, глазницы, пальцы — все прочерчивалось огнистым суриком, и когда, бывало, за Вечерней солнце добиралось до иконостаса, невозможно было оторвать глаз от этого великолепия"2. Эти впечатления, записанные много позднее профессиональным языком зрелого мастера, тем не менее, вполне дают представление о том, чем был он так поражен. В традиционной росписи сельского храма ему открылся путь достижения свободы и способ создания новой живописной реальности — то, над чем он будет работать всю свою последующую жизнь. Пластову повезло с учителями. Каждый из них дал ему именно то, что, кажется, не смог бы дать никто другой. Его первым учителем стал симбирский художник-акварелист Д. И. Архангельский. Человек "Серебряного века", олицетворявший собой дух этой удивительной эпохи, краевед, этнограф, великолепный педагог — он в провинции продолжал то культурное движение, то художественное открытие России, которому посвятили себя Грабарь, Кустодиев, Отстроумова-Лебедева, И. Павлов, Фомин. "От него, — вспоминал Пластов, — я впервые узнал о передвижниках, о "Мире искусства", о Третьяковке. Чудесный мир прекрасного стремительно развертывался передо мной. На первых порах меня особенно поражали Васнецов, Нестеров, Суриков, Репин. Сестры мои были замужем за мужиками, и вот все эти шабры (соседи) и сватья глянули на меня с третьяковских полотен как живые, давно знакомые, как раз те самые, которые смутно мнились, когда я впервые знакомился со сказками и былинами, с историей Руси. Трудно сейчас вспомнить за давностью лет, как это произошло, но художником я стал именно с тех пор, с этих памятных годов, т.е. весь мой душевный строй стал опреде134 ляться понятиями, так или иначе связанными с миром искусства... Мне нестерпимо стало хотеться изображать бесконечно дорогой для меня деревенский мир со всей его щемящей сердце простой свежестью, с его, как говорят, радостью и горем, с его темнотой, таинственностью и стихийной силой в своих проявлениях. И я стал малевать богатырей, ломовых лошадок, богомолок на пустынных проселках, жнецов в знойных полях, бородатых дядей в чапанах, деревеньки, занесенные снегом, уголки моей милой Родины, какие научили видеть передвижники..."3. Архангельский сохранил ранние работы своего ученика, среди которых композиции на темы сенокоса и купания коней, воплощенные много лет спустя в знаменитые картины. Он научил молодого художника (или, быть может, поддержал и развил Богом данную способность) видеть пластическое совершенство в проявлениях простой жизни и за обыденными событиями угадывать истинный смысл бытия. Много лет спустя Пластов напишет: "Вчера все стали рыть картошку. Конечно, и мы тоже. Зрелище, когда распахнутая лемехом земля вдруг явит доселе скрытые перламутровые плоды, и удивительно цветные фигуры баб, собирающих их грубыми руками в ведра, и нежное сияние сентябрьского солнца, золотисто-коричневый бархат борозд, какая-то акварельной прозрачности зелень поникших подсолнечников по краям огорода, и многое, многое иное — все было торжественно и красиво, как-то лучезарно свято, трогательно чуть не до слез и так все значительно, так все напоено милой жизнью... Бесконечно много, конечно, можно увидеть здесь, от чего вдруг вздрогнет сердце и невольно подтвердишь себе в который уже раз, что нет ничего лучше, чем быть живописцем..."4. Архангельский долгое время был единственным зрителем и критиком его работ. "Удается Пластову деревенский пейзаж: ветлянник вдоль речки, бани с земляными крышами, потонувшие в бурьяне и душистой полыни избы, амбары, пустые околицы, гумны со скирдами, опушки — все это подлинное, все, что видел художник с детства, все то, чем дышит и жива деревня и он сам. Но более всего притягивает его сам народ, его серенькая будничная жизнь, его работа, его переживания. В знойный день в клубах пыли идет пахарь за плугом, допахивая свой загон. В полдень присели жне135 цы пообедать и закурить... свинопас с подпаском пекутся на бугре со своим беспокойным стадом. Купание коней на пруду... Краски Пластова переливчаты, но не ярки, как не блещет ими наша поистине серая деревня и деревенский быт. В рисунках и эскизах художника — суровая, не приукрашенная действительность и глубокое понимание современности..."5. В 1911 году Пластов специально едет в Казань увидеть выставку В. Д. Поленова — "одного из тех, кто, по моим тогдашним понятиям, коснулся вершин возможного". "Поленов ударил мне по сердцу, главным образом, непостижимой для меня тогда свежестью красок и световых эффектов — они мне казались тогда ярче самой действительности, блеск и сияние натуры для моего неразвитого глаза были, увы, еще сокрыты тогда, и лишь после этой выставки я прозрел на эффекты"6. "Прозрел на эффекты" — то есть на эффекты импрессионистические, на свободу непосредственного восприятия натуры в игре солнечного света, воздухе, рефлексах. Для начинающего художника это стало настоящим открытием. В 1912 году Пластов решает поступать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Чтобы подготовиться к экзаменам, он два месяца занимается в мастерской И. И. Машкова. "Жестоко страдал, когда он бесцеремонно толстенным углем выправлял мои филигранно отточенные карандашом головы, ни во что не ставя мою манеру, так превознесенную в богоспасаемом Симбирске"7. И. И. Машков, член "Бубнового валета", увлеченный в эти годы, как и П. П. Кончаловский, Сезанном, его формотворчеством, эффектами осязания натуры, подчеркнутой материальностью и конструктивностью живописной кладки, был, конечно же, мало понятен Пластову в то время. Но уже сама встреча с человеком, находящимся в самой гуще художественной жизни, на острие борьбы художественных течений, действительно прекрасным живописцем, была знаменательной для приехавшего из провинции юноши. Попав в Москву, он впитывает в себя буквально все: "Сам не свой брожу по Москве, не во сне, а наяву... Красная площадь, Кремль, соборы, Василий Блаженный... и вот она, наконец-то, Третьяковка. Вот я с глазу на глаз с богами и чудотворцами. 136 Можно ли описать эти сверхъестественные переживания, это блаженство, от которого я, крепкий как жила парень девятнадцати лет, задыхался и еле стоял на ногах, выразить словами клятвы, какие давались перед этими таинственными и мощными созданиями гениев?"8 Провал на экзаменах ("натаскивание у Машкова не пошло впрок") привело его в отчаяние, но, поразмыслив, он поступил вольнослушателем в Строгановское училище на скульптурное отделение. "Посидев в Строгановке за скульптурой, я пришел к мысли, что неплохо бы ее изучить наравне с живописью, чтобы в дальнейшем уже иметь ясное понятие о форме. Сказывалось, конечно, чтение о мастерах Возрождения..."9. И он поступает, наконец, в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на скульптурное отделение, к С. М. Волнухину. Это образование много дало Пластову, особым образом огранило его художественное дарование, хотя собственно скульптурных работ в его наследии немного: сделанные в 20-е годы для заработка ряд проектов в Симбирске, портреты близких, фантастические композиции из корней деревьев, украшавшие его мастерскую, созданные в разные годы листы эскизов скульптурных композиций на античные темы... Но на протяжении всей своей жизни в живописном творчестве Пластов мыслил как скульптор — точность рисунка, хорошо пространственно организованные, монументальные, создающие полную иллюзию объема композиции его картин, "скульптурная" лепка портретов, особая объемность их живописной кладки дают полное основание говорить об этом. "Дышащие контуры" и растворенность в пространстве фигурных композиций его поздних картин — "Сенокоса", "Жатвы", "Весны" — напоминают формы импрессионистической скульптуры Родена и Бурделя. В пояснении к одному из своих скульптурных проектов 20-х годов он писал, что подобно тому, как музыка или архитектура действует без слов, так и скульптура еще до словесного объяснения своими формами, архитектоникой масс и ритмом линий должна возбуждать в зрителе соответствующее идеологическому намерению настроение. Иначе, на кой черт убивать уйму денег, когда такое мощное средство воздействия на душу зрителя, как художественная форма, будет в пренебрежении. 137 В училище у Пластова были прекрасные педагоги, несомненно обогатившие его дарование, — Л. Пастернак, Д. Корин, А. Васнецов, А. Архипов, А. Степанов. Камерная лиричность композиций Л. О. Пастернака, его "Материнство", семейные групповые портреты, выполненные в будто бы именно для этих мотивов созданной мягкой импрессионистической манере, где свет и воздух передаются не цветом, а особым распределением тона, интенсивностью светотеневой нагрузки — все это было усвоено и воспринято Пластовым и оказало воздействие на формирование его живописной системы и художественного мировоззрения. "Живопись — язык. Сюжет, т.е. "литература" (беллетристика) в живописи значения не имеет. Литература — враг живописи",10 — писал Пастернак. Для творчества Пластова, как отмечала прижизненная критика, отсутствие "развернутого сюжета", принципы "бессобытийного жанра" станут основой художественного метода (картины "Стадо", 1938; "Жатва", 1945; "Весна", 1954 и др.). А. Е. Архипов, по воспоминаниям К. Ф. Юона, — "художник глубоко национальный. Влюбленный в чудодейственные свойства живописи — "живого письма"... Родные ему рязанские дали и рязанские песни, жизнь на Оке, образы рязанских девушек и молодиц вскормили его художественное воображение. Они сообщили его палитре широкий диапазон цветового богатства — от поэтической гаммы серебристых тональностей до мощного звучания всей полноты красок солнечного спектра"11. Архипов создал свой особый живописный язык для изображения крестьян и крестьянской жизни, органичный, наполненный силой цвета, радостного утверждения жизни. Свобода и широта его письма, восторг перед цветом отзовутся в работах Пластова ("Татьяна Юдашнова.") Алексей Степанович Степанов навсегда стал для Пластова одним из любимейших художников. И не случайно: соединив живописные открытия французских импрессионистов с традициями русской пленэрной живописи, В. Серов, Левитан, Степанов достигали через живописную манеру такой проникновенности, выразительности и честности в обращении к сердцу зрителя, рядом с которой шедевры первооткрывателей метода часто выглядят утонченной забавой. 138 Еще в Строгановском училище Пластов знакомится с Ф. Ф. Федоровским, уже известным в то время театральным художником, преподававшем композицию. "Он чаще, чем с другими, — вспоминал Пластов, — беседует со мной об искусстве и призвании художника, и скоро этот художник и человек становится предметом моей какой-то экзальтированной влюбленности. Для меня он был настоящим художником. Благодаря ему я жил в каком-то вечно возбужденном, одержимом состоянии, и ничто, кроме искусства, не владело моей душой с такой неодолимой силой". Вряд ли можно говорить о том, что сам процесс учебы в МУЖВЗ, куда так стремился молодой художник, оправдал все его ожидания, хотя, возможно, его поздние признания не лишены некоей предвзятости. "Считалось, что скульпторам хороший рисунок ни к чему. Не помню уже кто, идеалом рисунка ставил академические рисунки с гипсов Александра Иванова. Признаться, в большое недоумение приводил меня этот пример. Хорошо, конечно, но ведь этот художественный язык уже умер, все кругом другое, бесконечно дороже, понятнее. Другими словами, я не мог понять, каким образом можно кипящее, блестящее разнообразие окружающего уложить в прокрустово ложе давно отмерших схем. Это тем более казалось странным, что такое блестящее созвездие могучей кучки — Серова, Васнецова, Ге, Репина, Сурикова, Нестерова и других давным-давно шагнуло бесконечно дальше вперед... "Мир искусства", западное искусство у С. И. Щукина, куда паломничали по воскресениям, "Бубновый валет", всякие "исты", Румянцевский музей и Третьяковская галерея смешались в причудливом карнавале перед моим растерянным взором.. Все зазывали к себе, как охотнорядцы в свою лавку, на все надо было оглянуться, понять, оценить, услыхать самого себя"12. Поиски своего художественного метода в море разноголосицы и богатства художественных исканий начала века, стремление взять ото всех лучшее и при этом не потерять, а услышать и понять самого себя, найти свой собственный путь в искусстве — вот чем будут ознаменованы для художника годы московского ученичества. Сохранившиеся работы Пластова 1910-х годов отражают процесс поиска своего живописного языка. "Автопортрет" (конец 139 1910-х), "Портрет брата Николая" (вторая половина 1910-х), "Портрет брата Александра" (до 1920 г.) написаны явно под влиянием живописных открытий русских "сезаннистов" — П. Кончаловского и И. Машкова. "Движимые жаждой более концентрированной энергетики, волевого напора, молодые художники как будто испытывают разочарование в импрессионистической форме, в ее созерцательной статике, относительном безразличии к превращениям трехмерной жизни пространства. В этот момент для русских исключительно своевременным оказывается стимулирующее знакомство с французским постимпрессионизмом: Ван Гогом, Гогеном, но прежде всего — с великими уроками Поля Сезанна, поскольку именно он разработал новый и внятный метод постижения природы средствами живописи... Когда живописцу кажется — и он убеждает в том своего зрителя, — будто кисть создает самое натуру, творит живую материю"13. Писать материальное материально, а нематериальное — нематериально и гармонически сочетать это в рамках одной картины станет одной из основ творческого метода зрелого Пластова. В ранних портретах виден анализ формы, подчеркнутое увлечение свободной "эластичностью", упругостью формообразующих линий или мазков. То же стремление к обнажению конструкции отличает и рисунки этого периода. В "Автопортрете" конца 10-х годов (в косовортоке) специально выбранная освещенность и ракурс натуры позволяют автору внимательно проследить игру света и цветовых отношений. Конструктивные элементы фона тактично подчеркивают выразительность явленного эффекта. Почти цитатная живопись в "Портрете брата Николая" ясно говорит о непосредственном увлечении и исследовании буквально с кистью в руках открытий Сезанна. Цветность древнерусской живописи, упрощенный и монументальный язык парсуны (ставший актуальным для русского авангарда) также оставит свой след в исканиях молодого Пластова. Несколько сохранившихся портретов крестьян — "Ефим Модонов", "Портрет крестьянина", "Старик в красном (Степан Назарович Шарымов)" — открывают свою, определенную и пока мало исследованную сторону творчества мастера. Учебу в Москве, как и всю прежнюю жизнь, прервала революция. Пластов возвращается в свою родную Прислониху. Забо140 ты о хлебе насущном, жизнь земледельца. Но занимаясь сельским трудом, ни на минуту он не переставал быть художником. "Я заделался пахарем, косцом, жнецом... Работая изо дня в день крестьянином, я полагал, что это самый лучший случай, какой судьба предоставляла мне наглядеться на крестьянскую жизнь досыта, узнать ее до последней мелочи, чтобы потом уже без всяких усилий и заминок воспроизводить ее..."14. Этот период полон многообразием народных типов, подлинностью многофигурных композиций на тему сходок, собраний, живых сцен народной жизни. Не случайно, пережив ужасы Гражданской войны, восстания притесняемого крестьянства, их жестокие подавления, он задумывает полотно о пугачевском бунте. "Я рисовал, писал этюды, эскизы. Мечтал, строил планы в целом цикле картин развернуть эпопею крестьянского житья-бытья"15. Время уединенной жизни в Прислонихе вплоть до середины 30-х годов, когда он предстанет перед московской публикой уже сложившимся мастером, будет ознаменовано для него решением двух глобальных, неразрывно связанных друг с другом задач — поиском своего живописного языка и обретением картины как основного жанра творчества. Пластов много работает, старясь досконально изучить натуру, приблизиться к ней, понять. В 20-х и начале 30-х годов он пишет множество этюдов цветов (отчасти это было подготовительным материалом к картине "Сенокос" 1935 года, местонахождение которой, к сожалению, не известно). Удивительная в своей свободе, почти дерзости живопись наполнена матиссовской радостью чистого цвета. Художник строит гармонию на предельной яркости и цветовой открытости — чистый кобальт, чистый кадмий. Он увлечен решением декоративных задач, распределением цветовых масс. Видна энергичная радость от быстрого и точного накладывания разнонаправленных, сочных мазков, формирующих и организующих пространство холста. В кажущемся хаосе словно бы неуправляемой экспрессии всегда присутствует четкое, рациональное начало. За всем этим, конечно, стояла еще и другая, главная свобода — свобода писать мир, который он любил. При всем непосредственном опьянении натурой, он несомненно воскрешает в памяти "Последние цветы" Жуковского, врубелевскую "Сирень", 141 цветы К. Коровина, П. Кончаловского, виденные им на выставках в начале века. И эта художественная память явно обогащала, делала более сознательным и конструктивно рациональным его общение с живой натурой. "Выходя из школы лишь приблизительно мастером своего дела, молодой художник только на работе с натуры может расти до предела, положенного ему природой. Непрестанное наблююдение, запись, накопление, тренируя наш глаз, ведут нас вернейшей тропой к постижению внутренней сущности и строя вещей, и к умению найти в жизни самое главное, самое организованное, типичное и нужное, то зерно бытия, без которого нет настоящего искусства, а есть лишь бездушный, зеркальный натурализм..."16 Обилие материала, как когда-то разнообразие стилистических школ и приемов в мире искусства, заставляет его пытаться объять необъятное. " Мне казалось, что сперва надо все, все знать наизусть, идеально знать приемы и тогда уже можно браться за картину. Эта ложная концепция — набить сперва руку, механически накопить материал, а потом создавать картины — завела меня в какой-то странный тупик, и я готов был инстинктивно пятиться назад, чуя какую-то опасность начавшегося кризиса... И я копил все, не видя конца своему стяжательству, но оно, как всякое стяжательство, привело бы меня к тому, что умер бы я на своих сундуках. Я собирал вообще, а надо было, оказалось, собирать для безусловно конкретной вещи, под углом ее требований, ее правды, ее организующей силы... Прозрев, я полегоньку понял многие простые вещи: есть правда этюдная и есть правда этюда к картине. Если в первой любой неглупый и заботливый художник может набить руку, то во второй ничего нет более обычного, как потерять голову"17. Картина есть некое устойчивое представление о мире, содержательная правда, философское постижение бытия, которое художник должен высказать силами своего искусства. Содержание картины в классическом искусстве зачастую было всем известно — это был миф, библейский сюжет, конкретная правда исторического события. Именно поэтому сюжета, который был общеизвестен, не нужно было выдумывать, его надо было лишь раскрыть, донести изобразительными средствами. Картина XIX 142 века, в частности, русских передвижников, была ориентирована на некий сюжет, историю, развертывающуюся на глазах у зрителя, что так или иначе уводило художника в область рассказа, порой в ущерб пластической выразительности. Крушение устоев жизни в России ХХ века и глобальный мировой процесс кризиса религиозного сознания, когда представления о добре и зле, как и о назначении искусства, в корне меняются, привел традиционную картину как жанр к определенному кризису. Иными словами, искреннего содержания, то есть того, что художник, не притворяясь и не лукавя, мог высказать, стало хватать лишь на натюрморты, портреты и пейзаж. А. Пластов находит свое решение. Его творчество наполняется тем качеством материальной и спокойной, "вневременной" фактуры живописи, что так ценно и непреходяще для нас в картинах старых мастеров. Он идет от конкретного к вечному, делая собственно содержание картины как бы существующим изначально ("Купание коней", "Сенокос", "Жатва", "Весна", "Солнышко", "Лето"). Даже там, где время формально обозначено характерными деталями, оно как бы не имеет отношения к живописной правде холста. Представление об изначальной гармонии мира, православное воспитание и образование, ставшее основой его сознания и отношения к миру, помогли ему не только сохранить себя как личность, но и осуществить свое предназначение художника. "Я сегодня, когда встал после работы над последним этюдом и оглянулся вокруг на драгоценнейший бархат и парчу земли, на пылающее звонким золотом небо, на силуэты фиолетовых изб, на всю эту плащаницу вселенной, вышитую как бы перстами ангелов и серафимов, так опять, в который раз все с большей убежденностью подумал, что наши иконописцы только в этом пиршестве природы черпали всю нетленную, поистине небесную музыку своих созданий, и нам ничего не сделать, если не следовать этими единственными тропами к прекрасному..."18. 1 2 3 4 Даниэль С. Европейский классицизм. СПб., 2003. С. 12. Пластов А.А. Автобиография // Архив А. А. Пластова. Там же. Из письма А. Пластова к Ф. Решетникову, 1960-е гг. Архив А. А. Плас- това. 143 Архангельский Д.И. "О Пластове. Из статьи конца 20-х — нач. 30-х гг. // Архив Д. И. Архангельского. 6 Пластов А.А. Автобиография // Архив А.А. Пластова. 7 Там же. 8 Там же. 9 Там же. 10 Леонидов В. Музей Л.О. Пастернака в Оксфорде // "Русское искусство" №4. 2004 г. С. 44. 11 Юон К.Ф. Об искусстве: Выставки. Обзоры. Художественная жизнь. М., 1959. Т. 2. С. 251. 12 Пластов А.А. Автобиография // Архив А.А. Пластова. 13 Морозов А.И. Соцреализм и реализм // Галарт. 2007. С. 104. 14 Пластов А.А. Автобиография // Архив А.А. Пластова. 15 Там же. 16 Пластов А.А. От этюда к картине // Мастера советского искусства о пейзаже. М., 1963. 17 Пластов А.А. Автобиография. Архив А.А. Пластова. 18 Пластов А.А. Из письма к сыну — Н.А. Пластову. 30 сент. 1949 г. 5 144 К. И. Назарова ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА: ОТ ЧУВСТВЕННОГО К РОКОВОМУ Поздний период творчества Д. Г. Россетти (1862—1882 гг.) Карл Густав Юнг утверждает, что художник, а вместе с ним и его творение являются выразителями не личностного, а коллективного бессознательного, точнее бессознательной мифологии, архетипы которой всплывают в тот или иной период исторической действительности. "Этот образ от века зарыт в бессознательном, где спит, покуда благоприятные или неблагоприятные обстоятельства эпохи не пробудят его: это происходит тогда, когда великое заблуждение сбивает народ с пути истинного"1. Фигура художника как наиболее чувствительная и восприимчивая к изменениям времени натура предстает в качестве связующего звена столетий. Одним из архетипов второй половины ХIХ столетия, о котором говорит Юнг в своей теории, становится женщина. Предчувствие смены столетий, тревожное и завораживающее, пробудило дремавший в веках женский образ. Братство Прерафаэлитов, созданное в 1848 году, лидером которого стал Данте Габриэль Россетти, сотворило своим искусством новую "икону" для викторианской публики. Образ женщины впервые предстал как выразитель новых мыслей и ощущений в предвкушении смены столетий. Этот образ претерпел ряд существенных изменений по отношению к своим предшественницам, благодетельным матерям, светским дамам и юным леди, прогуливающимся по лондонским паркам или собирающимся на очередной аристократический прием. Прерафаэлиты открыли завесу в мир женщины, и он оказался не столь красивым и нарядным, каковым его представляла академическая живопись. Образ женщины оказался намного более сложным. Женщина могла сменить 145 обличие матери на покров грешницы в глазах пуританского общества. Ее неоднозначная природа, как притягательный многогранный кристалл, заставила обратить на себя внимание. Образ женщины вырвался за рамки викторианской Англии, в мире Прерафаэлитов она могла стать королевой Гвиневерой или шекспировской Офелией. Пошатнувшиеся представления о женщине в викторианском обществе и более сложный взгляд на женское естество затронули даже библейские истины и устои. Картина Россетти Ecce Ancilla Domini! (Благовещение), в первый и последний раз выставленная в Королевской академии в 1850 году, стала не только отображением новых тенденций в викторианском искусстве, но и предвестницей позднего творчества самого художника. Аскетичная обстановка сюжета с тонким вплетением символики не отвлекает внимание от священного действа. Поражает в этой работе смелый, антиканоничный подход к фигуре Девы Марии, написанной с сестры художника. Об этом пишет Д. Рид в исследовании, посвященном Россетти и викторианской эпохе: "Даже в самой аскетичной из его ранних работ Ecce Ancilla Domini зритель более впечатлен съежившейся, едва ли не напуганной фигурой Девы, ее полными губами и испуганными глазами, нежели символикой: голубем с ореолом, лилиями и пламенем вокруг ног ангела Гавриила"2. Эстетизация образа Девы Марии затронула важную сферу творчества Россетти 1862—1882 годов, когда его творческой доминантой станет женщина с большими глазами, чувственными губами и длинными золотыми волосами. Это будет триумфом женского естества в победе над мужским существом, его сущностью и характером. Женщина окажется символом символов, вместилищем секретов вселенной и вечно неразгаданной тайной. Его чувственные женские образы обретут поклонников в лице Бердсли, Берн-Джонса и последователей Прерафаэлитов, работавших в 80 — 90-х годах XIX — первой четверти XX века. С работой Россетти Bocca Baciata или The Kissed Mouth (Целованный рот) 1859 года были связаны разговоры современников о кардинальном изменении творческой концепции автора. Из его картин исчезает средневековый рыцарь времен Круглого стола и короля Артура, Данте по-прежнему вздыхает по красоте своей 146 Беатриче, но мы не видим его фигуры. "Картина более не рассказывает прекрасную средневековую историю любви, но заполняется орнаментикой, растительными мотивами или богато декорированными обоями"3. Художник опускает сюжетную канву и акцентирует внимание на чарующей женщине с цветами в волосах и цветочном фоне из бархатцев позади нее. Bocca Baciata должна была стать воплощением соблазна и плотской красоты, притягивать и манить зрителя своей чувственной внешностью. Немаловажную роль играют в картине детали: роза и яблоко, символику которых можно часто встретить и в поэзии Россетти для достижения идентичной цели. "Сладострастный покой Bocca Baciata, как и в последующих женских образах, становится кульминацией изображения, которое достигает состояния безвременья, заключающего в себе не только бессмертие артефакта, но и так же часто, как и в поэзии, бессмертие чувственного пресыщения, когда с наступлением конца желаний наступает крушение во времени"4. Птицы и цветы, которыми художник окружал своих женщин, достались Россетти по наследству от Прерафаэлитов. Следуя завету Рескина относительно верности природе, Прерафаэлиты превратили окружающий мир в своеобразный символический реализм, в котором каждое живое существо, выписанное с натуралистической точностью, имело символический подтекст. Наш взгляд не может проникнуть вглубь, за плотные сплетения цветов или подробно разработанный орнаментальный мотив, чаще шпалеру, отделанную золотом с узором из стилизованных веток вишневого дерева в духе японской гравюры, поэтому все внимание сосредотачивается на женской фигуре, точнее, на ее лице, поскольку Россетти чаще писал одну треть или четверть фигуры. Очень важной деталью в позднем творчестве художника становятся женские глаза, часто задумчивые и отведенные в сторону, смотрящие за пределы картины. И хотя женщины Россетти всегда чувственно-плотские, они воспринимаются сквозь мистическую призму. Немаловажную роль в создании этого эффекта играет расположение фигуры на холсте. Женщина Bocca Baciata окружена рамой в самой раме, она словно выглядывает из окна. То, что в академической живописи было лишь незначительной деталью, теперь полноправно сравнивается с плоскостью картины и становится самой карти147 ной. Часто Россетти использует прием парапета, за которым уже располагается фигура женщины. Эта деталь — реминисценция ренессансной культуры — становится частым атрибутом композиций художника. Д. Г. Россетти применяет парапет не столько в роли композиционного приема, сколько для образного усиления мысли о недоступности Прекрасного. Таким образом, Россетти создает особое пространство для своих женских образов. Плоскость заменяет перспективу, создавая ощущение замкнутости пространства. Своеобразная перегруженность фона декоративными деталями словно заключает в плотные объятия изображенный на картине образ. Бесконечно повторяющийся мотив орнамента или изображение цветов завораживают наш взгляд и пленяют женское существо. Своеобразное, перегруженное деталями пространство, где не было точки опоры и точки схода, где классическая ренессансная перспектива уступила место эклектичности рисунка, претендовало на место мифотворческого, символического пространства. В позднем поэтическом творчестве Россетти появляется фигура Лилит, прототип знаменитого символического образа роковой женщины, или femme fatale. Художник и поэт вспоминает легенду о первой жене Адама. В сонете "Lilith" повествуется о ее вечной молодости, в то время как земля уже стара. По представлению Россетти она обладает очаровательными золотыми волосами, нежностью и сладкой речью, при помощи которой заманивает мужчин в собственные сети; ее поцелуи усыпляют, а глаза насылают проклятие и заставляют склониться даже самую сильную мужскую шею, вокруг которой она обматывает удушливую прядь своих роскошных волос. Картина Lady Lilith — визуальное воплощение сонета Данте Габриэля Россетти. Свое новое произведение он описал в письме к Томасу Гордону Хейку: "Картина называется Lady Lilith и представляет Modern Lilith, расчесывающую свои пышные золотые волосы и всматривающуюся в зеркало с невероятным самопоглощением, чье очарование собственным существом привлекает других, помимо их собственной воли"5. Первоначально моделью для этой картины Россетти служила Фанни Корнфортз, одна из любимых и постоянных моделей художника, отличающаяся от других портретируемых своей чув148 ственной полнотой. Однако по заказу будущего обладателя Lady Lilith художник вынужден был изобразить Алексу Уилдинг. В связи со сложившимися обстоятельствами Россетти оставил фигуру Фанни, написав портрет с Алексы, что внесло определенную дисгармонию в общий образ роковой Лилит. Изображение прекрасной женщины занимает основную плоскость картины. Позади нее роскошный куст с крупными цветами, ветви которого овивают ее комнату. Придерживаясь собственного завета "только женщины и цветы", Россетти кладет цветочный венок на колени Лилит и увядающий бутон розы, символ пресыщенности желаниями, на столик подле нее. Вместе с этой работой, а точнее, с ее героиней, возникает тема женского нарциссизма, которую поднимает Д. Рид. Зеркало, которое держит в руках и в которое любуется красавица Лилит, становится олицетворением тщеславия. Любопытно то, что в картине два зеркала — второе расположено в левом верхнем углу картины, где отображен прекрасный пейзаж. Кто знает, может быть, это то, что видит в зеркале Лилит, а может быть, — метафора ее завораживающей внешности, где ветви дерева подражают ритму ее мерно спадающих золотых волос. Точное замечание Оскара Уайльда в предисловии к "Портрету Дориана Грея" как нельзя лучше разъясняет значение зеркала в картине: "Искусство — зеркало, отображающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь"6. Зеркало персонифицирует нарциссизм, обычно связанный с мужским образом в искусстве, искусно созданное новое ощущение искусственной жизни. Невольно напрашиваются строки из стихотворения Шарля Бодлера "Красота", в котором представлен образ идеальной для рубежа веков женщины, уподобляемый непостижному сфинксу, презревшему движение и лишенному эмоций. Она с презрением египетской богини наблюдает за поэтами, равнодушно произнося следующие слова: Но их ко мне влечет, покорных и влюбленных, Сиянье вечности в моих глазах бессонных, Где все прекраснее, как в чистых зеркалах7. Самолюбование некогда сгубило Нарцисса, а самолюбование Лилит, согласно сонету Россетти, губит тех, кто влюбляется в ее красоту. Женский нарциссизм и красоту Россетти связывает с темой смерти и заведомо наделяет такую женщину греховными 149 качествами коварной соблазнительницы, одаряя ее роковой красотой. Лилит притягивает и отталкивает, она губит и разрушает мужское существо, а Красота, с которой ассимилируется эта женщина, остается недоступной. "Нарциссизм, предполагающий фатальность любви из-за собственной недоступности для мужчин и из-за чрезмерной пресыщенности, чтобы любить, приводит к одиночеству и безжизненности некоторые женские образы Россетти"8. В поздний период своего творчества Россетти обращался исключительно к женщинам, которые были способны воплотить его мысли, чувства, ощущения и эмоции относительно мира окружающего и собственного внутреннего мировидения. Женщина становится творческой доминантой художника, его символом, способным выразить идею о Прекрасном, о Красоте, поисками которой увлекались художники-символисты в период рубежа XIX — XX вв. Но только понятие о том, что такое Красота, было индивидуальным. Женщина "в стиле" Россетти стала олицетворением мечты художника о Прекрасном, миром, где поселилась его душа. Россетти писал разных моделей, но создаваемым им образам присуща одна общая черта — их недоступность. Внутренний мир его моделей — это тайна, которой владеет лишь сам художник, потому что она является его внутренним миром, его мифом. Мифом, которым он окружил себя после смерти жены Элизабетт. Сестра Данте Габриэля Кристина отметила в одной из своих поэм относительно творчества брата, что "одно лицо глядит со всех его полотен"9. Так она писала о Лиззи, которая была для Россетти его Беатриче, его Гвиневерой. Несомненно то, что художник отдавал предпочтение определенному типу женщины. Изображая одних и тех же моделей снова и снова, одевая их в дорогие ткани и примеряя на них драгоценности и каменья, Россетти приспосабливал их черты к своему типу, который и был отражением его мифа и души. Это женщина с большими грустными глазами, пышными волосами, длинной шеей, полными яркими губами и с длинными тонкими пальцами. Внешность постоянных моделей Россетти: Элизабетт Сиддал, Фанни Корнфортз, Алексы Уилдинг и Джейн Моррис, соответствовала стандарту художника, задан Так Д.Г. Россетти называл в письмах свою жену Элизабетт Сиддал. 150 ному еще его женой. Но, тем не менее, немаловажную роль в раскрытии образа для Россетти играли личные взаимоотношения с той или иной моделью. Чаще художник обращался к женщинам, которых любил. Это, безусловно, Лиззи, Фанни и Джейн, чьи изображения выглядят более живыми и одухотворенными, нежели портреты Алексы Уилдинг, производящие глубокое впечатление, но холодные и зачастую менее волнующие. Неоспоримым остается лишь тот факт, что женские образы Россетти обостряют прежде всего наше чувственное восприятие и затрагивают сферу ощущений, посредством которых мы воспринимаем окружающий мир. Красота в понимании Россетти была соединением нескольких начал: поэтического, живописного и музыкального. Особого внимания заслуживает последнее из них. У художника не было музыкального слуха, и современников удивляло его безразличие по отношению к музыке. Однако для Россетти немаловажным являлось отличие музыки, воспринимаемой посредством слуховых органов, и музыки, звучащей изнутри и воспринимаемой как музыка души, о чем поэт говорит в стихотворении "Song and Music" ("Песня и Музыка"). Музыка души была для Россетти отображением внутреннего состояния человека10. Cиней симфонией для Россетти стала работа The Blue Bower (Синяя Беседка) (1865), несущая в себе музыкальное начало не только благодаря присутствию в ней музыкального инструмента, но и благодаря тому, что мы можем видеть, слышать и ощущать, как длинные, утонченные пальцы женщины перебирают струны, извлекая из них тихую, спокойную мелодию. Это изображение прежде всего чувственного восприятия, в ней не надо искать глубоко скрытую символику, мифологический подтекст или психологизм, потому что она призвана доставлять зрителю наслаждение. "Образ, представленный на полотне, затрагивает все человеческие чувства — зрение, слух, прикосновение, запах, но сам по себе он не имеет глубокого смысла, представляя собой типичный пример формулы "искусство ради искусства"11. Цветы на заднем плане — это дань увлечения искусством Дальнего Востока, они призваны производить впечатление, а не отвечать за какую-либо символику. Васильки на переднем плане ничего не скажут зрителю о женщине, играющей на экзотическом инструменте. По лю151 бопытному наблюдению Баррингера, Россетти просто применил здесь игру слов, связанную с фамилией изображенной Cornforth и названием цветов — cornflowers. The Blue Bower является отражением концепции томной, апатичной женщины в живописи, звучащей в унисон с настроением меланхолии. Исследователь творчества Россетти Д. Николь, затрагивая тему об изменении концепции художника, пишет о том, что "постепенно маленькие угловатые средневековые фигурки сменились мрачными, апатичными, скучающими дамами, чьими отличительными чертами стали колоннообразные шеи, полноватые губы, пышные темные волосы и их сугубо личная и непостижимая печаль, которую предлагается зрителю обдумать и даже разделить, но для него она останется лишь загадкой, к которой нет ключа"12. Произошедший перелом в творчестве художника был связан с трансформацией его зрительных образов, где доминантой стали женщины "в стиле" Россетти. С обобщающим определением "мрачные" по отношению к женским образам Россетти трудно согласиться. К ласкающей взгляд Bocca Baciata или неслышно манящей игрой на koto The Blue Bower больше приложимо прилагательное "томная". Мрачно выглядит лишь одна женщина Россетти, которая отталкивает в силу своей неестественной, искусственной природы, — Astarte Syriaka. Но о какой бы женщине не зашла речь, все они притягивают своей чувственностью, выражающейся в легком наклоне головы, мягком, завуалированном прикосновении рук, будь то предмет или собственное тело, стройном очертании линий шеи и спины, их плавном и неторопливом движении, которое, однажды начавшись, застывает во времени. Какая она, женщина конца столетия? В искусстве Англии второй половины XIX столетия ответ очевиден. Это женщина с большими грустными глазами как у Фанни Корнфортз, полными яркими губами как у Алексы Уилдинг, длинной шеей как у Элизабетт Сиддал, тонкими длинными пальцами как у Джейн Моррис и роскошными волнистыми пышными волосами как у всех моделей Д. Г. Россетти. Английский художник с итальянскими корнями слыл известным ценителем женских волос. На эту деталь особо обратил внимание Патрик Бейд в своем исследовании, посвященном Обри Бердсли. 152 Эта деталь как нельзя лучше демонстрирует влияние Прерафаэлитов, в особенности Данте Габриэля Россетти, на последующее развитие образа женщины fin du siècle, женщины конца столетия. Влияние Россетти особенно показательно проявило себя в листе The kiss of Judas (Поцелуй Иуды) 1893 г., когда невольно вспоминается Джейн Моррис с ее спокойным, утонченным, аристократично невозмутимым лицом, которое так любил писать Россетти, и густыми вьющимися волосами в работе La Pia de’ Tolomei. По библейским представлениям волосы указывали на достоинство женщины; согласно ветхозаветному преданию, сила Самсона находилась в его длинных волосах, которые было запрещено состригать назарею; а по соображениям самой древней мировой религии, а именно языческой, в волосах была заложена жизненная сила, позволяющая колдуну убить человека, имея при себе обрезки ногтей, ресницы или слюну и обязательно волосы будущей жертвы; Шарль Бодлер посвятил этому феномену стихотворение "Волосы", вошедшее в сборник "Цветы зла". "Стилизованные волосы женщин вторгаются в целый мир словно растениемонстр из фантастики Яна Торопа "Три невесты"13. Пышные вьющиеся волосы, архетип конца XIX столетия, начинают жить самостоятельно, словно готовые настигнуть и схватить свою жертву, овив вокруг ее шеи золотую прядь, подобно коварной Лилит. Какая же она, женщина конца столетия, в представлении Россетти? Картина Astarte Syriaca явилась не только кульминацией творчества Россетти, но и логическим завершением эстетической эволюции творчества самого художника. Предельная откровенность и эротичность вошли в чувственный и музыкальный мир Россетти вместе с роковым образом Астарты Сирийской. Тематика, связанная с фигурой роковой женщины, femme fatale, была близка мироощущению рубежа веков. У английского поэта Альфреда Теннисона она появляется в качестве героини поэмы "Мерлин и Вивьен", вошедшей в цикл, посвященный королю Артуру, — "Королевские идиллии". Коварная соблазнительница Вивьен пытается завладеть секретами магии при помощи своих женских чар и природной коварности и в итоге побеждает умудренного опытом старца. К образу Саломеи обращались многие французские символисты, у Россетти это Лилит, сирена и 153 великолепная Астарта. Женское естество, таящее в себе врожденную таинственность и вызывающее в связи с этим внутреннюю неопределенность, выражало зыбкость и неустойчивость окружающего мира, свойственные приближающейся смене столетий. Меланхоличный и одновременно властный, прорывающий плоскость картины взгляд, широкие плечи, мужские руки поддерживают спадающую легкую ткань платья, подчеркивающую плавные изгибы тела, — богиня мерной и уверенной поступью надвигается на зрителя. "Султанша — томностью, походкою богиня"14 — очередное перевоплощение Джейн Моррис, достигнувшее своей кульминации в работе Astarte Syriaka 1877 года, вобравшей в себя черты следовавших один за другим женских образов. Эротизм и напряженность, амбициозность и монументальность обрели свое логическое воплощение в образе роковой богини. Оригинальное название работы звучало как Venus Astarte, подчеркивая сопричастность богине и планете Венере. В восточной мифологии Астарта была богиней любви, плодородия и богиней-воительницей. Положение рук, придерживающих пояс платья по линии груди и бедер, акцентирует внимание на статусе Астарты как богини плодородия. Пояс, сделанный из небольших форм граната и форм роз, обнимающий ее, согласно сонету, написанному художником, обладал силой вызывать любовь. Над головой Астарты скрестились солнце и луна, аллегория мужчины и женщины, чей союз порождает неестественный свет. Богиню обрамляют две окрыленные женщины с горящими факелами в руках, овитые диким растением. Вне власти закона земного притяжения, они изображены в момент отрыва от земли, показанного за счет стоп, опирающихся на кончики слишком длинных для обычного человека пальцев. Т. Баррингер, затрагивая проблему внешнего облика Астарты, пишет о том, что "черты лица Джейн в облике Астарты были схематизированы, а пропорции фигуры несколько трансформированы под мужские для придания ее облику большей массивности. Высота холста составляет 1,83 м., она вполне достаточна для написания человеческой фигуры в полный рост. Однако Россетти предпочел более крупный план и вид снизу вверх для достижения эффекта как устрашающего и магического, так и чувственного"15. Величественная и апатичная искусительница смотрит на зрителя свысока. Ее не интересует мнение 154 окружающих, которые считают ее безобразной. Женскому полу присваиваются мужские черты. Мужское существо проникает под женскую оболочку и дает ростки, витиевато уходящие в одну из важнейших сущностей английской культуры конца XIX столетия — в ее феминность. Эротический элемент, свойственный женским образам художника, достиг здесь своей высшей точки, своего апогея. Подводя итоги, хотелось бы обратиться к статье Сергея Маковского, написанной по случаю устроения выставки женских портретов в 1910 году: "Искусство — всегда только преломляющийся кристалл красоты... Художники подчиняются законам, более безусловным, чем все истины жизни... Женщина Возрождения — золотистокудрая куртизанка Тициана, загадочно-улыбчивая красавица ломбардской школы, ласковая мадонна Мантеньи, Рафаэля, конечно, — не вся подлинная женщина ХV — ХVI веков. Но только она — подлинная женщина искусства Rinascimento, мечта его великолепных творцов. И потому только ее красота осталась, — хотя это вовсе не значит, что она воплощает этические и общественные идеалы своего времени, так же, как не воплощает их фривольная пудреная маркиза ХVIII столетия, или нежно вздыхающая дева позднейших романтиков. Но несомненно, каждый из этих женских типов “выявляет облик женщины, которую знали и о которой мечтали в свое время поэты красок и линий”"16. В поздний период творчества Д. Г. Россетти не писал однотипных скучающих женщин, как выразился Д. Николь. Скорее художник пребывал в поиске идеального женского образа, способного выразить его неповторимое представление о Красоте. Астарта Сирийская вобрала в себя все многообразие обличий, которыми Россетти наделял своих героинь. Его женские образы апатичны, но глубоко задумчивы, бездейственны, но от движений их пальцев исходит прекрасная мелодия. Они монументальны, но заключены в камерное пространство, они не способны любить, но способны влюблять, они завораживают и отталкивают, они не могут творить, но могут разрушать, они наделены губительной Красотой. Кто они — миф или реальность, искусство или жизнь? Россетти создал новый, ни на что не похожий образ женщины, способный бесконечно задавать вопросы и никогда не давать от155 веты, вечно хранить тайну, обронив от нее ключ где-то в конце XIX века. Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С.149. Riede D.G. Dante Gabriel Rossetti and the limits of Victorian Vision. L., 1983. P. 236. 3 Там же. P. 236. 4 Там же. P. 240. 5 Letters, Vol. II. Oxford, 1965. P. 850. 6 Уайльд О. Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Литература XIX в. М., 1976. С. 54. 7 Бодлер Ш. Цветы Зла. М., 1970. С. 35. 8 Riede D.G. Dante Gabriel Rossetti and the Limits of Victorian Vision. L., 1983. P. 251. 9 Beerbohm M. Rossetti and his circle. L., 1987. P. 12. 10 Соколова Н.И. Творчество Данте Габриэля Россетти в контексте "Средневекового Возрождения" в викторианской Англии. М., 1995. С. 35. 11 Barringer T. Reading The Pre-Raphaelites. L., 1998. P.150. 12 Nicoll J. Dante Gabriel Rossetti. L., 1975. P. 125. 13 Patrick Bade. Aubrey Beardsley. USA, New York, 2001. P. 29. 14 Бодлер Ш. Цветы Зла. Аллегория. С. 192. 15 Barringer T. Reading The Pre-Raphaelites. L., 1998. P.155. 16 Аполлон. №5, СПб., 1910. С. 8. 1 2 156 МУЗЫКА 157 158 Ю. Б. Абдоков МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА Фоновая интерпретация музыкальных текстов, лежащих в основе хореографических произведений, не объясняет всей сложности проблем, возникающих при осмыслении многомерного соотношения музыки и танца. Общеупотребительными и привычными в балетном обиходе стали такие понятия, как музыкальное оформление балетных классов, музыкальное сопровождение хореографии и т. п. При такой вспомогательной смысловой трансформации значительно обедняются образно-выразительные и художественно-эстетические достоинства искусства танца. Не музыкальное оформление, а музыкальное содержание хореографии в основе нашего взгляда на музыкальную природу танца. Хореографическая интерпретация музыки представляет собой сложнейший комплекс образных и движенческих иносказаний. Существует мнение, что выражение "танцевать музыку" не вполне грамотно, ибо танец есть непосредственное исполнение хореографического текста. Другими словами, танцевать можно только сам танец. К такой филологической казуистике, весьма далекой от попыток научного постижения музыкально-хореографического синтеза, можно было бы отнестись с известной долей иронии, если бы не одно обстоятельство: наиболее значимые образцы хореографического искусства соотносятся с языком музыки, как мысль с речью. Речевая функция не ограничивается произнесением неких гласных и согласных звуков в абстрактном соотношении с мыслительным процессом. Если же мы говорим о языке искусства, например, поэзии, то фонетический состав речи в еще большей степени подчинен смысло-образному началу. Фонетика отражает смысло-образный процесс, а не сопутствует ему. Исследуя поэтику музыкально-хореографического движения, мы 159 намерены доказать, что музыку танцевать не только можно. Именно этот смысловой парадокс и делает балет равным среди вечных искусств, а во многом и уникальным. Феноменология музыкального состава хореопластики не может быть рассмотрена вне единства временного и пространственного. А именно синтез этих измерений и составляет генезисную сущность хореографического искусства, в котором музыка — это не фон и декор, а образно-содержательная цель в реализации самых разнообразных художественных задач. Воплощая в себе поэтику всех изобразительных и пластических искусств (от живописи до скульптуры), танец резонирует на пространственное и, подчеркнем, визуальное художественное восприятие различных образов. Всякое пространственное искусство воспринимается нами как созерцаемый синтез, иерархия закономерных пространственных отношений. Пространственные искусства оперируют различной структурой пространственного сложения. Живопись воссоздает пространство путем иллюзорной проекции специфических символических знаков на плоскости картины, скульптура осваивает трехмерность некоего созерцательного вакуума, архитектура динамически разрабатывает сложную систему образов движения. Хореография обнаруживает в своем пространственном сложении этимологические истоки, исходящие из всех названных типов пространственного созерцания. Музыка же является в своем роде совершенным художественным воплощением временного начала. Где находится тот центр притяжения, в котором сходятся и образуют единое целое эти основополагающие типы измерения художественного пространства, гармоничное сочетание которых и рождает танец как искусство рисования телом музыки? А именно такое этимологическое осмысление хореографии представляется нам наиболее верным, позволяющим полноценно исследовать его художественную структуру. Точкой "золотого сечения", своеобразным полюсом притяжения в соотношении пластического и пространственно-временного представляется нам фактор движения. Именно сфера движения во всей своей многомерности определяет характерность пространственно-временного содержания хореографического искусства. Пространственная ориентация хореографии — это синтез видимого и слышимого, где движение — своеобразный скрепляющий феноменологический 160 элемент. На стыке видимого и слышимого и рождается хореопластика, осязательная по своей природе, как любая пластика. Таким образом, хореография во всем своем синтезирующем объеме апеллирует к максимально широкому спектру восприятия. Иногда смысл музыкального движения рассматривается балетмейстером лишь как отражение темпо-ритмической структуры музыкального текста. Нам еще предстоит определить сущность темпо-ритмических связей музыки и танца в многоступенчатой системе трансформации музыкального текста в текст хореографический. Но прежде необходимо развенчать столь упрощенное и укоренившееся представление о природе музыкально-хореографического движения. Музыкальный темп в разрешении хореографического замысла, воспринимаемый как формальная скорость, не только не объясняет всей сложности этой проблемы, но часто приводит к неполной и ошибочной расшифровке музыкального движения. Скорость, безусловно, значимая категория в определении природы движения. Но фактор несовпадения между формальной скоростью и реальной пружиной движения — это скорее правило, а не исключение. Речь не идет только о несовпадениях в самом понимании темпового (а чаще — жанрового) начала в музыке и балете, где понятия allegro, adagio и другие несут в себе весьма разнообразный смысл. В процессе исследования самых различных образцов хореографии мы докажем неосновательность выводов о том, что темповые антиномии в развертывании музыкального и хореографического материала неминуемо приводят к разрушению танца. Предстоит доказательно опровергнуть укоренившееся в балетной критике мнение о несостоятельности полиметрического соотношения в органичном сплаве движения музыки и танца. Соотношение кратного и некратного, четного и нечетного в метрических измерениях музыки и танца может совпадать, а может и разниться. Единственным критерием в определении темпо-метрической адекватности танца музыке может быть только конкретный художественный метод, а не готовая на все случаи схема или формула. Исходя из обозначенного выше значения пространственновременной, синтетической природы музыкально-хореографического искусства следует определить специфику такого музыкального движения, которое предполагает пластическое разрешение 161 на балетной сцене. Подчеркнем, что проблема темпо-ритма лишь в малой степени открывает перед нами завесу над тайной музыкально-хореографического движения. Представим себе следующий пластический экзерсис. 1. Некая фигура двигается в определенном скоростном режиме (темпе), который четко метрономически и хронометрически определен. Допустим, что воображаемая фигура двигается в темпе, соответствующем andante. Ничто не сковывает этого движения, не встречающего преград и сопротивления. Необходимо зафиксировать своеобразие, а также характерные черты такого свободного, лишенного всякого напряжения медленного движения. 2. Та же фигура двигается в темпе, метрономическая скорость которого полностью соответствует скоростным параметрам из предыдущего примера. То есть, тот же темп andante, те же хронометрические рамки движения. Но теперь представим, что движение встречает многочисленные препятствия. Например, двигающаяся фигура вынуждена выдерживать колоссальное сопротивление некой пружины, притягивающей ее в изначальное положение статики. Преодолевая это огромное сопротивление, она совершает свое движение в строго обозначенном нами скоростном режиме. При полностью совпадающих метрономических (темповых) и хронометрических (временных) характеристиках содержательный смысл движения в одном и другом случаях различен. Первый вариант содержит в себе инерцию медленного движения, второй — стремительность вихря. Вопросы, возникающие при сравнительном анализе этих простых примеров, позволяют определить сущностные характеристики времени и движения в музыкально-хореографическом искусстве. Не формальная скорость, а инерция движения, определяемая в соотношении скорости, хронометрии и всего комплекса художественно-выразительных средств, дает нам возможность определить своеобразный тип движения музыки. Инерцию следует понимать не только как направленность движения, но и как систему различных напряжений. Не движение вообще, а тип движения (как концентрация всех слагаемых в развитии музыкального материала) объясняет нам во многом существо и характерные особенности течения музыкально-хореографического времени. Соотношение формальной скорости и инерции развертыва162 ния образует верный образ движения. Неадекватность, а подчас антиномичность этих понятий определяет сущность многомерного взгляда на природу музыкального движения вообще и музыкально-хореографического движения в частности. Именно инерция движения (т. е. степень напряжения, качество фактуры, дробность ткани и т. д.), а не формальная скорость дает нам и самые верные представления о хронометричной и хроноаметричной сущности музыкально-хореографического развертывания. Не секрет, что для многих симфонических дирижеров своеобразным камнем преткновения становятся сочинения композиторов, обладающих нетрафаретным и весьма сложным темпоритмическим мышлением. Например, у И. Брамса или Н. Мясковского быстрые темпы предполагают своеобразное движение "на вожжах", как если бы неудержимый поток движения сдерживался незримыми преградами. Эти оттяжки не только не тормозят общего движения, но сообщают ему характерные черты напряженной титанической работы. Напротив, медленные темпы у названных композиторов содержат в себе своеобразную пружину, способствующую преодолению вязкости и статики медленного движения. Росо allegretto и подобные типы движения практически не поддаются точному метрономическому определению. Только серьезный анализ соотношения ткани, фактуры, тембровой драматургии в соединении с темпо-ритмом дает ключ к стилистически верному прочтению таких типов движения, где формальная скорость скорее обманывает, а не открывает сущность движения. Симфонические сочинения названных композиторов, будучи исполненными в соответствии с классическими, стабильными нормативами хронометрии, теряют весьма много. Собственно, сложность в интерпретации шедевров Брамса и особенно Мясковского объясняется не мифической усложненностью их интеллектуального и образного содержания, безусловно требующего от исполнителя большой внутренней культуры и изрядного художественного вкуса, а необычностью форм и типов движения, заключенных в этой музыке. Выдающийся морфолог искусства А. Г. Габричевский, характеризуя поэтику движения музыки Брамса, пишет: "...в искусствах временн›х резкое преобладание метрических моментов (ср., например, марши и другие традиционные или танцевальные метры, оправданные не изнутри, а часто извне, хотя 163 бы у молодого Вагнера или Шумана, или довольно малоубедительные дионисийские порывы в финалах старика Брамса...")1. С выводом ученого можно согласиться с большими оговорками. Не оспаривая своеобразное дионисийство многих финалов Брамса, хочется все же выяснить, что является для ученого малоубедительным: образный интерьер этой музыки, быть может, не близкий, не понятный ему, или существо типа движения музыки? По Габричевскому, именно жанровая характерность сообщает финалам Брамса внешнее организационно-метрическое начало, не идущее изнутри музыкального становления. Между тем, не жанровые оковы, а, напротив, стремление преодолеть стабильность жанровых условий инструментальными средствами заставляет Брамса искать и находить совершенно нетрафаретные и нетрадиционные типы движения, сущность которых обозначена выше. Между прочим, такое движенческое дионисийство Брамса сродни титаническим типам движения Микеланджело, особенно ярко проявляющимся в его незавершенных скульптурных работах. Эти пластические шедевры отражают синтез становления и ставшего. Мы отчетливо воспринимаем своеобразное пластическое преодоление, когда образ фигуры, преодолевая колоссальное сопротивление, словно пытается вырваться из статики и тяжелой неподвижности мраморной глыбы. Типология музыкального движения — это та сфера, которая в наибольшей степени определяет качество музыкально-хореографического синтеза. Способность диагностировать движения, сообразуясь со стилем того или иного автора, — задача, одинаково значимая и для симфонического дирижера, и в не меньшей степени для балетмейстера-хореографа. Прежде чем коснуться более подробно символики музыкально-хореографического движения, необходимо определиться в осмыслении феномена музыкального времени и сущности его пластической трансформации в хореографии. Абстрактное, не сопряженное с хроносом движение не может рассматриваться в качестве структурного субъекта искусства, являющегося по своей природе временн›м. Природа музыкального времени, которым, безусловно, оперирует и хореографическое искусство, но в значительной степени трансформируя его, неординарно и глубоко исследована П. Сув164 чинским, философом и музыковедом, близким другом И. Стравинского. Композитор, обладавший природным даром пластического и визуального осмысления архитектоники и движения и создавший свой уникальный музыкально-хореографический мир, не только разделял мысли своего друга о музыкальном времени, но часто проповедовал их как ценностные ориентиры в восприятии не только своей музыки. "Сувчинский рассматривает музыкальное творчество как врожденный комплекс интуиции и возможностей, основанный прежде всего на чисто музыкальном восприятии времени — хроносе, причем музыкальное произведение является лишь функциональной реализацией этого последнего, — отмечает Стравинский. — Каждый знает, что время протекает различно, в зависимости от внутреннего состояния субъекта и событий, действующих на его сознание. Ожидание, тоска, скука, радость и боль, созерцание — все это различные категории, среди которых протекает наша жизнь, и каждая из них вызывает специфический психологический процесс, свой особый темп. Эти вариации психологического времени воспринимаются лишь в соотношении с первичным (сознательным и бессознательным) ощущением времени реального — онтологического..."2. Стравинский подчеркивает характернейшую особенность музыкального чувства времени, рождающегося и развивающегося "либо вне категорий психологического времени, либо одновременно с ними"3. Важен вывод Стравинского: "Всякая музыка, связана ли она с нормальным течением времени или отделяется от него, устанавливает особое взаимоотношение, род контрапункта между течением времени, ее собственной длительностью и материальными и техническими ресурсами, с помощью которых эта музыка проявляется..."4. Композитор разделяет всю музыку на два рода: "одна развивается параллельно течению онтологического времени и проникает в него, вызывая в душе слушателя ощущение эйфории и, так сказать, "динамического покоя". Другая же опережает этот процесс или препятствует ему. Она не совпадает со звучащим мгновением, смещает центры притяжения и тяжести и утверждает себя в нестабильности, что делает ее способной передавать эмоциональные побуждения ее автора... В музыке, связанной с онтологическим временем, доминирует принцип подобия. Другая же 165 охотно использует контрасты... Все искусства обращаются к этому принципу..."5. Добавим, что Стравинский недвусмысленно высказывается в пользу принципа подобия, т.е. времени онтологического, делая весьма важную ссылку на то, что рождающееся из контраста многообразие "имеет ценность только как продолжение подобия"6. В этой стройной, весьма аргументированной и в чем-то символической системе, которая позволяет Стравинскому объяснить свою философию музыкального времени, есть какая-то недосказанность. Совершенно точно определив сущность типа течения времени, который наиболее близок художнику как творцу, а именно: параллелизм и даже полную симметрию между свободным течением времени и временным развертыванием музыки, композитор не стремится найти понятийно-смысловое обозначение того, что просто именует противоположным, другим типом течения времени. Понятно, что Стравинский делает это не случайно, подчеркивая таким образом главенство принципа подобия и онтологического времени над всеми прочими временн›ми измерениями. Онтологическая сущность музыкального времени — это бесспорный феноменологический абсолют, оспаривать который нет никакого смысла. Все прочие измерения временнóго начала обладают эмпирической природой. Однако позволим себе, оперируя доктриной самого Стравинского, найти наиболее соответствующее по смыслу определение времени, противоположного онтологическому, в ракурсе единого музыкально-пластического измерения. Назовем его преодоленным. Безусловно, такое временное измерение следует феноменологически отнести к разряду психологического восприятия, основывающегося не на противопоставлении онтологическому, а на своеобразном его преображении. Весьма стройную и полную систему временн›х измерений пространственных искусств дает А. Габричевский, подразделяя эту систему на четыре модуса: время онтологическое — абсолютное, время эмпирическое — относительное, время историческое — органическое, время творчества и восприятия — психологическое. Для нас важен вектор движения этих измерений к своеобразному дополнительному пункту, т.е. переходу пространственных искусств к искусствам временн›м, ибо временнóе в танце объединяет в себе движение творящего и творимого. 166 Какой принцип временнóго смещения действует на сознание, заставляя воспринимать, например, пятиминутную симфоническую пьесу Э. Элгара "Sospiri" как масштабную вневременн˜ю композицию? Большим мастером малых оркестровых форм, вызывающих в восприятии психологический эффект развернутого эпического пространства, был С. Прокофьев ("Осеннее", "Сны", "Симфоническая песнь" и др.). Почему хореографические миниатюры К. Голейзовского и музыка, из которой они рождаются, вырастают в нашем восприятии в нечто, роднящее их скорее с вневременн›ми детально разработанными фресками, а не с соответствующими реальным временн›м параметрам миниатюрными арабесками? И наоборот. Что делает более чем часовую композицию А. Брукнера или Г. Малера единым мгновением в нашем восприятии, когда реальное физическое время как бы спрессовывается? Во всех названных и во множестве других случаев мы имеем дело с преодоленным временем. И если в определении сущностных характеристик онтологического музыкального времени Стравинский, безусловно, прав, то качество иных измерений оценивается им пристрастно, что вполне оправданно, ведь художник декларирует важнейшие эстетико-смысловые критерии своего композиторского мышления. Между тем нас в меньшей степени сейчас интересует, выдерживают ли все опусы автора "Петрушки" проверку на онтологичность. Очевиден факт, который должен привлечь наше внимание: значительная часть реализованных на балетной сцене партитур Стравинского (Нижинский, Фокин, Баланчин, Аштон, Килиан, Шперли и др.) — это по преимуществу преодоленное хореографами музыкальное время. Типология такого преодоления свойственна любому серьезному преображению музыкальных образов в образы хореографические. Более того, музыкально-пластическое претворение времени и не может быть иным. Специфика этого взаимного преодоления является основой музыкально-пластического временнóго синтеза. Собственное время музыкального развертывания трансформируется в хореографии в зависимости от того, как балетмейстер осмысливает архитектонику танцевальной композиции. В одном случае это калейдоскопическое дробление музыкальной композиции, в другом — сквозное развертывание, в третьем — сочетание дробного и сквозного. Главным является фактор преодоления, 167 а не формального совпадения, свидетельствующий об обретении нового, собственного музыкально-хореографического времени*. Примечательно размышление И. Стравинского: "Баланчин настолько хорошо приспосабливает симфонии под балеты, что у меня невольно возникла мысль о создании специальной симфонии уже по самому замыслу танцевальной..."8. Замысел этот, впрочем, остался неосуществленным. Однако композитор отметил важнейшую черту таланта хореографа, а именно: умение трансформировать любые, в том числе концертно-симфонические музыкальные формы в органичные хореографические партитуры. Не сюжетно-событийный ряд и литературно-повествовательное начало составляют содержание балетов Баланчина, а музыка во всем объеме своих средств и настроений. Стравинский весьма категорично ограничивал содержание своей музыки самой музыкой. Баланчину такой взгляд был чрезвычайно близок. Какие бы литературно-фабульные мотивы и сценографические идеи не разрабатывались балетмейстером, неизменным остается факт: сюжеты его балетов — это их музыка. Гипертрофия музыкальной содержательности хореопоэтики Баланчина знаменует новый Весьма нетрафаретное исследование временнóй сущности искусств, в том числе музыки, т.е. проблемы дифференциации пространственного в тождестве и различиях, мы находим в размышлениях крупнейшего философа, "отца" современной герменевтики, Г. Г. Гадамера: "Собственное время музыкального сочинения... — вот, что должно быть найдено, и помочь здесь может только внутренний слух. Всякое музыкальное исполнение, всякое чтение стихотворения вслух, всякая театральная постановка, каким бы мастерам пластического, декламационного или вокального искусства они не принадлежали, действительно в состоянии передать художественную ценность самого произведения, правда, только в том случае, если своим внутренним слухом мы способны уловить нечто иное, нежели то, что непосредственно открывается нашим органам чувств. Лишь вознесшееся в идеальное пространство этого внутреннего слуха, а не исполнение, не актерская игра и не танец как таковые составляет элементы, из которых строится произведение искусства. (...) Идеальная структура возникает только потому, что мы активно участвуем в трансцендировании наличных моментов. (...) ...Каждое произведение искусства (курсив мой. — Ю. А.) обладает своим собственным временем, которое оно нам, так сказать, предписывает. Это касается не только искусств, наделенных временн›м измерением, — музыки, танца, речи. (...) ...Один из аспектов общения с искусством заключается в том, что произведение искусства учит нас погружению в особого рода покой. Это покой, не подверженный скуке. (...) Сущность восприятия времени в искусстве заключается в том, что мы учимся пребывать в покое. Возможно, это доступное нам конечное соответствие тому, что именуется вечностью..."7. * 168 этап в эволюции музыкально-хореографического синтеза. Соотношение музыки и танца не должно рассматриваться с позиций какой-то исторической заданности пластического воплощения исключительно дансантных музыкальных форм. Существуют безусловные эстетические и этические табу на хореографическое использование той или иной музыки. Но со времен открытий Фокина бессмысленно рассуждать о приоритете дансантных музыкальных форм над "чистыми" в стремлении балетмейстеров строить и развивать музыкально-хореографическое пространство*. Хореография, этимологически связанная с пластическими изобразительными искусствами и часто оперирующая их смыслосодержательными ценностями, представляет особый род визуальной ретроспекции всех возможных в природе типов движения. Нам здесь и далее придется ссылаться на очевидные смысловые параллели, возникающие между специфически живописно-изобразительными и хореопластическими формами реализации движения вообще и музыкального движения в частности. Поэтика движения, которой оперируют изобразительные искусства, весьма по* Любопытно и весьма точно наблюдение X. Ортеги-и-Гассета, сделанное им в коротком эссе "Musicalia": "...слушая скрипичный романс Бетховена или какую-нибудь другую характерную романтическую пьесу и наслаждаясь ею, мы сосредоточиваемся на себе... (здесь и далее курсив мой. — Ю. А.) (...) Музыка Дебюсси и Стравинского предполагает совсем иное внутреннее состояние. Вместо того, чтобы прислушиваться к сентиментальным отзвукам в собственной душе, мы сосредоточиваем слух и все наше внимание на самих звуках, на том дивном, волшебном, что происходит в оркестре. Мы перебираем звуковые оттенки, смакуем их, оцениваем их цвет и даже, быть может, форму. (...) Наслаждаясь новой музыкой, мы сосредоточиваемся вовне. И она сама, а не ее отзвук интересует нас..."9. Музыкально-хореографический синтез со времен фокинской реформы будет во многом базироваться на таком образно-пластическом освоении музыки, в котором переживание самой музыки будет возведено в некий феноменологический абсолют. И именно это обстоятельство будет способствовать кардинальному пересмотру прежних нормативов в соотношении музыки и танца и как следствие — значительному расширению и обогащению хореопластической лексики. С конца XIX — начала XX столетий наметился и во многом реализовал себя своеобразный ренессанс в соотношении обращенной "в себя" музыки и вполне самодостаточной хореографии. То есть в корне трансформировано само качество музыкально-пластического синтеза, основывающегося не на внешнем резонансе некоего главенствующего элемента над неким подчиненным, а на взаимном преображении, взаимной разработке равнозначных единиц общего музыкально-хореографического целого. 169 дробно и неординарно рассмотрена в трактате "Анализ красоты" известного английского художника XVIII века У. Хогарта. Нам представляется весьма важным и близким опыт художникановатора в осмыслении природы движения и способов его пластической реализации в живописи. "Движение, — пишет Хогарт, — есть род языка, который, быть может, со временем будет изучаться с помощью чего-либо, вроде грамматических правил..."10. Такое предположение вполне оправдало себя. Структурный анализ поэтических и музыкальных текстов, равно как и хореографии, дает весьма широкий спектр толкования поэтики движения. Нас в большей степени интересует процесс ассимиляции зрительных образов в образы музыкально-пластические. У. Хогарт, пристально изучающий линеарную сущность живописного пространства, дает нам верный смысловой ключ для осмысления пластического воплощения движения: "Известно, что тела при движении всегда описывают в воздухе ту или иную линию... Для того чтобы получить правильное представление о движении и в то же время быть твердо убежденным, что движение это правильное, давайте вообразим линию, получающуюся в воздухе от движения любой предполагаемой точки на конечности, или от движения части тела и конечности, или, наконец, всего тела целиком... После того как мы составим себе представление о всех движениях как о линиях (курсив мой. — Ю. А.), будет нетрудно понять, что грация движения зависит от тех же правил, которые создают ее в формах..."11. Следует зафиксировать своеобразную смысловую параллель между хогартовским толкованием пластического восприятия движения и спецификой музыкального развертывания. В сущности, музыка является идеальной формой преображения статической эвклидовой точки в линию. Сам принцип сложения звуков в интонации, фразы и т. д. — идеальный символ линеарно осмысленного движения. Мы уже говорили о специфике инерции музыкального движения как о системе внутренних напряжений. Линеарное членение многомерной музыкальной ткани едва ли не единственный способ найти ее максимально верное пластическое разрешение. Речь идет о специфике линеарно-контурного видения всего, что составляет сложение музыкальной текстуры. Пластическая трансформация музыкального текста требует от хореографа подробной расшифровки всех слагаемых музы170 кальной ткани. Существует некий универсальный инструментарий, позволяющий адекватно переводить образы музыкального времени в пластическое пространство хореографии. Все важнейшие средства музыкальной выразительности, органичное сочетание которых и составляет существо музыкального стиля, находят свои смысловые alter ego в средствах хореографии. Способность трансформировать все составляющие музыкальной речи в визуальные образы художественного движения — это и есть то, что можно назвать даром пластической расшифровки музыкально-художественного текста. Проблема музыкально-хореографического стиля не ограничивается некоей формальной совокупностью стилеобразующих средств выразительности. Поскольку нам предстоит определить физиогномические свойства самых различных и сложных хореографических воплощений музыки, важным будет осмысление стиля как закона внутренней формы, определяющего образную поэтику и тектоническое сложение музыкально-хореографических произведений. Этимологическая связь музыки и танца определяется своеобразием того таинственного, но вполне достижимого взаимного зеркального резонанса, который рождается из единения искусств, воплощающих в себе совершенное художественное отражение пространственно-временных измерений мироздания. Габричевский А. Теория искусствознания: Философия искусства. Теория пространственных искусств // А. Габричевский. Морфология искусства. М., 2002. С. 149. 2 Стравинский И. Музыкальная поэтика // И. Стравинский. Хроника. Поэтика. М., 2004. С. 184. 3 Там же. 4 Там же. 5 Там же. С. 185. 6 Там же. 7 Гадамер Г.-Г. О круге понимания: Актуальность прекрасного // Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 313-315. 8 Стравинский И. Танцевальная симфония — ближайшая цель композитора. // И. Стравинский. Публицист и собеседник. М., 1998. С. 169-170. 9 Ортега-и-Гассет Х. Musicalia. // Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия. Культура. М., 1991. С. 174-175. 10 Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987. С. 196. 11 Там же. С. 197. 1 171 А. А Литовкина PERPETUUM MOBILE Т. И. ШМЫГИ В 70—90-е годы XX века исполнительское искусство Т. И. Шмыги предстает как зрелый эстетико-стилевой феномен, окончательно формируется ее вокально-сценический облик; складывается ее собственный репертуар, определяется характерный круг предпочтений — жанровых, содержательных. Мир женской души — сквозная тема ее творчества — раскрывается во всей полноте. Напомним, что уже в 50—60 годы Шмыга создала на сцене Московского театра оперетты галерею запоминающихся образов, соответствующих ее актерской индивидуальности и ее голосу, — Виолетты из оперетты И. Кальмана "Фиалка Монмартра", Тони Чумаковой из оперетты И. Дунаевского "Белая акация", Любаши из "Севастопольского вальса" К. Листова. Оперетта классическая и современная, мюзикл — в каких бы жанрах ни работала Шмыга, она всегда стремилась к воссозданию красоты образа, осмыслению, выявлению его внутренней сущности. С самого начала творческой деятельности Шмыга ощущала себя синтетической актрисой, гармонично сочетающей вокальную и драматическую стороны своего таланта. Тогда же, в 50-е годы, зародилось ее пристрастие к праздничности, к карнавальности, легкости и вместе с тем отражению душевного состояния своих героинь. Не случайно исполнение молодой актрисой Татьяной Шмыгой ролей Тони, Любаши, Чаниты, Гали стало не просто частной актерской удачей. Оно открывает новые грани в представлении о лирикодраматических возможностях театра оперетты и заставляет задуматься не только об актерской судьбе исполнительницы, но также и о судьбе жанра в целом. Начало 1970-х годов — определенный рубеж в деятельности Шмыги: актриса берет небольшой тайм-аут. Время, которое поз172 воляет мастеру проанализировать сценический путь, пройденный за предшествующие годы, а так же наметить перспективы дальнейшего движения. Накопив опыт работы в жанре оперетты, испытав свои возможности в мюзикле1, Т. Шмыга явственно ощущает потребность в расширении творческих горизонтов. Музыкальный спектакль — эта идея витает в воздухе, не оставляя равнодушной и Т. И. Шмыгу. Не случайно ее желанием было переименовать театр оперетты в музыкальный театр (об этом она часто говорила на встречах со зрителями и в интервью с журналистами). И в этом плане Шмыга исходила не только из собственного опыта, но и из театральных устремлений ведущих режиссеров рубежа 60—70-х годов — Г. Товстоногова, М. Захарова, А. Эфроса, М. Розовского. Ю. Завадский прямо говорил, что "будущее за музыкальным театром". Большую роль в дальнейшей творческой биографии Шмыги сыграли увиденные ею спектакли М. А. Захарова, знаменитые постановки "Тиль" и "“Юнона” и “Авось”". В них Шмыга нашла то, что интуитивно искала ранее: соответствие слова, вокальной интонации и сценического движения, глубину содержания в сочетании с игровыми моментами. Важное значение приобретает встреча с композитором А. Л. Кремером — дирижером Театра сатиры, участвующим в постановках музыкально-драматических спектаклей, чувствующим сцену, мастерски воплощающим ситуации и создающим потеатральному зримые образы персонажей. К концу семидесятых годов в содружестве с А. Кремером актриса выпускает первый спектакль "Эспаньола" по мотивам произведений Лопе де Веги (1977 год, пьеса Ю. Ершова, либретто К. Филипповой). За ним последовали оперетта "Катрин" по пьесе В. Сарду и Э. Моро "Мадам Сан-Жен" (1984 год, либреттисты А. Дмоховский и И. Прут), мюзиклы "Джулия Ламберт" по роману С. Моэма "Театр" (1990 год, либретто В. Зеликовского) и "Джейн" по новеллам С. Моэма (1999 год, либретто В. Зеликовского). В них актриса смогла найти баланс между условностью игры, присущей "легкому жанру", и правдивостью в отображении чувств персонажей, раскрыть себя именно как актриса-певица, не довольствующаяся определенным опереточным амплуа, а стремящаяся к созданию образов-характеров, к выстраиванию, исходя из музыки, драматургии роли. "При исполнении я всегда иду от музыки — она для меня главное, 173 она дает мне больше всего при создании образа", — отмечает Т. Шмыга2. В связи с этим обратимся к роли Джейн из одноименного спектакля — одной из значительных удач Т. Шмыги. Присущий Шмыге дар перевоплощения обнаруживается в этом спектакле как в блестящей сценической игре актрисы, ее певческой интонации, так и в продуманной, в зависимости от той или иной ситуации, смене костюмов, гриме. Моэм написал новеллу о даме уже преклонного возраста, вдове, которую вернул к ослепительной молодости ее юный поклонник. Шмыга раскрывает разные ипостаси образа: экстравагантной вдовы и молодой красивой женщины, только познающей тайны любви. В построении роли Джейн, выявлении ее "персонажной судьбы" (И. Силантьева) существенное значение также приобретает драматургический прием, используемый режиссером постановки С. Кутасовым. Бой курантов, символизирующий звон часов Биг Бэна в Лондоне, пронизывает все действие. Он напоминает образ быстротекущего времени, которое неумолимо несется вперед. Но героине мюзикла, как и самой актрисе Т. Шмыге, время посчастливилось остановить. Судьба дарит Джейн встречи с двумя мужчинами. Мейсон открывает перед ней мир любви, с адмиралом же героиня понимает, что такое по-настоящему глубокое чувство. Влюбленность и любовь — и то, и другое Шмыга играет с полной самоотдачей. Ее первое появление шокирует не только родственников, лорда Тауэра и его жену Мэрион, но и публику. Похожая на великовозрастную гимназистку, в немодном плюшевом платье с фонариками, с закрученными косичками на ушках, такая смешная, под звуки "детской считалочки" Шмыга словно девочка, играющая в классики, прыгает и поет: "Годы — не беда, годы — не беда... И я как будто снова молода!". Ее прерывает Мэрион, представляя другу семьи — адмиралу Королевского флота сэру Реджинальду Фрошиберу. Неожиданна реакция оркестра — в партии виолончелей, которым чувственно отвечает кларнет, звучит лирическая тема. Эта тема станет олицетворением любви Джейн (она прозвучит и в дуэте Джейн и Мейсона, и в ее арии, обращенной к адмиралу, в конце спектакля). Пока же Джейн— Шмыга продолжает игру: вытягивается и, будто бравый офицер, отдает честь адмиралу. Чеканя под козырек и продолжая озорно 174 бегать под музыку "детской считалочки", Джейн—Шмыга еще более удивляет своим поведением родственников — вдове за пятьдесят! Однако она приготовила для всех еще один сюрприз. Джейн объявляет о том, что выходит замуж. И делает это Шмыга с такой легкостью, словно ожидает, что все безумно рады ее счастью. Дуэт Мейсона и Джейн становится лирической кульминацией первого действия, дуэт — пробуждение чувств, новых, неизведанных. В этот момент Шмыга преображается и внешне, и внутренне. Рубиновое бархатное платье с большой брошью под грудью — красный цвет победы, как он шел ей, по-королевски шествующей из глубины сцены! Слова Джейн полны любви — чистой, искренней, нежданно нахлынувшей. Благодарность слышится в интонациях голоса: "Мальчик мой, как я тебя благодарю!". В ее пении отражается многое: и горечь сожаления о прошедших годах, и надежда, а вдруг это настоящее, что должно быть? Ведь счастья в первом браке не было. Музыка этого дуэта помогла Шмыге раскрыть истинное лицо героини и передать всю глубину тоскующего сердца. Ее голос звучал то надрывно, еще чуть-чуть, и она расплачется, то по-матерински тепло, то нежно, ласково приглашая к диалогу — танцу любви. Очаровательна меланхолическая вальсообразная мелодия (подобно старинной шарманке), усиливающая слова-жесты влюбленных. Медленно вальсируя, Джейн—Шмыга не сводит восторженного взгляда с поклонника: "И пенье птиц, и шум дождя, и запах травы...". Вот оно — счастье, почти нереальное. Трепещущий голос Шмыги словно тонкой, "серебряной" ниточкой накрывает голос партнера. На высоких нотах тембр голоса Шмыги приобретает серебристый оттенок. Во второй октаве и выше обертоны имеют такую специфику полетности, что слова, произносимые певицей, будто доносятся из-за заоблачной выси3. Это подчеркивает и прозрачная оркестровая звучность, в которой преобладает теплый тембр струнных (их звучание почти не выходит за пределы piano). Выразителен заключительный момент дуэта-танца: спокойно, уверенно, ощущая крепкое рукопожатие, смотрит вдаль Шмыга. Ее поза напоминает птицу, которая вот-вот вспорхнет и улетит. "Вообще, играя сегодня последовательно и утонченно бесконечные вариации на тему "поздней любви" (и в пересказе 175 романа С. Моэма "Театр", и в спектакле по его же новеллам "Джейн"), Шмыга дает урок высокой культуры чувств, нигде не срываясь в "темные" стороны подобных тем и сюжетов"4. Следующий же дуэт Джейн и Мэрион (двух сопрано) полон противоречивых чувств. Он представляет собой большую сквозную сцену ссоры, взаимных обид, упреков и примирения. Яркая, харáктерная музыка Кремера помогает Шмыге быть разной в данной ситуации. "Но главное, что меня радует в "Джейн", — это музыка"5, — говорила Т. Шмыга. Мэрион завидует Джейн: "Оставь его, ты в своем уме? Он — негодяй!". Смеясь, шутя, Шмыга старается погасить гнев подруги, пытающейся убедить Джейн, что Мейсон — обольститель. Когда же Мэрион бросает: "Да ты, ты, ты — старуха!.." — по лицу Шмыги пробегает тень усмешки. Горькая правда от близкой подруги — вдвойне больней. И момент примирения. Голоса сливаются в искреннем чувстве двух женщин, пытающихся обрести истинную любовь: "Летят года, летят года, и нет пути назад...". Льющийся, тонкий, юный голос Шмыги проникает в души зрителей. Возникает своеобразный эффект "свежести первичного ощущения слова" (Г. Артоболевский). Певица смогла в этой сцене найти такие краски, интонации, которые трогают за живое, пробуждают чувства жалости и обиды за героиню. Сопереживания, которые вызывает героиня Шмыги, близки и понятны зрителю. И музыка также созвучна настроению: минорные пассажи, ласково убаюкивающие, и четкий ритм, ассоциирующийся с ударами метронома, словно отсчитывающего время. На этом фоне Джейн несколько раз повторяет: "К сожалению, ни один человек моего возраста не делал мне предложение". Голос Шмыги звучит при этом звонко, по — ребячьи, как у маленькой девочки (переходя с высокой позиции пения, Шмыга продолжает оставаться в ней и в разговоре). Она как будто смеется над собой. И тут же, резко сменяя тему, Джейн восторженно сообщает, что она с Мейсоном уезжает в Париж. Шмыга демонстрирует решимость своей героини, смело погружающейся в очередную авантюру. Ей нравятся все превращения, которые с ней происходят, и, кажется, Джейн до конца не понимает, куда они ее приведут. 176 В соответствии с режиссерским замыслом, Париж Джейн — это воспоминания, которыми она делится с родными и близкими по приезде в Лондон. Шмыга мастерски продемонстрировала это в сцене светской вечеринки в гостях у брата. "А на что вы тратили время в Париже?" — спрашивали Джейн. "Ах, мы... Мы танцевали", — отвечала Джейн и, оттянув паузу, актриса четко и коротко, громко, почти вызывающе, обращалась к оркестру: "Танго!". Джейн—Шмыга опять играет, но душа ее открыта миру любви. Ощущение полноты жизни исходит от каждого ее движения, глаза сияют счастьем. Отклик аккордеона, погружающего в атмосферу парижского танго — праздника любви, вечной молодости. На фоне прозрачного занавеса с Эйфелевой башней, под зажигательную музыку, в ярко-красном платье и пикантной шляпке с высокими перьями, в страстном порыве героиня Шмыги начинала танец в объятьях Мейсона. А затем, легко двигаясь по всему пространству сцены, меняла кавалеров. Привлекает отточенность буквально каждого движения актрисы. Грациозно, без резких движений она танцевала с Элиотом, встречая его улыбкой. Повороты головы ритмично сочетаются с движением ног, словно подчеркивая их единение. Вот ее подхватывают артисты балета, и, изящно прогнувшись на их руках, словно на волнах, она раскачивается в ритме танго. Эмоциональное напряжение нарастает. Под четкий ритм кастаньет, акцентирующих значимость момента, Шмыга подходит в танце к Реджинальду. Он властно подхватывает ее сильной рукой за талию, как будто преисполненный долгим ожиданием встречи с ней. (В спектакле его играет Г. Васильев, любимый партнер Т. Шмыги.) Очарованный Джейн, адмирал притягивает ее к себе любящим взглядом. Она невольно отвечает, но танго заканчивается, и танец переходит в светскую беседу. Драматургически выверенные акценты в судьбе своей героини расставляет Шмыга и во втором действии — стремительном, полном интриг, ошибок и событий, которые связаны с Джейн. Опять бьют куранты старинных часов над Темзой. Начало действия — прием у королевской особы по случаю назначения адмирала Реджинальда. Появление Джейн — всегда событие в свете, теперь она — блестящая дама. При этом ее костюм символично гармонирует с формой адмирала: элегантные белые брюки, голубой пиджак, напоминающий морской китель, и голубой бе177 рет. Фантазиям о морской службе посвящены и ее куплеты, которые она поет в этой сцене, представляя себя офицером6. Шмыга вновь обнаруживает талант перевоплощения. Ее походка как у заправского морячка, привычно переваливающегося с ноги на ногу. И мгновенное переключение — откликаясь на призыв горна и энергичную мелодию в ритме марша, звонко стучат каблучки актрисы: она лихо отбивает чечетку. Затем, чеканя шаг со словами-слогами песни: "Я отдаю приказ! Чтоб каждый день, чтоб каждый день парады. Оркестры духовые и награды! И это все для Вас!", на фоне трещоток в оркестре, Шмыга вступает в танец с кордебалетом. Оркестр же, как бы разъезжаясь в разные стороны (струнные по полутонам поднимаются вверх, а духовые, будто хохоча, спускаются вниз), акцентирует всеобщее веселье, царящее на сцене. Темп постепенно ускоряется, танец приобретает каскадный характер и, достигнув кульминации, обрывается. Так героиня скрывала свои переживания. На вопрос к самой себе: "А любит ли она по-прежнему Мейсона?" — она уже не может ответить утвердительно. Танго с адмиралом не оставило Джейн равнодушной. Новая же встреча с ним на приеме заставила еще сильнее биться ее сердце. Ее выдает поза — чуть напряженная, порывистое движение руки, словно бы украдкой брошенный в сторону адмирала заинтересованный взгляд. Реджинальд же и не пытается скрыть своих чувств, он покорен Джейн и не отходит от нее, знакомит со своей племянницей Элизабет, которая флиртует с Мейсоном. Элизабет заинтересованно спрашивает: "Джейн, почему вы одна?". "Он занят", — отвечает Джейн. Шмыга проводит эту сцену очень просто, как бы со стороны глядя на происходящее: ее героиня действительно полюбила адмирала и понимает, что должна расстаться с Мейсоном. Ее почти юношеская влюбленность прошла. Джейн—Шмыга выступает первой в сцене объяснения, символично происходящей на фоне тиканья напольных часов, словно отсчитывающих последние мгновения их совместной жизни. Молодая, с улыбкой на лице, в белоснежной тунике, отороченной перьями, и в белых брюках, белых атласных перчатках до локтя — такой предстает перед Мейсоном Джейн—Шмыга. Чувствуя разрыв, Мэйсон умоляет вернуться: "Как во сне, проснуться не могу... куда не погляжу, всюду ты...". Шмыга же уходит в мир 178 грез. Нежно звучит ее голос, вальсообразная мелодия придает ее размышлениям мечтательный характер. Любовь Джейн неподвластна времени и уже не принадлежит Мейсону: "Года, летят года, вся жизнь мгновенна... Мне жизнь дала такое счастье — найти любовь... любовь во все века благословенна!" Чувственная аура слова-интонации ощущается в этот момент. Подчеркивая согласную "л", Шмыга тем самым выразительно окрашивает слово "любовь", которое интонируется ею с особой ласковостью. Сильна ее вера в Любовь. И не потому ли взгляд Шмыги устремлен в будущее? Вдохновенным, звучащим на forte в мажоре, поддерживаемым оркестровым tutti, гимном большой любви завершается дуэт. Тембр голоса Шмыги насыщается какой-то удивительной теплотой. На пути к счастью героине Шмыги придется пережить многое: не только разрыв с Мэйсоном, но и месть ее подруги Мэрион. Все это Шмыга раскрывает убедительно и в жестах, и в вокальной интонации. Чувство всепоглощающей любви, которое испытывает ее героиня к Реджинальду, Шмыга особенно глубоко выявляет в арии второго действия. Ария Джейн обозначает кульминационный момент действия. Певица подхватывает энергичные ходы на широкие интервалы в оркестре. Голос Шмыги звучит драматически наполненно, подчеркивая особую экспрессию путем гибкости интонирования, психологической вибрации мелодических оборотов вокальной партии. Шмыга, однако, раскрывает не только волнение героини, она глубоко и вместе с тем со смирением переживает утрату. Недаром ария заканчивается как молитва, хоральными аккордами в оркестре. Шмыга—Джейн возносит руки вверх и молит Бога о счастье любимого: "О, Боже, благослови его!", а из глаз льются слезы. Актриса вдруг снова превращается в маленькую девочку, которая испытала безответную любовь и не может с этим справиться. Голос надрывно дрожит, страдание столь велико, что щемящее чувство сострадания охватывает зрителей. Так полно раскрылся талант Т. Шмыги — драматической актрисы — в этой сцене. Шмыга знает цену высокой мелодраме (курсив мой. — А. Л.), на которой истинный жанр оперетты всегда держался"7. Опираясь на спинку "вольтеровского" кресла, словно обессилив, 179 Шмыга заканчивает арию, как бы микшируя последние звуки, и вся в слезах быстро покидает сцену. В финале спектакля состояние души героини передается драматически: напряженная музыка, напоминающая стук уходящего поезда, словно стук ее исстрадавшегося сердца. Ей резонирует поза актрисы — само отчаяние! Все кончено... Но по законам жанра следует благополучная развязка. Неожиданно появляется Реджинальд, торопливо подбегает к Джейн, одиноко сидящей на привокзальной скамейке в ожидании ливерпульского поезда. А в оркестре расцветает мелодия любви. Героиня отвечает Реджинальду взаимностью. Их голоса сливаются в лирическом дуэте согласия. Эмоциональный посыл отражается в театральном жесте: Шмыга эффектно снимает дорожный плащ и остается в нарядном платье, соответствующем ее настроению. Джейн переполняет счастье — музыкальные образы прошлого проносятся перед ней и, прежде всего, ее "песенка-считалочка". Она незаметно переходит в танго — именно тогда и зарождалась ее настоящая любовь. "Эта роль, о которой каждая актриса может только мечтать... мюзикл продолжает мою сценическую жизнь", — подчеркивала Т. Шмыга8. В последние годы актриса с успехом выступает в музыкальном представлении "Большой канкан", задуманном постановщиком М. Бурцевым и художником В. Арефьевым как феерический концерт звезд-солистов театра. Ностальгические чувства пробуждает романс Луизы Жермон в интерпретации Шмыги. Всего одна страничка нотного текста, написанного Т.Н. Хренниковым, а вот уже не одно десятилетие это произведение будоражит и волнует сердца (в 1962 году Э.Рязановым был снят художественный фильм, двумя десятилетиями ранее создана музыкальная комедия Г. Гладкова). Романс Жермон, написанный в простой куплетной форме с припевом, Шмыга превращает в драматическую моносцену, насыщенную внутренними коллизиями. В свободном темпе, спокойно, на piano вступает Шмыга, сладостно и маняще звучит ее голос: "Меня позови, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый...". Романс — будто исповедь о несбывшейся красивой истории любви. Триольный рисунок аккомпанемента с хроматическими ходами у скрипок в оркестре придают музыкальному 180 высказыванию импровизационный характер. Свободно, плавно льется мелодия, и лишь в конце первого куплета голос Шмыги с особым трепетом взлетает к "ля" второй октавы: "...чудесней нет силы, чем сила любви". Легкие звуки словно повисают над театральным залом, проникая в сердца зрителей. Но вот тембр голоса Шмыги—Жермон становится более напряженным, как бы темнеет, элегическое настроение сменяется горьким выпадом: "Я пью, все мне мало, уж пьяною стала, и кружится зала, я пью все мне мало...". Атмосфера еще более накаляется. Голос Шмыги звучит на forte с болезненным надломом. Интенсивная психологическая вибрация ощущается в нем. Словно в "роковом вальсе" кружится с бокалом вина в такт оркестру актриса. "Но если конец, я плакать не стану... есть дно у стакана и в дуле — свинец", текст второго куплета находит отражение в меняющихся вокальных интонациях, которые становятся все возбужденнее. Используя уникальные оттенки своего голоса, Шмыга сумела передать глубину волнения Жермон. Словно целую жизнь проживает на сцене актриса. Нахлынувшие воспоминания бередят душу, ранят сердце, заставляют на мгновение вернуть прошлую любовь. Но Шмыга—Жермон не теряет самообладания, тут же справляется с собой; решительное, волевое слово-жест: возвратить былое невозможно. Однако, слушая певицу, вместе с тем понимаешь, что в глубине сердца ее героиня по-прежнему любит. Возникают ассоциации с ранее созданными Шмыгой "опоэтизированными образами девушек, хранящих верность своим идеалам" (Е. Фалькович). В отличие от фильма, где песня-романс Шмыги—Жермон звучала на фоне массового действия, в окружении гусар и главных героев, здесь актриса оказывается на авансцене одна и разыгрывает театрализованный монолог. От куплета к куплету разворачивается сквозное действие, с точно выверенными Шмыгой эмоциональными градациями. Особенно динамичен финальный, третий куплет: шутливое, с горчинкой, объяснение в любви в тайной надежде на продолжение романа: "Я гибели рада... окликнешь из ада, вернусь я к тебе вдруг". В этот момент актриса, поднимая бокал, отчаянно чокается с гусаром, которому изливает душу и взглядом ищет у него сочувствия. 181 Жермон в исполнении Шмыги воспринимается натурой неоднозначной и в чем-то загадочной. В ней чувствуется и некая надломленность, незащищенность и вместе с тем волевое начало. Небезынтересен отзыв Е. Фалькович о роли Т. Шмыги в фильме: "Песня Жермон "Я пью, все мне мало, уж пьяною стала..." — вроде поддерживает дух гусарского веселья и отвечает ему, а приглядишься и прислушаешься — в ней нет победы и счастья, лишь чистая хрусталинка печали дрожит в голосе"9. Эта "чистая хрусталинка печали" ощущается и в театральном облике Жермон, в ее пластике, чуть замедленных, неуверенных жестах рук, повороте головы; временами она напоминает образы чеховских героинь. Спектакль "Давным-давно" никогда не шел на сцене Московского театра оперетты, но теперь благодаря Т. Шмыге полюбившийся зрителям образ ожил на театральных подмостках. Роль Луизы в комедии "Давным-давно" задумывалась авторами, а впоследствии и трактовалась в театрах страны обычно как "героинявамп", избалованная вниманием мужчин красавица, играющая в любовь. Уже в кинофильме Шмыга преодолевает стереотип "примадонства", на театральной же сцене перед зрителями предстает незаурядная человеческая личность. В "Большом канкане" Шмыга играет и знаменитую Сильву из оперетты И. Кальмана "Королева чардаша". Роль, о которой в свое время было столь много сказано и написано, Т. Шмыга помнила еще со студенческих лет, посещая спектакли с участием прежних премьерш — Т. Я. Бах, К. М. Новиковой, Р. Ф. Лазаревой. В своих воспоминаниях Т. Шмыга пишет, что это были настоящие примадонны, "с солнцем в крови". Относясь к себе довольно критично, Т. Шмыга считает, что никогда не имела достаточно сильного для оперетты голоса, и поэтому не была ни Сильвой, ни Марицей, ни Ганной Главари (роль, о которой она мечтала всю жизнь). И вот на склоне лет... Шмыга выступила в роли легендарной Сильвы — пусть в эпизоде, но каком! Это сцена бала из второго действия, где Сильва вновь встречает Эдвина. Приведем высказывание Т. И. Шмыги о спектаклях 1950-х годов: "При внешней возрастной небесспорности Сильв, Мариц, Роз-Мари мастерство актрис покоряло зрителей: на сцене они были красивые, эффектные — в стиле той прежней, традицион182 ной оперетты"10. Иной предстает Сильва в исполнении Т. И. Шмыги. На сцене появляется обыкновенная женщина, растерянная от неожиданной встречи с горячо любимым Эдвином (Г. Васильев). Герои стоят рядом в двух шагах и практически не смотрят друг на друга, но исходящая от них энергетика столь велика, что зал сначала замирает, а затем взрывается аплодисментами. Как же воплощала Шмыга несчастную любовь молодой актрисы варьете, социальное положение которой не дает ей возможности вступить в брак с аристократом? Без привычных для старой заигранной оперетты "перехлестов", с подлинным драматизмом и яркой эмоциональностью, соблюдая при этом чувство меры, Шмыга играет Сильву. Известие о помолвке Эдвина приносит ей невероятную боль, с которой она с трудом справляется. Шмыга—Сильва съеживается и от этого становится совсем маленькой, но надежда не покидает ее, отступает страх. В глазах вспыхивает множество сияющих огней, актриса высоко поднимает голову, распрямляет плечи и словно вырастает. Обиду, боль, страх, нерастраченную любовь — все это, отражаемое на ее лице, в один момент переживает Шмыга—Сильва. Глаза вдруг начинают блестеть, то ли от слез, то ли от счастья: чувственная мелодия медленного вальса рождает сладостные воспоминания: "Как забыть мне те мгновенья, нашу свадьбу там на сцене, где в любви мы поклялись"! Но тут же обреченно добавляет: "Все прошло, и нет любви". Однако в глазах светится вопрос: так ли это на самом деле? Неуловимое очарование исходит от звуков голоса певицы, окрашенных одновременно в тона печали и ласки. Исподволь, с легкой улыбкой, она любуется Эдвином. Аура любви окутывает героев. И вновь надежда сменяется отчаянием: "Хоть признать, что все обман, сердцу больно". И еще один эмоциональный сдвиг. В темпе быстрого вальса победоносным "Тра-ля-ля-ляля..." заканчивает свое высказывание Шмыга—Сильва. Она пытается справиться с треволнениями. Однако ее поза выражает страдание: плечи чуть опущены, фигура явно напряжена. Она отворачивается от Эдвина, чтобы не видеть его любящего взгляда и не показывать своих переживаний. Оба оказываются заложниками всепоглощающей любви. Дуэт заканчивается на пронзительной ноте, на forte, широко на legato, в унисон звучат их голо183 са: "Пусть это был только сон, но какой дивный сон!". Голос Шмыги обретает в это мгновение небывалую силу. Новой страницей в искусстве актрисы, раскрывающей богатство ее внутреннего "я", стала роль женщины в "Перекрестке". "Перекресток" ("Варшавская мелодия — 98"). На исходе XX века Л. Зорин подарил Гелене и Виктору возможность встретиться еще раз, только теперь у них нет имен. Он и Она, мужчина и женщина на новом жизненном перекрестке вспоминают о той единственной настоящей любви, которую подарила им судьба и которую они не смогли сберечь. Что побудило Шмыгу в 2006 году принять предложение главного режиссера Московского драматического театра имени М. Ермоловой участвовать в спектакле? Что привлекло ее в пьесе Л. Зорина? Прежде всего, глубокая психологическая ситуация, в которой оказываются герои. "А какую боль испытывали зрители, когда Юлия Константиновна Борисова и Михаил Александрович Ульянов играли "Варшавскую мелодию"! Мелодию несостоявшегося счастья, от которого щемило сердце... Никогда не забуду тех своих ощущений"11. Шмыга подхватывает эту "мелодию несостоявшегося счастья", усиливая ее звучание. Тяготение Т. Шмыги к серьезным ролям прослеживалось и ранее в ее работах. Так, в 1977 году в Московском театре оперетты режиссером Ю. А. Петровым был выпущен спектакль "Товарищ Любовь" по пьесе К. Тренева "Любовь Яровая" (композитор В. Ильин, поэт Ю. Рыбчинский). "Любовь Яровая у меня получилась — роль "легла на душу", и мне потом нравилось играть ее. Считаю, что это была хорошая работа"12. ...Стремительно несется жизнь, оставляя в прошлом встречи и расставания, радость и боль, обретения и потери. Но однажды наступает такой момент, когда мужчина и женщина начинают все чаще оглядываться на пройденный путь. Вспоминать. Жалеть о сделанном и о несделанном. Они пытаются найти в прошлом ответы на мучительные вопросы дня сегодняшнего. И понимают, что большую часть отведенного им срока стремились это самое прошлое забыть. Стереть его из памяти новыми впечатлениями, новыми завоеваниями. Возникает парадокс: оказывается, что их настоящая жизнь была лишь тогда, когда они были рядом. Эти будоражащие их мысли всплывают внезапно в момент случайной 184 встречи. Перекресток, который Виктор когда-то назвал "магическим", вновь сводит мужчину и женщину. Желание сказать о главном в человеческой жизни — как это похоже на те роли и образы, что представляет Т. Шмыга в Театре оперетты, и как отлично от них. В драматическом театре Шмыга ощущает себя по-иному. Доминирует глубоко личностная, сердечная интонация, рельефно проступает "линия интуиции и чувства" (К. С. Станиславский). Игра актрисы обретает особую одухотворенность, отражает, в известном смысле, подлинность жизни. В построении роли актриса, говоря словами Вахтангова, идет "от сущности": "От существа факта жизни, факта произведения, от живой действительности"13. Аэропорт воспринимается как символическое пространство между небом и землей. Зал ожидания. Обычно это место многолюдно, шумно. Но для героев окружающий мир перестает существовать на эти два часа, пока отложен рейс. На сцене только Он и Она. Сидящий в кресле пожилой мужчина слушает объявления диктора о прилетах, вылетах, отменах рейсов. Эффектно спускаясь с лестницы сверху, словно ангел с неба, появляется женщина — молодая, подтянутая, красивая, одетая по-современному броско и вместе с тем изысканно: в оранжевый длинный пиджак, белые строгие брюки, с ярким шарфом на шее. (Этим примечательным аксессуаром Шмыга будет подчеркивать значительные моменты внутреннего действия). Заметим: актриса всегда очень требовательна к подбору театрального костюма, считая, что это неотъемлемая часть образа, и вместе с тем использует минимум грима, чтобы не утратить естественности. Во многих спектаклях Т. Шмыга прибегает к смене костюмов, но в "Перекрестке" она не прерывается на переодевание. Ее визуальный образ остается неизменным. Однако целенаправленными жестами, вибрацией голоса, тонкой нюансировкой, сменой темброинтонаций актриса раскрывает эмоционально-психологический процесс, отражающий драматические перипетии действия. Актриса проводит всю роль на одном дыхании, находясь на авансцене, в постоянном диалоге со зрителями. Найденный ею способ существования создает атмосферу доверительного общения между публикой и героями. Происходящее на сцене словно увлекает зрителей в мир их собственных воспоминаний. 185 Она передвигается легко и стремительно, но вдруг останавливается у кресел в зале: ее внимание привлек жест мужчины, до боли знакомым показался ей поворот головы. Делая вид, что внимательно прислушивается к голосу диктора, женщина скрытно, с любопытством начинает рассматривать мужчину. Практически сразу узнает его, он же так и остается в неведении. "Очень сложно играть и стараться быть неузнаваемой, — говорит Т. Шмыга, — балансировать на грани, показывая зрителю, что она узнала его, а он — нет" (из интервью автору). Мужчину привлекает ее яркая внешность, и он завязывает разговор: "На какой рейс приглашают пассажиров?". Обрадованная то ли родному для нее голосу, то ли неожиданной встрече, женщина откликается. Интонация разочарования все отчетливее слышится в голосе: он так и не узнал ее. Герои постепенно погружаются в воспоминания о прошлом. Они навевают боль, которая отражается на лице женщины. Пытаясь совладать с собой и уйти от тягостных воспоминаний, она переводит разговор в иное русло. Начинает рассказывать о своих мужьях, но при этом не трогает сокровенную тему — когда испытала настоящую любовь. "Уж лучше быть одной, чем с кем попало, мне не важно, что не любят меня, зато я люблю. Свобода, только свобода!" — с вызовом восклицает женщина. Повисает напряженная пауза. В своих высказываниях на протяжении всего спектакля Т. Шмыга неоднократно прибегает к паузе — к этому "драматургическому резонатору" действия (М. Ш. Бонфельд), осмысливая ее как психологический жест, обостряющий восприятие происходящего. Беседа возвращается в исходное русло. Перед глазами героев крупным планом проносятся эпизоды их совместной жизни. Знаменательный 1947 год, в канун наступления которого Виктор заснул, и они не пошли в гости. Легкая усмешка пробегает в уголках губ женщины: именно тогда они решили пожениться. Вскоре им пришлось расстаться, казалось бы, навсегда. Но спустя десять лет в квартире Гелены в Варшаве раздался звонок. "Езус, Мария", — вновь, как тогда, испугавшись от неожиданности, прошептала Она. Дыхание большого чувства словно пронизало ее насквозь. Слегка наклонив голову, судорожным жестом Она сбрасывает яркий шарф. Воспоминания будто накрывают ее. В этот 186 момент Шмыга мечтательно вглядывается в зрительный зал, словно видит перед собой кафе, где произошла новая встреча героев. В 1957 году в этом кафе Гелена пела для любимого "Злата перщена, злата перщена!". Актриса запевает песню с такой нежностью, точно старается вложить в нее ту же интонацию, что и ее героиня много лет назад. Неожиданно для себя женщина вдруг спрашивает у мужчины: "Тебе было хорошо тогда?". И смущается: ведь именно в кафе после пения она призналась ему в любви. Медленно привстав, затаив дыхание, с нетерпением героиня Шмыги ждет ответа. Секунда общей растерянности... Длинная, точно драматургически выдерживаемая актерами пауза подчеркивает значимость момента. "По существу, в современном театре основным свойством создаваемого характера должен стать особый, индивидуальный стиль мышления, отношения героя к миру, выраженный через определенный способ думать. Вот почему такое большое значение приобретают сейчас так называемые "зоны молчания", как называл их А. Д. Попов. Актер может ничего не произносить на сцене, но зритель должен осязаемо ощущать каждую секунду этой "зоны молчания", чувствовать трепетную, активную мысль актера, понимать, о чем он в данный момент думает. Без умения напряженно мыслить на сцене искусство артиста современным быть не может", — рассуждал в своей книге Г. Товстоногов14. В спектакле-дуэте Шмыги и Андреева данная пауза обозначает "тихую" кульминацию действия: сейчас должно прозвучать главное. Мысль реализуется в слове: "Она призналась, что любит меня, я с этим живу всю жизнь". Душераздирающие звуки музыки Альбениса в исполнении виртуоза-гитариста заполняют все пространство, усиливая драматизм ситуации, — так долго Она ждала этого признания. Шмыга горестно закрывает глаза: все прошло, время невозможно повернуть вспять. Актриса играет полное опустошение; руки в этот момент становятся безжизненными, опускаются как плети, а за ними по полу сцены волочится шелковый, длинный желтый шарф. Шмыга проживает данную сцену настолько психологически достоверно, что, кажется, сердце ее заходится, сбивается с ритма, и ритм этот звучит громко, на весь зрительный зал. И еще одно воспоминание пронеслось перед ними — о встрече спустя еще десять лет в Москве в Большом зале консер187 ватории. Гелена давала концерт, что напомнило Виктору их первое свидание на перекрестке улиц Герцена и Огарева. Слова его были так горячи, казалось, он объясняется ей в любви. У женщины потекли слезы. И Она уже готова простить ему все: годы разлуки, мучительное ожидание и терзания. Но... вдруг женщина с обидой вспомнила, как он начал потом хвастаться, что стал профессором, защитил докторскую диссертацию. И тогда, и сейчас ей неприятно было это выслушивать. Она стояла, не шевелясь, чему-то саркастически улыбалась про себя, затем грациозным движением подняла руки, перебросила шарфик через плечо и заговорила о последнем муже. А фортепьянные звуки ноктюрна Ф. Шопена словно приоткрыли завесу над ее подлинными чувствами, она замолчала, будто бы унеслась на волнах прекрасной музыки в чудесный мир несбыточных грез. И в это мгновенье особенно остро ощутила свое одиночество. Чуть отстраненно Шмыга—Она выговорила, растягивая слоги: "Мы были чужими всегда, или стали сегодня?" И, удивляясь себе, будто пропела: "Откуда это чувство?" Переходом от речи к пению Шмыга тонко подчеркнула перемену в душевном состоянии своей героини. Снова психологическая пауза — момент осмысления истины. Перекресток свел и вновь развел их — теперь уже навсегда. Будто задыхаясь, мужчина выдавливает из себя: "Она была лучшая женщина". Героиня Шмыги медленно поднимает голову, закрывая лицо ладонями. Она не хочет, чтобы Он видел ее такой. Неожиданно диктор объявляет посадку. Обрадованная сложившейся ситуацией: ведь еще немного, и Она бы, несмотря ни на что, открылась бы ему, Шмыга легко запевает фронтовую песенку: "Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брестская улица на Запад нас ведет...". Молодость, любовь, упоение жизнью — как давно это было! Он же напоследок неожиданно говорит: "А я Вас узнал". Женщина резко бледнеет, у нее подкашиваются ноги; поднимая руки кверху, Она с надеждой в голосе вопрошает: "Узнал?". "Вы — Яна Хмелевская, писательница", — резюмирует Он. Последний монолог, пронизанный экспрессивно окрашеными темброинтонациями, актриса произносит, обращаясь к залу, и одновременно будто говоря сама с собой: "Ну что, наигралась, самозванка... Все-таки он меня не узнал!" — остановилась, огля188 делась вокруг. И, обливаясь слезами, бросила слово-жест: "Не узнал!?" — то ли вопросительно, то ли утвердительно, с отчаянием и безысходностью, активизируя его внутреннюю энергию. Музыка подхватывает высказывание женщины: символично звучит знаменитая песня "Мишель" в исполнении ансамбля "Битлз". "Перекресток". Спектакль-дуэт, но, быть может, еще в большей степени монолог, погружающий зрителей в театр души актрисы. В арсенале средств Т. И. Шмыги последних десятилетий XX века — начала XXI столетия привлекает многое: выразительные тембровые модуляции голоса, богатство мимики, музыкальная ритмичность движений, нередко почти балетная грация, своеобразная "напевность походки" (К. Рудницкий), эмоциональная гибкость и пластичность в выражении того или иного настроения, что позволяет ей создавать чувственно и зримо воспринимаемые образы. Среди характерных черт ее исполнительского искусства отметим: высокий уровень культуры, чувство меры, строгий художественный вкус, но, быть может, самое главное — артистизм владения одновременно искусством переживания и представления, свободный поиск золотой середины между опереттой, мюзиклом и драматическим спектаклем. 1 Назовем роли Элизы Дулитл в мюзикле "Моя прекрасная леди", Джейн из одноименного мюзикла, Джулии в мюзикле "Джулия Ламберт". 2 Шмыга Т.И. Счастье мне улыбалось. М., 2001. С. 276. 3 Работа над вокальной партией Джейн была трудна (она написана в очень высокой тесситуре), но Кремер, как вспоминает певица, «ни в какую не захотел ничего менять в партии Джейн и оказался прав: мне теперь не просто удобно петь, но и интересно. Сейчас я пою Джейн лучше, чем все остальное».— Шмыга Т.И. Счастье мне улыбалось. С. 298. 4 Иняхин А. Звезды Московской сцены. Татьяна Шмыга // Московская оперетта. М., 2001. С.293. 5 Цит. по: Езерская Е. Татьяна Шмыга: сохранить молодой голос // Музыкальная жизнь. 2000, №2. С.16. 6 Декорации данной сцены — огромный флаг Великобритании закрывает заднюю стену, везде на постаментах расставлены макеты парусников и фрегатов. 7 Иняхин А. Звезды Московской сцены. Татьяна Шмыга. С. 292. 8 Езерская Е. Татьяна Шмыга: сохранить молодой голос. С. 17. 9 Фалькович Е.И. Татьяна Шмыга. М., 1973. С. 68. 10 Шмыга Т.И. Счастье мне улыбалось. С. 67. 189 Там же. С. 201. Нельзя не учитывать старинную дружбу еще со студенческих времен Т.Шмыги и В.Андреева. 12 Там же. С. 271. В данном случае в "Перекрестке" актрисе было интересно испытать и свои драматические возможности. Почему бы нет? Ведь смогла реализовать себя оперная певица Е.Образцова как драматическая актриса в спектакле режиссера Р.Виктюка "Антонио фон Эльба". 13 См.: Бармак А. Художественная атмосфера. Этюды. М., 2004. С. 160. 14 Товстоногов Г. Зеркало сцены. М., 1980. Т.1. С. 221. 11 190 О культуре В. Б. Сназина ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА В ОСВЕЩЕНИИ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ Выдающийся французский писатель Теофиль Готье посетил Россию дважды — сначала в сентябре 1858 года, возвратившись в Париж лишь в марте следующего года, а затем в 1861 году вместе со своим сыном. Результатом этих поездок явилась серия альбомов "Художественные сокровища старой и новой России" (1859— 1862) и книга "Путешествие в Россию" (1866). Отличительной чертой его последней работы является высокая степень информативности, что и позволяет рассматривать "Путешествие в Россию" документом одновременно и историческим, и литературным. И если перевод на русский язык книги "Путешествие в Россию" Теофиля Готье появился только в 1988 году1, то "Художественные сокровища старой и новой России" ("Tresors d`art de la Russie ancienne et moderne") являются библиографической редкостью и до сих пор не были предметом специального исследования. На первом месте в работах Готье о России стоят его художественные впечатления от русской природы (не случайно, несмотря на материальные затруднения, он посетил Россию дважды и именно в разные времена года — и зимой, и летом). Первое путешествие Готье приходится на зимние месяцы. И конечно, зима в России оказала на парижанина, причем парижанина южного происхождения, неизгладимое впечатление. "Зима в России, — по словам Готье, — обладает особой поэзией, ее суровость восполняется красотой, чрезвычайно живописными эффектами и видами" (190). Россия зимой кажется Готье страной, которая хоть в малой степени оправдывает некоторые штампы романтиков. "Стволы елей, — пишет он, — выстраиваются колоннами, и название "храм природы", данное романтиками лесам, таким образом оказывается очень подходящим" (77). Готье отмечает осо191 бую меланхоличность русских зим. По его словам, "невозможно себе представить странное и грустное величие этого необъятного белого пейзажа, похожего на вид, наблюдаемый нами в телескоп, направленный на Луну в полную фазу ее видимости. Я, — продолжает Готье, — словно находился на мертвой, навсегда скованной вечным холодом планете. Просто отказываешься поверить, что это величайшее нагромождение снега когда-то растает, улетучится или утечет в море с разбухшими волнами рек, и что придет весенний день и зазеленеют усеянные цветами ныне бесцветные равнины. Низкое облачное небо сплошного серого цвета кажется желтым от белизны снега. Оно усиливает меланхоличность пейзажа" (212-213). Готье часто пишет о своей любви к снегу, о красоте снежного пейзажа. "Я питаю к снегу особое пристрастие, и ничто мне так не нравится, как эта ледяная рисовая пудра, от которой светлеет темный лик земли. Эта нетронутая, девственная белизна, усыпанная, как паросский мрамор, сияющими блестками, мне нравится более, нежели богатейшая иной раз игра красок. Когда я иду по покрытой снегом дороге, мне представляется, будто я ступаю по серебряному песку Млечного пути" (338). На Теофиля Готье большое впечатление произвел Царскосельский парк, о котором французский путешественник писал, что он живописен в любое время года: "…если в течение лета парк в Царском Селе восхищал взгляды свежестью и пышностью своей зелени, смешанными живописными изображениями, зимой он представляет не менее восхитительное зрелище. У русской зимы красоты, о которых мы даже и не подозреваем в туманном и дождливом климате запада..."2. Вместе с тем французский путешественник отмечает однообразность пейзажа в России: "в России нужно проехать огромные расстояния, чтобы ландшафт хоть как-то изменился" (216). По его словам, "монотонность — одна из характерных черт русского пейзажа... Это необъятные, слегка волнистые равнины, где нет других гор, кроме холмов, на которых построены Московский и Нижегородский кремли, оба не выше Монмартра. Снег придает еще большее однообразие ландшафту, заполняя складки земли, ложа водных потоков, долины рек. На протяжении сотен лье вы видите эту бесконечную белую пелену, слегка всхолмлен192 ную кое-где неровностями почвы и, смотря по тому, насколько низко солнце и насколько косы его лучи, покрытую иногда полосами розового света, перемежающегося с синеватыми тенями. Но когда небо, что бывает чаще всего, свинцово-серое, общий тон пейзажа — матово-белый или, лучше сказать, мертвенно-белый... Таков пейзаж, повторяющийся до пресыщения, и с продвижением вперед он все тянется вокруг вас, как морской горизонт, который кажется все тем же вокруг плывущего вперед корабля. Несмотря на то, что любая живописная случайность здесь крайне редка, не устаешь смотреть на эти бесконечные пространства, навевающие некую чуть приметную меланхолию, как все то, что велико, молчаливо и одиноко" (266-267). Это описание приходится на время первого путешествия Готье по России — его поездки из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Но и в период своего второго путешествия — уже летом — в Нижний Новгород его впечатления от пейзажа России существенно не изменились. "Все терялось, стиралось, — пишет он в этот раз, — таяло в безмятежной лазоревой шири ландшафта, немного печальной и напоминающей морскую безграничность. Это был поистине русский пейзаж" (396). В связи с описанием природы России Готье высказывает тонкие наблюдения о тесных взаимосвязях ее своеобразия с общественным устройством страны, отмечая некоторые характерные особенности в повседневной жизни ее народонаселения. В частности, Готье усматривает прямую взаимосвязь состояния дорог и средств передвижения в России с ее природой и суровым климатом. При этом он видит как отрицательные, так и положительные стороны этого явления, он отмечает, что "морозы, паводки, ледоходы создают трудность для наведения постоянных мостов на реках России. Их почти всегда сносит" (353). С другой стороны, он с удивлением отмечает: "В России в течение шести месяцев в году снег — это универсальная железная дорога, белые рельсы которой тянутся во всех направлениях и позволяют ехать, куда хочешь" (61-62). Громадность пространства России, большие расстояния между населенными пунктами и суровость климата приводят к особенностям, которые сразу бросаются в глаза французскому путешественнику. Готье отмечает, что "редко встретишь пешехода, ибо никто в России не ходит, за исключением мужиков, которым 193 их валенки позволяют двигаться по скользким тротуарам, очищенным от снега, но частенько поблескивающим опасным гололедом" (92). Пытаясь рассказать о некоторых средствах передвижения в тогдашней России, он, естественно, сопоставляет увиденное с тем, что знакомо жителям Франции. В частности, Готье проводит сравнение русских саней с голландскими и в то же время отмечает, что "русские сани вовсе не игрушка, предмет роскоши или развлечение на какие-то несколько недель. Это предмет ежедневного пользования и первой необходимости" (69). Книга Готье о России является в данном случае поистине уникальной, поскольку содержит подробнейшую информацию о тогдашних средствах передвижения в России. В частности, он описывает устройство телеги, тарантаса, дрожек. Готье дает также подробное описание своеобразной упряжки, которую было принято называть "тройкой". Тройка, по его словам, это "в высшей степени русская, очень живописная повозка, типично местного колорита. Большие сани вмещают четверых сидящих друг против друга человек и кучера. В них запрягают трех лошадей. Средняя лошадь запряжена в оглобли и хомут с дугой над загривком. Две другие пристегиваются к саням лишь при помощи внешней постромки. Слабо натянутый ремень привязывает их к хомуту коренной лошади. Четырех поводьев достаточно, чтобы погонять трех лошадей. До чего приятно для глаз, — сообщает Готье, — смотреть на тройку, несущуюся по Невскому проспекту или по Адмиралтейской площади в час прогулок" (71). Особенно интересным представляется в этой связи описание старинного судна на лошадиной тяге, которое встретилось ему во время путешествия по Волге (375-376). Завершая свой рассказ об этом диковинном средстве передвижения, Готье пишет: "Суда, о которых я говорю, напомнили мне огромные деревянные сооружения, плававшие по Рейну и переплавлявшие целые деревни с их хижинами, запасы провизии, как будто предназначенные для стола Гаргантюа, даже целые стада коров. Последний лоцман, умевший ими управлять, умер несколько лет назад, а паровые двигатели напрочь уничтожили эти варварские и примитивные средства речного транспорта" (376). Французский путешественник отметил большое движение разнообразных судов по Волге, при этом ему показалось стран194 ным, каким же образом им все-таки удается не сталкиваться друг с другом. То же самое относительно конных экипажей удивляло его и на городских магистралях, в частности, на улицах и проспектах Санкт-Петербурга. Конечно, не мог Готье обойти вниманием и персону кучера. По его словам, "русский кучер — это очень характерный персонаж, и в нем в полной мере проявляется местный колорит. Плотно сидящая на голове шапка, длинный синий или зеленый кафтан, застегнутый под левой рукой на пять крючков или пять серебряных пуговиц, собранный складками по бокам и затянутый черкесским поясом с золотыми нитями, открытая мускулистая шея, широкая окладистая борода, вытянутые, держащие вожжи руки — нужно признаться, — отмечает писатель, — торжественный и величественный вид! — И делает несколько неожиданное заключение. — Чем кучер толще, тем больше ему положено жалованья. Случается, что, начав работать худым, он просит надбавки, если потолстеет" (51). До сих пор речь шла о старинных, традиционных и вместе с тем устаревших уже и для России того времени средствах передвижения, ведь Готье посетил Россию именно в те годы, когда она открывала для себя совершенно новое средство передвижения — железные дороги. Уже полным ходом шло строительство и эксплуатация первых железных дорог в России и, конечно, это новое средство передвижения не могло не найти отражения в тексте путевых очерков Готье. Он дает столь же подробное, очень интересное с исторической точки зрения описание устройства поездов и вагонов тех лет. "Русский поезд состоит из нескольких сцепленных вагонов, сообщающихся между собою через двери, которые по своему усмотрению открывают и закрывают пассажиры. Каждый вагон образует нечто похожее на квартиру, которую предваряет прихожая, где складывают ручную кладь и где находится туалетная комната" (210). При этом, сравнивая с зарубежным опытом в данной области, он высказывает некоторые наблюдения, на которые в отечественной литературе обычно не принято обращать внимание. В частности, Готье отмечает, что "русские поезда топятся дровами, а не каменным углем, как в западных странах" (210). "Старики крестьяне поговаривают, — сообщает он, — что, ежели так пойдет и дальше, на святой Руси из изб будут вытаскивать бревна, чтобы натопить эти печи. Но до 195 того как срубят леса, по крайней мере, те, что растут вдоль железных дорог, геологи найдут залежи антрацита или каменного угля. Эти нетронутые недра, — оптимистически заключает Готье, — конечно же, скрывают неисчерпаемые богатства" (210). Пребывание Теофиля Готье в России приходится на время подготовки реформы 1861 года об отмене крепостного права. Поэтому читатель, казалось бы, вправе ожидать от автора путевых заметок, написанных в это время, описания дебатов в обществе вокруг этого крупнейшего в истории России события. Текст книги Готье о России, однако, отнюдь не оправдывает таких ожиданий, хотя нельзя сказать, что их автора, известного своим воинственным эстетизмом, страстного защитника теории искусства для искусства, в данном случае вообще не интересует социальная проблематика. Дело, кажется, просто в том, что слишком мало еще времени прошло после издания Манифеста об отмене крепостного права и Положения о крестьянах, чтобы французскому путешественнику был видим их результат. Нам представляется, что, напротив, взгляд автора, можно даже сказать, социально заострен. Прежде всего, ему бросается в глаза то, что Россия — это страна контрастов. "Нигде, — пишет он, — крайняя цивилизованность и примитивное варварство не достигают такого разительного контраста, как здесь" (353). Сказанное, в частности, относится и к поразившему Готье во время его путешествия по Волге контрасту между туалетами знатных дам и их детей, с одной стороны, и мужицкой одеждой, — с другой. "В России до сих пор не было людей промежуточного класса. Но вследствие различных нововведений скоро и здесь он, — по его мнению, — безусловно, появится. Новшества эти столь еще недавни, что результат их невидим: внешний вид людей остается прежним. Дворянин и чиновник (служащий) фраком или мундиром резко отличаются от человека из народа. Купец еще носит азиатский кафтан и окладистую бороду, мужик — розовую рубаху, одетую блузой, широкие штаны, заправленные в сапоги, или, если температура даже совсем незначительно понижается, засаленный тулуп, так как русские, — добавляет Готье, — к какому бы классу они ни принадлежали, в большинстве случаев люди зябкие, хотя на Западе и воображают, что они, не страдая, пере196 носят самые жестокие холода" (356). Большие контрасты, отсутствие промежуточных звеньев, по мнению французского путешественника, характерны не только для социальной стратификации в России, сказанное относится и к межнациональным отношениям в этой поражающей своими географическими пространствами стране. Он с большим интересом отмечает многонациональный, полиэтнический состав российского общества; посещая СанктПетербург, дает описание самоедов, пишет о том, что "особенностью русского двора является то, что время от времени к процессии присоединяется, например, молодой черкесский князь с осиной талией и грудью колесом в элегантном и пышном восточном наряде, какой-нибудь лезгинский военачальник или монгольский офицер, солдаты которого до сих пор вооружены луком, колчаном и щитом" (119). Рассказывая о празднике крещения в Санкт-Петербурге (6 января 1859 года), Готье отмечает участие в нем черкесов, лезгин и казаков и при этом делает такой вывод: "Очень странно видеть среди самой высокой цивилизации — не на ипподроме и на подмостках сцены — прямо-таки средневековых воинов в кольчугах, вооруженных стрелами и луками или одетых по-восточному" (88). В то же время кажется интересным обратить внимание на то обстоятельство, что Готье подметил некоторую стертость, неопределенность национального колорита именно среди русского народонаселения России. Описывая бал-маскарад в Московском Дворянском Собрании, он пишет: "Здесь были домино, маски, военные, фраки, несколько лезгинских, черкесских, татарских костюмов, которые надели молодые офицеры с осиными талиями, но не видно было ни одного типично русского костюма, который демонстрировал бы колорит страны. Россия еще не придумала своей характерной маски" (290). Впрочем, в другом месте он соглашается с тем, что "национальный колорит повсюду склоняется к исчезновению, и прежде всего он дезертирует из высших слоев общества. В поисках его нужно отдалиться от центров цивилизации и спуститься в народные глубины!" (119). Конечно, трудно себе представить, чтобы иностранный путешественник, оказавшийся в России середины XIX века по официальному приглашению, мог окунуться "в народные глубины!". Однако проведенное нами исследование позволяет сделать вывод 197 о том, что Теофиль Готье в России отнюдь не ограничивался лишь тем, что называется "туристическими тропами". Наибольший интерес представляют его наблюдения о духовной культуре русского общества того времени. Говоря о Петербурге, он прежде всего отмечал набожность и благочестие жителей российской столицы, его взгляду бросалось в глаза, что иконы в России повсюду, не только в храмах, но и в жилище частном. "Прежде всего иконы, — писал он, — в позолоченных серебряных окладах с прорезями на месте лиц и рук, отражая свет постоянно горящих перед ними лампад, предупреждают вас о том, что вы не в Париже и не в Лондоне, а в православной России, на святой Руси" (101). С большим почтением Готье пишет о традиции иконопочитания; так, описывая часовню, воздвигнутую в честь святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, он сообщал: "Перед иконой днем и ночью горит лампада. Проезжая мимо часовни, извозчики берут поводья в одну руку, другой приподнимают шапку и крестятся. Прохожие мужики прямо в снег кладут земные поклоны. Солдаты и офицеры, проходя мимо, произносят молитву, стоя неподвижно с непокрытой головой. И это в двенадцать или пятнадцать градусов мороза! Женщины поднимаются по лестнице и после многочисленных коленопреклонений целуют образ. Вы можете подумать, что подобное поведение принято только у простых, непросвещенных людей. Но нет, это не так. Никто не проходит мост, не проявив знаков уважения по отношению к святому покровителю часовни, и в копилки, поставленные по обе стороны часовни, льются рекой копейки" (64). Вместе с тем Готье свидетельствует о той атмосфере веротерпимости, которая была присуща жителям России. "На Невском проспекте идеи религиозной терпимости прямо-таки претворены в жизнь, и самым либеральным образом. Буквально нет ни одного вероисповедания, какое не имело бы своей обители, своего храма на этой широкой улице" (41). В отдельной главе своего "Путешествия в Россию" Готье как профессиональный художественный критик пытается осмыслить и обобщить свои наблюдения о русской иконописи. Прежде всего, он отмечает ее верность византийской традиции. Теофиль Готье обращает внимание на архаичный стиль рисунка в иконах, напряженность и условность поз святых, изображенных на них. В 198 качестве характерной особенности русских православных церквей Готье называет то, что они не содержат собственно ни картин, ни скульптуры. Сильной стороной внутреннего убранства церковных зданий в России, по его мнению, является фресковая живопись. "Создается впечатление, — пишет он, — что вся церковь покрыта ковром, ибо ни один выступ не прерывает росписи, размещенной по зонам и разделам. Скульптура не участвует в украшении православных религиозных зданий " (274). "Отсутствие рельефа и скульптуры, — по его словам, — накладывает на православные церкви печать удивительного своеобразия. Сначала не отдаешь себе в этом отчета, но в конце концов начинаешь постигать эту характерную особенность" (275). Любознательный писатель побывал в торговых рядах, где наряду с прочими имелся иконный ряд. "Своими образами Россия с абсолютной верностью продолжает византийскую традицию", — писал Готье, приводя далее некоторые любопытные детали, передающие атмосферу той ушедшей эпохи. — Торговцы иконами лучше одеты, чем их соседи — торговцы кожами. В основном на них старинные русские костюмы... у многих прекрасные, серьезные, умные и добрые лица. Они сами могли бы позировать для портретов Христа, которые продают, если бы византийское искусство допускало подражание природе в исполнении освященных Церковью образов. Завидев, что вы останавливаетесь перед лавкой, они вежливо приглашают войти, и, даже если вы ограничитесь покупкой нескольких пустяков, они покажут вам весь свой арсенал, не без гордости останавливая ваше внимание на самых дорогих, хорошо исполненных вещах" (142-143). По мнению доцента Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Августина (Никитина), "будучи иностранцем, Готье, конечно же, не мог обладать исчерпывающим знанием истории русской православной церкви, ее традиций и обычаев. Но, тем не менее, его заметки об увиденном дают в своей совокупности определенное представление о петербургских и московских храмах, монастырях, о православном укладе жизни местного населения..."3. Готье приехал в Россию уже достаточно подготовленным к непосредственному знакомству с русской иконописью, ведь он уже побывал в Греции, написал книгу о Константинополе, конечно, видел там знаменитые мозаики, настенные росписи, 199 православные иконы. И он хорошо знаком с православной традицией4, в частности, Готье называет родоначальником иконописного искусства и автором первых богородичных икон св. апостола Луку, он считает Афон для иконописца тем же, чем является для живописца Рим, он цитирует знаменитое пособие для иконописцев иеромонаха Дионисия из Фурны, цитирует его и ссылается на предисловие к нему Дидрона5. В "Путешествии в Россию" разбросано много критических замечаний в адрес русской школы иконописания, какой она предстала взору французского писателя в середине XIX века. Эти замечания рождаются у него, думается, не только потому, что он смотрит на православную иконопись как бы со стороны, как человек, воспитанный в других религиозных традициях, но и поттому, что он, как художник и критик, оценивает русскую икону XIX века с позиций европейской эстетики того времени. Нужно сказать, что и в современной искусствоведческой науке анализ русской иконы XIX века представляет весьма малоизученную проблему6. Что же касается современного русского изобразительного искусства, то, по мнению Готье, оно находится в тесной и неразрывной связи с религиозной догматикой и церковью, и это обстоятельство очень сковывает его развитие. Он считал, что "кроме художников, занимавшихся религиозной живописью, иконописью, восходящей к византийскому искусству, Римом которого является Афон, не существовало еще, собственно говоря, истинно русской школы живописи. Художники, впрочем, немногочисленные, родившиеся в России, не могут составить свою собственную школу: они ездят учиться в Италию, и их картины не имеют ничего истинно национального. Самый знаменитый из всех и самый известный на Западе — Брюллов. Его огромная картина "Последний день Помпеи" достаточно нашумела во время Салона 1824 года... Можно ли сказать, что Россия не будет иметь своего места среди школ живописи? Я думаю, — продолжает Готье, — что эта страна придет к своей школе, когда освободится от подражания иностранному искусству, а ее художники, вместо того чтобы ездить копировать картины в Италию, захотят взглянуть вокруг себя и вдохновиться природой и столь разными и характерными типами людей этой огромной империи, начинающейся от Пруссии и доходящей до Китая" (286-287). 200 Русским современникам Готье такие суждения иностранца не могли не казаться обидными, а потому их удобнее было считать поверхностными и некомпетентными. К таким воинственным критикам взглядов Готье на русское искусство второй половины XIX века относился и В. В. Стасов, однако уже очень скоро и он сам будет подчеркивать справедливость этого мнения. В своей работе "Двадцать пять лет русского искусства", опубликованной в "Вестнике Европы" в 1882 году, он писал буквально следующее: "Сколько бы это обидно и непозволительно ни казалось, надо признаться, что настоящее русское искусство послепетровской России в самом деле началось только около 50-х годов. Все прежнее можно считать только более или менее интересным приготовлением и более или менее приличным вступлением. Настоящее наше искусство, в самом деле стоящее этого имени, самостоятельное, никому не подражающее, никого и ничего не повторяющее, преследующее свои собственные национальные цели, — такое искусство началось у нас только недавно"7. Хочется обратить внимание на то обстоятельство, что суждения Готье о России очень конкретны, именно это делает его сочинения уникальным историческим источником, прежде всего по истории культуры и искусства. Например, Готье обратил внимание на отсутствие необходимых условий для работы у русских художников, даже в столице. "Живопись не была предусмотрена в этом городе, — пишет Готье о Санкт-Петербурге, — который, однако, является северными Афинами. Владельцы домов об этом не подумали. Таким образом, искусство здесь устраивается как может и часто тщетно ищет в городской квартире место для мольберта и уголок с хорошим освещением. Между тем, — подчеркивает он, — здесь нет недостатка ни в месте, ни в средствах" (171). Как бы вторя Теофилю Готье, В. В. Стасов приблизительно в то же самое время, в 1865 году, писал: "В нынешнем году все жаловались, — и Академия прежде всех, — что выставка слишком маленькая. Но позвольте спросить: отчего ей быть большой? У наших художников слишком мало резонов для того, чтобы производить много картин, статуй и всего остального. Напротив, у них есть все резоны для того, чтобы работать как можно меньше. Кому у нас нужно то, что они делают? Кто спрашивает, кто ищет себе художественных произведений? Потребность в созда201 ниях искусства — просто ничтожная у нас. Неужели можно винить художников наших в лени, малом трудолюбии? Да зачем им работать? Неужели только для того, чтобы наполнять свою квартиру собственными произведениями и, глядя на них, голодать? Нет, надо удивляться, как у наших молодых живописцев хватает мужества и твердости на то, чтоб продолжать свое неблагодарное занятие; надо удивляться, откуда они берут силу делать даже столько, сколько мы видим каждый год. Одни, без помощи, без поддержки, против потока всеобщего холода и апатии!"8. Приведем еще несколько суждений Готье о той культурной и социальной атмосфере, в которой происходило развитии живописного искусства в России. В частности, он отмечает наличие в России круга коллекционеров не только старой живописи, но и произведений современного искусства, что не может не способствовать развитию последнего. Самыми модными среди коллекционеров современными русскими художниками Готье называет Карла Брюллова и Ивана Айвазовского. Что же касается произведений современной ему французской школы живописи, то, по его мнению, она "сюда еще не проникла... Манера наших художников кажется русским недостаточно законченной" (106). Вообще, нужно сказать, что Готье с большой симпатией относится к русскому народу, он отмечает такие его качества, как гостеприимство и радушие, честность, чистоплотность, можно процитировать, например, такое его замечание, которое следует расценивать как прямой выпад против Астольфа де Кюстина: "Меня удивляют стенания туристов по поводу грязи и паразитов в русских гостиницах" (269). Вместе с тем Готье говорит и о том, что Россия — это страна, "где в случае несчастья или убийства никто не придет к вам на помощь из боязни полиции и необходимости давать свидетельские показания" (365). Социальное неравенство, сословные привилегии, с одной стороны, и отсутствие привычных уже для человека Западной Европы элементарных прав человека — с другой, неоднократно, в самых разных случаях отмечаются Готье. В частности, он приводит интересное описание распределения мест в театре соответственно социальному рангу — достоинству. "Первый ярус лож над бенуаром, — сообщает Готье, — здесь называется бельэтажем, и хотя и нет по этому поводу каких-либо формальных предписаний, кресла бель202 этажа остаются за высшей аристократией, за высшими должностными лицами двора. Ни одна женщина, если у нее нет титула, как бы ни была она богата и уважаема, не осмелится показаться в бельэтаже. Ее присутствие в этом привилегированном месте удивило бы всех, и прежде всего ее саму. Здесь миллиона недостаточно, чтобы стерлись различия в происхождении" (128). И только перед лицом сурового климата сословные различия в России отходят на второй план. Во время своего путешествия на поезде зимой французский путешественник отмечает, что "вагоны третьего класса, устроенные с меньшими удобствами и роскошью, отапливаются таким же образом. В России теплом наделены все. Господа и крестьяне равны перед холодом. Во дворце и в хижине одинаково натоплено. Это вопрос жизни и смерти" (216-217). И здесь мы вплотную подошли к бытовым характеристикам, к эстетике повседневности. В книге Теофиля Готье о России даются очень подробные описания интерьеров, и не только соборов и дворцов, но и обычных домов. Интерьер хранит память о своих обитателях, рассказывает об их индивидуальных вкусах, отражает художественные пристрастия и мировосприятие человека. Замечания Готье позволяют нам проследить, как господствовавшие вкусы, стиль, мода соотносились с собственными художественными пристрастиями, понять, как ощущал себя человек в пространственной среде того или иного интерьера. Французский путешественник обратил внимание на то, как высоко ценится в России домашний уют, "которого, — по его мнению, — не знают жители Юга, где жизнь протекает вне дома" (99). Готье подробно характеризует планировку жилого дома и его интерьеры, он сообщает о том, что "в комфортабельной русской квартире пользуются всеми достижениями английской и французской цивилизации" (101). Отличительными особенностями русских квартир он считает: наличие икон; окна с двойными рамами и форточками "не имеют ни ставней, ни жалюзи", больший размер комнат, в отличие от парижских; обилие цветов. В середине XIX века особое значение в интерьерах приобретает зелень. Она не являлась дополнением к меблировке, а входила активным компонентом в убранство комнат. Она проникает в гостиные и в жилые комнаты. Характерный для этого времени интерьер изображает Теофиль Готье. "Цветы — вот поистине русская роскошь. Дома полны 203 ими... Из японских или богемского стекла вазонов посреди столов или по углам буфетов растут экзотические цветы. Они живут здесь как в теплице, да и действительно все эти русские квартиры — это теплицы. На улице вы чувствуете себя как на Северном полюсе, а в домах вы как будто в тропиках" (102). Мебель 1850-х годов дополнялась большим числом деталей из накладной резьбы, причем особое значение приобретает инкрустация с использованием слоновой кости, металлов и перламутра, что связано было с подражанием Ренессансу и барокко. По мнению Готье, "типично русской мебелью является ширма, или перегородка, из дорогого дерева с тончайшей сквозной резьбой, как на веерах. Она занимает угол гостиной, и по ней вьются растения" (102). Наблюдая домашний быт самых различных слоев населения России, Готье приходит к выводу, что "русские — восточные люди, и даже в высших слоях общества не стремятся к утонченности спального места. Они спят там, где находятся, повсюду, как турки, часто в шубах, на широких диванах, обтянутых зеленой кожей, которые встречаются на каждом углу" (104-105). Готье, как уже было сказано, как путешественник отличается большой наблюдательностью, и для истории русской культуры середины XIX века большой интерес представляют даже те его наблюдения, которые он делает как бы мимоходом. В частности, например, он отметил, что "в России не пьют чай из чашек" (99), оказывается, было принято пить чай из стаканов — "стакан горячего чая!"; "у русских есть правило — не опаздывать"; что "русские любят зеленый цвет и зелень" и т.д. Французский путешественник отметил также то обстоятельство, что газ не применяется при освещении Зимнего Дворца: "Здесь, — пишет он, — горят свечи из настоящего воска. Только в России и сохранился уклад жизни, при котором пчелы еще вносят свою лепту в освещение домов" (120). С некоторым удивлением Готье пишет, например, о том, что в России "считается, что людям определенного уровня ходить пешком не к лицу, не пристало. Русский без кареты, что араб без лошади. Подумают еще, что он неблагородного происхождения, что он мещанин или крепостной" (49). В книге Готье содержится подробное, со множеством ярких деталей, описание проводов перед отъездом, пусть даже на небольшое расстояние. "В разных 204 странах, — пишет он, — я видел много отъездов, отплытий, вокзалов, но ни в одном другом месте не было такого теплого и горестного прощания, как в России" (209). Хочется обратить внимание еще на одно очень интересное наблюдение, сделанное Готье также мимоходом и относящееся, по-видимому, к различным социальным слоям тогдашнего русского общества. "В своих увеселениях, — пишет он, — русские молчаливы, как ни странно, и если ваши уши привыкли глохнуть от триумфальной вакханалии вечеров в парижской Опере, вы удивитесь подобной молчаливости и флегматичности. Конечно, они развлекаются внутренне, но этого никак не видно снаружи" (290). Это было сказано им в связи с описанием бала-маскарада в Московском Дворянском Собрании во время его первого путешествия по России. А вот что напишет он позднее, рассказывая о ярмарке в Нижнем Новгороде: "Обычно над таким огромным сборищем людей стоит словно туман шума, но толпа русских молчалива" (387). Женские образы в творчестве Теофиля Готье как писателя, поэта занимают особое место, к тому же положение русской женщины в обществе как особая проблема приковывает в то время к себе внимание не только со стороны литераторов, но также философов, социологов и историков. Остановимся на характеристике им этой темы на русском материале. "На огромном протяжении своих владений, — отмечает Готье, — Россия вмещает много человеческих рас, и здесь встречаются очень разные типы женской красоты" (93). И еще: "В женских лицах здесь северная мечтательность удивительно соединяется с восточной невозмутимостью" (130). Впрочем, хочется воспроизвести здесь более подробно описание тех черт, которые Готье отметил в качестве характерных для русских красавиц, а именно: "крайнюю белизну кожи, серо-голубой цвет глаз, светлые или каштановые волосы, некоторую полноту, происходящую от недостатка упражнений и сидения дома в зимние месяцы. При взгляде на русских красавиц, — продолжает парижанин, — можно подумать, что это одалиски, которых злой дух Севера держит взаперти в теплицах. Цвет их лица — это кольдкрем или снег с оттенками камелий, какой бывает у вечно ходящих в чадре женщин Востока, кожи которых никогда не касается солнце. Их тонкие черты полурасплываются в белизне кожи, как черты лика луны, и эти слабовы205 раженные линии образуют лица, светящиеся северной нежностью и полярным изяществом" (93). Нужно сказать, что внимание французского путешественника привлекают женские типы не только из высшего общества, но и из простонародья. И, конечно, контраст между положением тех и других не может не поразить его; сразу же, еще будучи в СанктПетербурге, исходя из первых своих впечатлений, он отмечает, что "совсем не видно простых женщин, то ли они живут в деревнях, в имениях хозяев, то ли занимаются домашними работами в городских домах своих господ. Те же, которых вдруг иногда увидишь издали, не отличаются ничем характерным. Завязанный под подбородком платок покрывает и обрамляет их голову, сомнительной чистоты ватное пальто из простой материи нейтрального цвета доходит до середины ноги, и из-под него видна ситцевая юбка с толстыми валенками в деревянных галошах. Они некрасивы, но вид у них грустный и нежный. Их бесцветные глаза не зажигает искра зависти при виде прекрасной, изящно одетой дамы, а кокетство, кажется, вовсе им незнакомо. Они принимают свое приниженное положение, чего у нас не сделает ни одна женщина, как бы низко ни было ее место в жизни" (49). Затем во время своего путешествия по Волге Готье имел возможность более с близкого расстояния наблюдать жизнь женщин из простонародья. "В Юрьевце, — пишет он, — дрова для топки парохода принесли женщины. На палках, сложенных наподобие носилок, сильные, ловкие, а часто и красивые крестьянки по двое несли клади поленьев и сбрасывали их в трюм парохода. Ходьба красила их щеки здоровым румянцем, и легкая одышка приоткрывала им губы, давая возможность видеть белые, словно очищенные миндалины, зубы. К сожалению, лица некоторых из них были испещрены оспой, так как вакцина не распространена в России, откуда ее, без сомнения, изгоняет какой-нибудь народный предрассудок. Одеты они были совсем просто. Юбка из ситца устарелого рисунка, какие еще встречаются иногда на старых провинциальных постоялых дворах на занавесках у кровати или стеганых одеялах, грубая холщовая кофта, платок, повязанный под подбородком, — вот и все. Отсутствие чулок и обуви позволяло видеть тонкие изящные ноги: некоторые из этих босых ног могли бы обуться в беличью туфельку Золушки. Я с удоволь206 ствием, — продолжает Готье, — заметил, что ужасающей моде на сарафаны, подхваченные под грудью, следовали только пожилые и наименее привлекательные женщины. У молодых талии были над бедрами, как того требует анатомия, гигиена и здравый смысл. При моем понятии о французской галантности я был несколько смущен, видя женщин, носивших тяжести и выполнявших работу вьючного скота, но, видимо, эта работа, которую они, впрочем, выполняли весело и в них не чувствовалось усталости, доставляла все-таки им какой-то заработок, те копейки, которые хоть как-то улучшали их жизнь и помогали их семьям" (374-375). Конечно, женщин знатных, из высших классов, Готье имел возможность наблюдать гораздо с более близкого расстояния. Это именно о них он пишет, отмечая, что "русские женщины очень элегантны и еще большие модницы, чем сама мода. Кринолины так же широки в Санкт-Петербурге, как и в Париже, и на них великолепные ткани! Бриллианты сияют на прекрасных плечах очень декольтированных дам..." (112). Однако, где бы он ни был — на бале-маскараде в Московском Дворянском Собрании, на ярмарке в Нижнем Новгороде, на столичных проспектах или улочках маленьких городов России, — везде он отмечает незначительное участие женщин в общественной жизни. "Женщины, как обычно, в этой стране, — отмечает он, — были в меньшинстве" (290-291). Рассказывая об одной из сцен у городского фонтана во время своего путешествия по Волге, Готье пишет: "Я не увидел ни одной женщины. Вокруг немецкого фонтана собралась бы целая коллекция Гретхен, Наннерлей и Кетерле, которые были бы в курсе всех событий в городе. В России женщины даже самого низкого сословия выходят мало, а мужчины берут на себя большую часть домашних забот" (384). То же самое отмечает он и во время своего пребывания в Санкт-Петербурге: "Поражает, — по его словам, — пропорционально малое число женщин на улицах Санкт-Петербурга. Как на Востоке, только мужчины имеют привилегию выходить в город. Это прямо противоположно тому, что вы видите в Германии, где все женское население города постоянно на улице" (49). После посещения Москвы, уже обобщая свои впечатления от виденного в России, Готье пишет: "Не могу вспомнить, чтобы хоть раз мне пришлось увидеть русскую торговку" (145). "Торговлей занимаются мужики, и торговка, по сути 207 дела, неизвестный в России типаж. Это отстранение (женщин. — В. С.) от внешней жизни, — делает вывод Готье, — пережиток старого азиатского целомудрия" (270). Говоря о культуре деловых отношений в России того времени, в частности о культуре торговли, Готье отметил, что "ни о каком стремлении получше выставить товар говорить не приходится", что "крупные сделки здесь невидимы для стороннего взгляда". В своих наблюдениях Теофиль Готье мимоходом отмечает и тот факт, что "русские много читают и, будь то самый незначительный французский писатель, у него уже есть читатели более многочисленные в Санкт-Петербурге, чем даже в Париже" (294). Вообще Готье, по-видимому, не испытывал больших затруднений в России из-за незнания русского языка. Он был буквально поражен тем, насколько широко в высших слоях общества в повседневной жизни распространен французский язык. Он с удивлением отмечает, что премьеры пьес в Санкт-Петербурге даются почти одновременно с премьерами их в Париже. "Возможно ли, — пишет французский путешественник после посещения Михайловского театра (Малый оперный театр на площади Искусств) в СанктПетербурге, — не испытать некоторой гордости при виде того, что наш язык за шестьсот или семьсот лье от Парижа, под шестидесятым градусом северной широты, настолько распространен и понятен, что можно наполнить зрителями целый театр, в котором представление идет исключительно на французском языке. То, что в Санкт-Петербурге называют французской колонией — добавляет он при этом, — не заполнит, конечно, и половины зала" (132). Сказанное выше, впрочем, лишь подтверждает хорошо известный из истории русской культуры конца XVIII — первой половины XIX века факт большого увлечения высшим обществом всем французским, так называемой галломанией, которая ко времени пребывания Готье в России уже явно шла на спад. Вместе с тем Готье обратил внимание и на тот факт, что языком делового мира в этой разноязычной многонациональной стране, какой он увидел Россию тех лет, неизменно является русский язык. После посещения ярмарки в Нижнем Новгороде он отметил, что "несмотря на принадлежность к разным национальностям и на разные языки собеседников, русский — единственный язык, на котором здесь изъясняются и заключают сделки" 208 (390). Данные наблюдения Готье представляются тем более ценными еще и потому, что в современном нам мире русский язык, к сожалению, постепенно сдает завоеванные ранее позиции в указанном геополитическом и культурном пространстве. Много и с увлечением Готье пишет о русском театральном искусстве. Он весьма высоко оценивал уровень театрального искусства России как драматического, так и музыкального — оперы и балета. "Русские, — писал он, — большие знатоки балета, и блеск их лорнетов опасен" (130). В устах творца "Жизели", по новелле которого "Роман мумии" вскоре будет поставлен балет "Дочь фараона", — в Петербурге в 1862 году, а в Москве — в 1864 году, это, конечно, очень высокая оценка. На Готье произвели сильное впечатление вывески торговых улиц Петербурга, сообщавшие городской среде особую красочность и колорит. "Нигде, может быть, только еще в Берне, — отмечал он, — вывеска не выглядит так восхитительно, как здесь! И до такой степени, что этот вид декоративного украшения улиц и домов нужно было бы отнести к разряду ордеров современной архитектуры, прибавить его к пяти ордерам Виньолы. Золотые буквы выводят свой рисунок на голубом фоне, выписываются на стеклах витрины, повторяются на каждой двери, не пропускают углов и улиц, круглятся по аркам, тянутся вдоль карнизов, используют выступы подъездов, спускаются по лестницам подвалов, изыскивают все способы привлечь внимание прохожих!" (39-40). Можно без преувеличения сказать, что Теофиль Готье испытал в России массу ярких впечатлений, но рассказ о них у него никогда не превращался в патетическое излияние эмоций. Писатель старался дать читателю максимально точное представление о том, что увидел, выявляя путем ненавязчивого сравнительного анализа в чуждой ему цивилизации наиболее характерные черты, отличающие ее от западной цивилизации. Ценность его описаний и в том, что они проникнуты живым интересом к русскому народу, к его жизни и культуре. Теофиль Готье обладал даром тонкого наблюдателя и основательным образованием, чтобы суметь оценить русскую культуру. Считается, что Готье — один из тех, кто ввел во французскую литературу новую модель описаний странствий, отличающуюся беспредельной точностью и добросовестностью9, что нисколько 209 не мешает им оставаться поэтическими. При этом он всегда был истинным представителем французской традиции, то есть любил ясность, выражался элегантно и отнюдь не пренебрегал юмором. Оказавшись в России в первый раз, без знания языка, Готье, тем не менее, избегал проторенных путей и в одиночку устремлялся на поиски церквей или каких-либо интересных памятников, чтобы самому их открывать без помощи какого-либо толмача. Только так, считал он, можно обнаружить то, что никогда и никому не показывают и что может оказаться самым оригинальным в посещаемой стране. Такой подход при описании своего путешествия в Россию позволил Готье создать текст, который является весьма содержательным и очень интересным источником по истории и культуре России середины XIX века, а также дает возможность говорить о его авторе как об оригинальном и вместе с тем объективном критике русского изобразительного искусства, как старого, так и современного ему, многие наблюдения которого заслуживают самого серьезного внимания. Сочинения Готье о России способствовали росту взаимопонимания двух культур, российской и западноевропейской, оказали большое влияние на формирование образа русских в глазах европейцев. Готье Т. Путешествие в Россию / Пер. с фр. и коммент. Н. В. Шапошниковой; Предисл. А. Д. Михайлова. М., 1988 (далее — ссылки на это издание даны в тексте с указанием страницы). 2 Gautier T. Tresors d`art de la Russie ancienne et moderne. V. II. Palais Imperial de Tsarskoe-Selo. Paris, 1859, P. 19. 3 Архимандрит Августин (Никитин). Православный Петербург в записках иностранцев. СПб., 1995. С.12. 4 См.: Лепахин В. Русская икона глазами француза // Икона в изящной словесности. Сегед. 1999. С. 91-104. 5 К сожалению, эти фрагменты из главы "Византийское искусство" не вошли в русский перевод книги "Путешествие в Россию". См.: Gautier T. Voyage en Russie. Nouvelle edition. P., Charpantier. 1901. Р. 305-309. 6 См. об этом, например: Бусева-Давыдова И.Л. О чем рассказывают надписи на иконах // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. М., 2006. № 11. С. 30-40. 7 Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства // Избранные сочинения. М., 1952. Т. 2. С. 392. 8 Стасов В.В. Тормозы нового русского искусства // Избранные сочинения. М., 1952. Т. 2. С. 574. 1 210 См., например, Cadot M. Les voyages en Russie de Theophile Gautier // Revue de literature compare. Janvier — Mars № 1. Paris, 1984. P. 5-25. 9 211 Об авторах Ю. А. Абдоков (МГАХ), профессор. Е. А. Артемьева (РАТИ–ГИТИС). Е. В. Бруссер (Театральный ин-т им. Т. В. Щукина). Н. Ю. Вавилина (МГАХИ им. В. И. Сурикова), аспирантка. Научный руководитель профессор — И. Л. Вельчинская. Н. А. Вихрева (МГАХ), педагог. А. Л. Дубровская (Театральный ин-т им. Б. В. Щукина). Е. Л. Иванова (РАТИ–ГИТИС), кандидат искусствоведения. Г. А. Назарова (МГПУ), аспирантка. Научный руководитель — доктор культурологии В. Д. Черный. К. И. Назарова (Гос. Ин-т искусствознания), аспирантка. Научный руководитель — доктор искусствоведения И. Е. Светлов. Т. Ю. Пластова (МГАХИ им. В. И. Сурикова), кандидат филологических наук. Е. В. Романова (МГУКИ) аспирантка. Научный руководитель — кандидат философских наук Н. В. Гармиза. В. Б. Сназина (ГУГН), аспирантка. Научный руководитель — кандидат искусствоведения Т. Д. Сергеева. Б. Сухээ (РАТИ–ГИТИС), аспирант. Научный руководитель — кандидат искусствоведния Е. В. Шахматова. 212 Подписано в печать 15.08.08. Формат 69х90/16 Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. П.л. 13. Заказ№ Отпечатано с готового оригинала-макета в ФГУП "Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ" 140010, г. Люберцы Московской обл. Октябрьский пр.т, 403 Тел.: 554-21-86 213 214 215