В. Трынкин О достоинстве дичности статьи Microsoft Word
advertisement
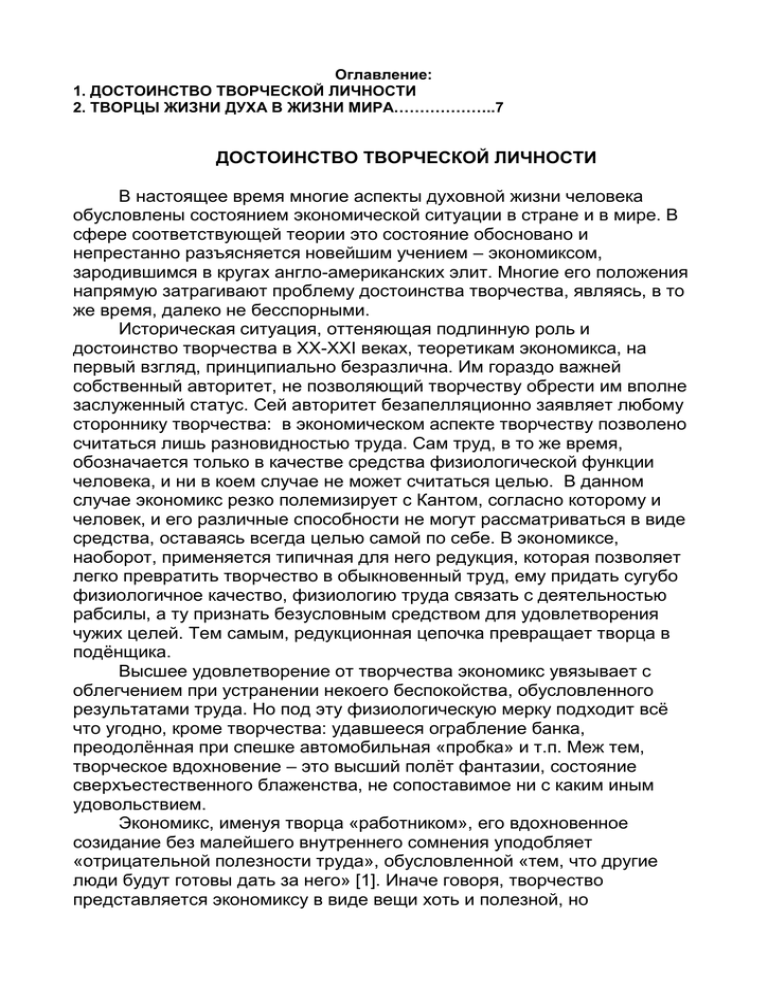
Оглавление: 1. ДОСТОИНСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 2. ТВОРЦЫ ЖИЗНИ ДУХА В ЖИЗНИ МИРА………………..7 ДОСТОИНСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В настоящее время многие аспекты духовной жизни человека обусловлены состоянием экономической ситуации в стране и в мире. В сфере соответствующей теории это состояние обосновано и непрестанно разъясняется новейшим учением – экономиксом, зародившимся в кругах англо-американских элит. Многие его положения напрямую затрагивают проблему достоинства творчества, являясь, в то же время, далеко не бесспорными. Историческая ситуация, оттеняющая подлинную роль и достоинство творчества в ХХ-ХХІ веках, теоретикам экономикса, на первый взгляд, принципиально безразлична. Им гораздо важней собственный авторитет, не позволяющий творчеству обрести им вполне заслуженный статус. Сей авторитет безапелляционно заявляет любому стороннику творчества: в экономическом аспекте творчеству позволено считаться лишь разновидностью труда. Сам труд, в то же время, обозначается только в качестве средства физиологической функции человека, и ни в коем случае не может считаться целью. В данном случае экономикс резко полемизирует с Кантом, согласно которому и человек, и его различные способности не могут рассматриваться в виде средства, оставаясь всегда целью самой по себе. В экономиксе, наоборот, применяется типичная для него редукция, которая позволяет легко превратить творчество в обыкновенный труд, ему придать сугубо физиологичное качество, физиологию труда связать с деятельностью рабсилы, а ту признать безусловным средством для удовлетворения чужих целей. Тем самым, редукционная цепочка превращает творца в подёнщика. Высшее удовлетворение от творчества экономикс увязывает с облегчением при устранении некоего беспокойства, обусловленного результатами труда. Но под эту физиологическую мерку подходит всё что угодно, кроме творчества: удавшееся ограбление банка, преодолённая при спешке автомобильная «пробка» и т.п. Меж тем, творческое вдохновение – это высший полёт фантазии, состояние сверхъестественного блаженства, не сопоставимое ни с каким иным удовольствием. Экономикс, именуя творца «работником», его вдохновенное созидание без малейшего внутреннего сомнения уподобляет «отрицательной полезности труда», обусловленной «тем, что другие люди будут готовы дать за него» [1]. Иначе говоря, творчество представляется экономиксу в виде вещи хоть и полезной, но достигаемой в процессе подавления внутреннего отвращения («отрицательной полезности»), и чрезвычайно обусловленной заботой о заработке. Тема зависимости творчества от обогащения наиболее лелеема в экономиксе: то мотивом жажды обогащения становится, якобы, в противовес утопическому, реальный взгляд творческого человека на жизнь, то жажда обогащения приобретает вид важнейшего источника радости творчества. Как будто Данте, Леонардо, Микельанджело, Шекспир, Гойя, Толстой брались за перо, кисть, резец, прямо-таки подогреваемые жаждой наживы. Как будто иронический, сатирический и саркастический смех над жадностью и корыстью не является сущностью подлинного искусства. Нет, с достойным иного применения упорством экономикс настаивает, будто творческая активность увеличивается и уменьшается в прямой зависимости от роста/понижения гонорара. Кроме всего прочего, в экономиксе имеется собственный исторический экскурс, характеризующий возникновение и сущность творчества. В экскурсе упоминаются Галилей, Леонардо, Альберти, Дюрер, личности которых иллюстрируют, якобы, грубый индивидуализм поднимающегося класса капиталистов. Главное, мол, в них – научнотехническое и предпринимательское начала, обеспечивающие успешное обогащение. Меж тем, перечислены подлинные творцы, кои существовали не только в эту, но во все эпохи и продолжают постоянно появляться. Важнейшее их достоинство – творческий универсализм. Универсализм чаще обнаруживается в искусстве, поскольку его особенность – свобода от материальных условий бытия. Будучи универсалами, творцы, в то же время, выявляют свою гениальность во многих отраслях деятельности. Иногда от переизбытка творческих сил универсалы создают нечто потрясающее в серии прикладных исследований. Но исходным всегда было и остаётся для них подлинно универсальное творчество как самоценное начало. Экономикс и в этом случае найдет повод для критики творчества. Полное удовольствие от творчества получают, мол, только праздношатающиеся люди. Иначе говоря, гении превращаются в обыкновенных лентяев. Это откровение усиливается удивительно «логичным» пассажем: побуждает, мол, к действию отчаянное бездействие [2]. Только вот, у творцов на этот счёт мнение прямо противоположно. Углублённо размышляя обо всём божественном и человеческом, мудрец максимально деятелен, - говорил Сенека. Ему вторил Монтескье: «Надо бы включить вечную праздность в муки ада, а её поместили среди радостей рая» [3]. И действительно, творческий процесс – результат величайшей активности человеческого духа, сопровождающейся постоянным напряжением воли. Кто по своему желанию возьмётся переписывать многостраничные тома сочинений? Лев Толстой делал это со своими огромными романами многократно. Колоссальное напряжение воли требовалось Достоевскому, в частности, при создании нового плана романа «Идиот». Он работал, по собственному признанию, как вол в течение двух недель беспрерывно. Голова его, как он вспоминает, превратилась в мельницу, в коей непрестанно прокручивались многочисленные варианты плана. Внутреннее состояние Достоевского от силы напряжения творческого духа было близким к запредельному. Но, не смотря ни на что, великий роман всё-таки был создан. Когда вчитываешься в оценки экономиксом творчества, начинаешь понимать, что они потрясающе далеки от сути творческого процесса. И тогда остаётся нерешённым примечательный вопрос: далеки они в силу великой наивности, либо по вполне осознанному умыслу? Вот, например, появляется очередная оценка творчества: созидателен лишь человеческий разум, «направляющий деятельность и производство» [4]. Оценка эта уточняется: основным товаром рынка являются продукты интеллектуальной деятельности. Меж тем, интеллект без мощи творчества способен часто лишь к схоластическим абстракциям да к репродуктивной деятельности. Люди искусства сжимают распрямившуюся, схоластическую полосу интеллекта в тугую пружину. Они концентрируют внимание не просто на информационном, но на целостно-образном ядре созидающей психики. Эскизный вид строения целостно-образного ядра творящей души выглядит так: 1) в ней предполагается предметная сторона: этот вектор предопределён содержанием схватываемого события. Назовем его "праксисом". 2) Предметность осмысляется, событие осознаётся. — Эту сторону назовем "логосом". 3) И событие, и его смысл вводятся в нравственный контекст, соотносятся с незримой сетью разветвлённых отношений между людьми. — В этом плане о себе заявляет "этос". 4) Событие, его сущность, нравственные мотивы — всё же постороннее по отношению к внутреннему "Я". А оно, имеет свой собственный голос, и этот голос вторгается либо в каждую из сторон, либо в их средоточие сразу, утверждая исходно свою позицию, часто очень горячо и страстно. — Так ведёт себя "пафос". 5) Но пафос может заблуждаться, а иногда — катастрофически. И требуются весы гармонии, чтобы выровнять чрезмерно разбухшие части созидательного процесса. В этом случае не обойтись без целительной роли мудрости. — Синтезирующую, гармонизирующую способность души обозначим как "софос". В итоге возникает совершенно непростая картина диалектики творчества. В противовес глубинной теории и практике творческого процесса экономикс продолжает упорствовать: «Всё разнообразие видов труда (работу каменщика, токаря, ювелира, артиста или учёного) мы свели» к геометрии труда, с помощью которой они могут расчленяться, перекомпоновываться и т.д. [5]. Ибо всё сложное, по замыслу специалистов экономикса, обязано предстать в расчленённом виде на хирургическом столе примитивной стандартизации. Впрочем, у, вроде, потрясающе наивных представителей экономикса есть, как и прежде, особая цель: «пусть нас не смущают сентиментальные философы…рассуждениями о неуловимости эмоций и человеческой души» [6]. То есть, безраздельному господству идей экономикса над человеческими умами очень мешают творцы многих сфер созидания и, в частности, философы. Тогда становится более понятным, что тезисы об упрощении творчества до состояния элементарных операций рабочей силы – не совсем наивность, а предумышленный дилетантизм, помноженный на цель создания ядовитых побасёнок о природе творчества. Этим побасёнкам несть числа. На каждом шагу встречаются уникальные откровения, будто движущими силами НТП являются не великие творения гениев, не их жажда к творчеству и неустанный поиск, но жадность («стремление к прибыли»), элементарное любопытство да лень [7]. Или: сознание человека нуждается в стимуле, самым мощным из которых, якобы, является секс [8]. То есть, по этой дикой логике, гений Аристотеля, Спинозы, Гегеля, Ницше, Бердяева и многих других великих творцов созидал масштабные картины бытия человечества, откликаясь только на позывы инстинктивного низа. Ядовитыми побасёнками полна обычно «жёлтая» пресса. Но если теоретики новейшего учения используют тот же самый арсенал, значит, такова их скрываемая сущность. Потому вдумчивым умам, размышляющим о судьбах человечества, но остановившимся перед авторитетом новейшего учения, пора выбираться из плена экономиксовых чудачеств, засоряющих горизонт понимания. Пора определяться с глубинными силами, созидающими настоящее и будущее мира людей. Экономиксова указка, как выяснилось, любой вид творчества подводит под закон потребительной стоимости, обязывающий созидать лишь то, что предначертано им. Но способность к творчеству производна, скорей всего, от Божественного провидения и от плодородия самой природы, а значит творчество само по себе невероятно плодовито, перекрывая любые законы рыночных потребностей гроздьями новейших открытий. Рыночные потребности, в свою очередь, очень часто перестраиваются да подстраиваются под неожиданно созданные творчеством новейшие проекты. В то же время, поскольку творчество сливается с сущностью природы, творцы, опережая в принципе любых маркетологов, душой своей предчувствуют горизонты новых потребностей. Потому прислушиваться к советам творцов следовало бы с величайшей чуткостью. Существует вполне значимая философская норма, согласно которой «человек призван жить одновременно в двух мирах»: мире необходимости и мире свободы, будучи как бы свободным рабом [9]. Эта норма в полной мере относится к жизни к жизни творческого человека, судьба которого, наряду с судьбами многих людей, пока подчинена давлению со стороны олигархических сил. Но жизнь и творчество часто – расходящиеся ипостаси. Творчество по сути своей преодолевает любой вид принуждения, даже если таким принуждением оказывается смерть. Ведь злая судьба, обрушившая жизнь творца, часто совершенно не властна над его творением, продолжающим жить в веках. Например, псевдоафинская демократия принудила Сократа принять кубок с ядом, но великий дух его животворящей философии живет, преодолевая столетия и тысячелетия. Ядовитый во всех отношениях Нерон поднял меч смерти на наставника своей юности Сенеку, однако творения мудреца продолжают воспитывать взрослеющие поколения, теперь уже в далёком нашем времени. Потому творческая свобода является глубинной мощью в развитии жизни человечества, а все виды принуждения, сколь бы реальными они ни были в то или иное время, немощны в процессе становления великой человеческой истории. Пока узкопрагматичный экономиксов ум предписывает инновационному процессу, как ослу, идущему за овсом на палке, реагировать только на сигналы рынка, подлинное творчество само предвосхищает горизонт открытий, восполняя своими новинками не столько запросы, порой, искажённого рынка, сколько подлинные потребности настоящего и будущего человечества. Ведь, полнота человеческой жизни вовсе не сводится к накоплению драгоценностей, парка новейших авто, нескольких особняков ради того или иного лица. Подлинное выражение этой полноты – развитие в мире людей и последующее применение максимума тонких внутренних способностей. То есть, творчество всегда соответствует своему глубинному призванию – оно служит универсальному развитию самого человека, и в этом его высшее достоинство. Экономикс, например, привязывает любой предпринимательский риск к цели увеличения дохода, считая данную зависимость фундаментальной. Этот фактор он распространяет на все условия производства (земли, оборудование, квалифицированное творчество), рассматривая цель их использования только с позиции материальной выгоды [10]. Однако творчество по своей сути свободно от подобной мерки. Процесс творчества несёт в себе высокую философичность – он по природе своей беспредпосылочен. Творец, находя точку отсчёта во вселенной откровений, сознательно дистанцируется от возникших в прошлом времени авторитетов: их самые блестящие истины не знакомы с современным обликом бытия. Погружаясь в пространство откровений, творец не вправе навязывать ему свои цели: они должны самостоятельно возникнуть из неведомой бездны. Наконец, продвигаясь с великой осторожностью по пространству откровений, творец обязан забыть даже свою критериальную точку зрения: её возможная предубеждённость может убить мерцающие зарницы незнакомых идей. Творчество, таким образом, фантастически парадоксально: оно в процессе познания отталкивается от «ничто», движется в направлении к «ничто», в процессе движения критериально опирается на то же самое «ничто». Но если творчество бережётся от малейшего воздействия чьих-то идей, то меркантильный пресс для него принципиально губителен. Когда кто-то берётся подстёгивать творчество денежным кнутом, он тем самым стегает собственные надежды. Наиболее осторожные знатоки экономикса всё же обнаруживают фактор творчества. Но опять с вывихом: достижения творчества – картины, скульптуры, стихи и прочее, согласно экономиксу – не продукты труда. Гениев невозможно культивировать «в системе школьного образования или организовывать их деятельность» [11]. То есть, вывих состоит в том, что многосторонний творческий процесс возводится на абсолютную вершину гениальности, где он становится недоступным для остальных смертных. Хотя осторожность экономикса, как всегда, оставляет лазейку: всё же существуют, мол, другие различные «виды труда, малые количества которого…приносят непосредственное удовлетворение» [12]. Знатоки экономикса, засидевшиеся в финансовых сферах, видно, полностью утратили ощущение реальности. А многосторонняя жизнь интересна людям разных профессий именно достоинством творчества. Искры творчества присущи любой человеческой душе, не отравленной погоней за наживой и страстью притеснения чужих воль. С детства и до старости животворящая душа обнаруживает саму себя именно посредством творчества. Всякая профессия лишь слегка организует тягу к творчеству, а далее оно развивается по собственной вертикали. Потому каждый виток развития цивилизации стал возможен именно благодаря многостороннему творчеству людей. Ибо творчество как таковое живо во всеобщем, впитывая в себя результаты творчества предшествующих поколений и создавая пространство воплощённых открытий для развития поколений грядущих. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Челябинск. 2005. С. 129. 2. Там же. С. 118. 3. Монтескье Ш. О духе законов. М. 1955. С. 232. 4. Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Челябинск. 2005. С. 134. 5. Кравченко А.И. Классики социологии менеджмента. СПб. 1998. С. 73. 6. Там же. 7. Фишер С. Дорнбуш Р., Шлеманзи Р. Экономика. М. 1999. С. 662. 8. Саркисян А.Т. Пассионарии и управление. М. 2002. С. 76. 9. Булгаков Сергей Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб. 1997. С. 128. 10. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3 тт. Т.2. М. 1984. С. 222. 11. Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Челябинск. 2005. С. 133. 12. Там же. С. 131. _____________________________________ ТВОРЦЫ ЖИЗНИ ДУХА В ЖИЗНИ МИРА Даже в наше меркантильное время в среде студенчества встречаются поклонники гениальности. Осознанность такого поклонения не всегда прозрачна. Часто юные умы влекомы соблазнами мирской фортуны, кои не раз заманивали в свои сети талантливых людей. Ныне многим прямо-таки вбивают в головы потребность гонки по карьерной лестнице: там, мол, вас ждут высокие должности, статусы, как ранее – триумфы и статуи. Потому и гениальность представляется кое-кому в виде дополнительного варианта карьеры. Только вот, награда за чрезмерное усердие, если гениальность приравнивается с карьерному статусу, нужна лишь рабам, а не свободным (Спиноза). Ибо любое приспособление к правилам карьеры тотчас ограждает человека от него самого – он становится рабом тысячелетиями отшлифованных бюрократических норм, вырываются из которых лишь вместе со смертью. Часто наблюдаешь и другой вид юной гениальности, освящённый ореолом одиночества. Отстранение от мира происходит не из-за враждебных настроений окружающих, а по прихоти будущего гения. Именно свою одарённость он считает верхом совершенства, презирая всех вокруг. Так невольно возникает синдром самокоронации пока непризнанного «короля духа», который высокомерно превозносит себя над всеми живущими среди современников. Не найдя равных себе (коих на вершине его гордыни фактически быть не может), пренебрежительно нисходит он до общения с наиавторитетными несовременниками – через их произведения, которые, кстати сказать, внешне почитая, внутренне также не считает совершенными. Однако унижаемый мир людей (нынешних и прошлых) вовсе не базгласен, и вскоре одинокий гений начинает ощущать реальную враждебность мира. Пока многие душой не проснувшиеся юные современники воздымают жаждущие взоры к академическим званиям, статусным должностям, государственным или зарубежным премиям, либо сознательно провоцируют мир на враждебность к себе вознёсшейся гордыней, подлинные творцы жизни духа спокойно проходят мимо как благосклонной, так и враждебной фортуны, презирая обеих (Сенека). Ибо естественная жизнь творца духа имеет, в сопоставлении с мечтами и представлениями молодых «гениев», неопознанный для юности вид. Жизнь творца духа, как правило, лишена внешнего благополучия, а порою сопряжена с жестоким неблагополучием. Типичен и драматичен, например, творческий путь Спинозы. Ныне зачисленный в предвестники научной психологии, сам он относился к ней с огромным недоверием. Статусную психологию он считал крайне косной, лишённой связи с глубинной жизнью духа, похожей на обширную психологическую пустыню. Научные потомки этой психологии, изучая весьма необычную «Этику» Спинозы, связали его имя лишь с плоскостным, абстрактным "ratio". Однако, буквальное восприятие тестов Спинозы, не соотносящееся с жизнью его духа, часто вводит в заблуждение. Скажем, в одном из фрагментов его сочинений текстовое утверждение ошеломляет: даже свое отношение к Богу каждый, мол, обязан санкционировать мнением власти. Подтекст сего утверждения весьма замысловат: первоначальный договор Моисея с Богом вылился в государственное право. То есть, власть Моисея, или возникшая вслед за ней государственная власть — производное от ранее состоявшегося божественного договора. Неучитываемые тонкости возникают тогда, когда обнаруживается, что значимость договора рождается благодаря силе взаимных обязательств, скрепленных разумом. Иначе говоря, вдохнула действительность в намерения Бога, Моисея, в жизнь государства евреев именно сила разума. При этом фактическое Моисеево государство вскоре распалось. Следовательно, продолжает сохранять связь людей с Богом, имея при этом все реальные полномочия (на фоне возникающих и распадающихся государств), единственно лишь сила разума. Потому возникает совершенно неожиданная направленность подтекста: кажущаяся значимость любых внешних полномочий уступает значимости свободного разума. А если разум свободен, он вправе скорректировать понятие власти: она исконно принадлежит лишь совокупной воле народа, руководимого как бы единым духом (Спиноза). Таким образом, подтекст сложных движений спинозовского разума напрочь опрокидывает первоначальный текстовый посыл. Но над головой Спинозы, и до, и во время написания трактата, буйствовало несколько дамокловых мечей: церковного, цезаристского, угодливонаучного. Потому Спинозе приходилось отчаянно балансировать. От церковного меча — к щиту власти. От властных оков — к окну науки. От угодничества науки — к стезе мудрости. В конце концов, фактическое Спинозово "ratio" можно уподобить огненному дыханию Гераклитова Логоса. Ведь, во всех труднейших перипетиях противостояния разным гонениям, это "ratio" впитывало в себя целый букет страстей борьбы, отчаяния, его преодоления. Не случайно же вывел Спиноза: аффект может быть побежден только более сильным аффектом. А значит "ratio" Спинозы — это аффект аффектов. Но, разумеется, не истеричной природы, а великой силы мудрости. В каждом историческом времени творцам жизни духа уготованы те или иные путы да оковы. Новое время придумало нечто оригинальное: с некоторых пор начали опутывать жизнь творческого духа догматические приверженцы официальной науки. Ницше, например, сопоставлял заботу медика о человеке с нежными руками циклопа. Бердяев опасался, в случае чрезмерного рвения адептов науки, омертвения нашего естества. И как выяснилось со временем, путы ретивых интерпретаторов науки (не самих учёных!) становились всё жёстче и жёстче. Вот, например, Л.Выготский врывается яркоблещущей и неожиданной звездой в круги научной психологии. Искрометное начало, и – глухое, давящее противостояние живым, неожиданным, а в перспективе, невероятно плодотворным идеям. Итог – первая вспышка туберкулеза. Далее – небольшой отрезок мучительного, дисгармоничного бытия. Душа и руки Л.Выготского созидают книгу за книгой. Но лучшие его творения в свет так и не пропускают. Следует вторая вспышка туберкулеза. Далее – смерть, в самом расцвете творческих сил. То же отчасти пережил Станиславский. Вот он усердно штудирует научно-авторитетные труды И. Павлова. Осторожно вводит в обращение физиологические термины. Через посредников получает высочайшее согласие И.Павлова на милосердное ознакомление с его, К.Станиславского, рукописью. Но патриарх науки неожиданно умирает. И гениальное изложение системы театральной психологии (намного опередившей развитие даже психологии нынешней) выходит в свет под невзрачным козырьком: сие, мол, совсем не наука, а простые размышления практика. Озарения творца жизни духа жертвенны. Каждое из них – прорыв через пелену авторитарно-затвердевших правил. А за любой дерзновенный прорыв подстерегает расплата. И потому важна вольная или невольная готовность пожертвовать: безопасным положением, благоустроенным семейным очагом, многими привычными удобствами (Н.Бердяев). Всем привычное бытие для творца жизни духа становится внешне дискомфортным. Ибо путь творца при создании им произведений пролегает, как правило, помимо официальных заказов. А часто – в резком противоречии с ними, во внутренне-осознанном, страстноцелеустремленном преодолении их. Однако душа творца при этом вовсе не испытывает стеснения, а, наоборот, откликается сигналами благодарности ему. Кто-то восхитится "Розой мира" Д.Андреева. Но сумеет ли он оценить, что рождена она в тюремном застенке, в условиях обостренноболезненной тайны. При этом каждый день, час, секунду душа надрывается от опасности: придут, найдут, отнимут, уничтожат. Ибо подобное страшное однажды уже случалось. В ту пору, собранное по крупицам за десять лет труднейшей работы и жизни, вмиг отобрали и безжалостно уничтожили. Да еще бросили жертву в тюрьму, чтобы вслед за душой уничтожить и тело. Стезя отстранения от жизненных благ, подчас, становится абсолютной. Декарт, например, отверг даже возможность печатания своих творений при жизни. Чтобы склоки вокруг них не затянули бы в свой грязный водоворот. Чтобы не было повода для отвлечений от пути напряжённого поиска. Душу, порой, приходится протягивать как бы через дно отчаяния. Тогда воля, словно окончательно уничтожив собственную душу, вытаскивает ее всё же после из самозабвения, из внутреннего пепелища: "У меня сегодня много дела: / Надо память до конца убить. / Надо, чтоб душа окаменела. / Надо снова научиться жить" (А.Ахматова). Если пытаться осознать неискоренимую причину трагичности творца жизни духа, окажется, что состояние внутреннего трагизма постоянно сохраняется от страшнейшей концентрации в его судьбе неразрешенных противоречий жизни Человечества. На предельном взлете своих открытий дерзновенный ум может быть катастрофически одиноким. Прежде всего, среди профессионально-закосневших современников. В отличие от непризнанного юного гения, вводящего себя в состояние изгоя собственным капризом, одиночество творца жизни духа предопределено его глубинной стойкостью в отношении покушениям на его прозрения. Картина этих прозрений становится подлинной достоверностью для творца, противопоставляющего её всем признанным догматам. В силу этого, подобное одиночество божественно. Оно – своеобразный знак преодоления удушающих, омертвевших истин. Противостояние порою возникающей травле требует недюжинного мужества: нужно вначале оградить свою душу от соблазнов трусости, чтобы суметь выдохнуть из глубин души дерзновенную идею. А затем важно быть готовым переносить, может быть, пожизненное отшельничество. З.Фрейд, например, в ряде своих работ практически глумился над душой и творчеством Леонардо да Винчи. Ему бы, Фрейду, хоть отчасти осознать великое Леонардово мужество. Вот, например, мы видим блестящие графические зарисовки человеческого тела, где предельно чётко выписаны отдельные мышцы и каждая жилочка. Но как это всё увидено? И Леонардо спокойно поясняет: рассматривая тело, не увидишь ничего. Чтобы разобраться, я был вынужден рассечь более десяти трупов, разрушая их до мельчайших частиц, уничтожая все мясо. Работать приходилось из ночи в ночь, в абсолютном одиночестве, при отблесках факелов. В обществе разрезанных, ободранных, ужасающих мертвецов постоянно одолевали омерзение и страх, которые приходилось преодолевать. Плюс к этим испытаниям — неустанное выращивание собственного мастерства, дабы появилась точность рисунка, да еще знание перспективы, да владение строем геометрических доказательств, да методом расчета крепости мышц. К сему — величайшее прилежание и фантастическое терпение, когда процессу напряжённого творчества не мешают ни корысть, ни нерадивость, но только беспощадное время (Леонардо да Винчи). Высокая просветленность чурается претензий на исключительные права, принимая один только сан доблести, которая значима единственным – она многосторонне обязывает (la noblesse oblige). Обязывает она в отношении к фактически нуждающимся: и в современности, и в прошлом, и в будущем. В то же время, нынешние социальные науки (юриспруденция, экономика, социология), проигнорировав многомудрое прошлое, невероятно сузили поле своих усердий, поместив себя на экспериментальный островок настоящего. Хотя вокруг – освоенные гениями прошлого континенты открытий. Столь же высока и желанна обязанность перед будущим. Ибо счастье – присутствовать в мыслях потомков, когда сама память о тебе служит образцом для самосовершенствования (Сенека). Скажем, как чрезвычайно взволнован был К.Станиславский, увидев незадолго до смерти верстку своей книги. Свершилось главнейшее его жизни — потомки получат Систему театрального искусства! Так же и Леонардо, Декарт, Спиноза, Ницше непрестанно соотносили вехи своего творчества с возможными целями бытия планеты потомков. И потомки их ныне, бродя по миниулицам и миникварталам тишайших градовбиблиотек, прикасаются душами к фолиантам посланий из прошлого, как к мирозданию звёзд-сердец, благодатно посверкивающих с книжных полок. Творец жизни духа, размышляя об единении человечества, не исключает мистического плана, допуская, что высшие проявления "Я" людей облекаются наитончайшей энергией. Энергия эта, видимо, сферически опоясывает всю живую планету. Потому наши помыслы, а также духовные действия через психейную сферу оказываются крепко связанными друг с другом. Более того, предполагается, что при особом способе психически-нравственного бытия мы можем быть членами незримой духовной сферы. Тогда духовное действие каждого вливается в универсальную полноту посю-и-потусторонней жизни (Н.Бердяев). В связи с этим, фактически возрастает степень ответственности каждого за свершаемые поступки. И тогда становится более понятно, что многие житейские несчастья, внешне не мотивируемые ничем, вдруг, обретают смысл через закон возмездия, связующий разные жизненные воплощения (Д.Андреев). Если данные догадки верны, тогда рядом со зримо воспринимаемой историей можно представить существование параллельно развивающейся иноистории в потустороннем бытии (С. Булгаков). В ней могут быть неведомые нам потоки времени и пространства, сложнейше уплотненный событийный мир, глубинно воздействующий и формирующий наиболее острые контуры видимой истории (Д.Андреев). Иноистория, как ведают, наиболее пронизывает собою мир нравственности, который максимально воплощается в великой народной любви. Может быть, в этом ключе предполагают также о явленности Царства Божия на земле. (А.Бейли). И душе творца, глубинно обращенной к данному духовному основанию, чужда боль от внешнего одиночества, им спокойно преодолевается беспросветность обстоятельств жизни. В сложнейших испытаниях, благодаря союзу со многими творческими душами, у творца всегда находятся силы для продолжения творчества (Д.Андреев). Искусство, в связи с идеей иноистории, воплощает в себе особый психологический парадокс. Скажем, Корделия и Лир – художественные квазифантомы, или жизненные иллюзии, если измерять эти образы искусства спектроскопом научности. Но их психологическое чудо заключается в том, что они как бы живее смертных людей. Ибо сохраняются они не только в виде меток памяти, но и в виде ценнейших источников психической энергии, коей питаются силы живых (Г.Козинцев). А там, где в мире людей, к примеру, увяла гражданственность, казалось бы фантомное искусство миссионерски выступает как подлинный, нравственный судия, подчас, бесстрашно отрезвляя сознание забывшихся людей картинами пира во время чумы. В данном мнении потусторонний мир безраздельно верховен. Этим мнением нашему "Я" поставлен определённый предел: не помышлять о возможности встречного влияния на сверхчеловеческое бытие. Иначе говоря, Бог – истинный герой всемирной истории, а человечество – лишь его воплощенное деяние. Но соприкосновение творцов жизни духа с иноисторией может быть и несколько иным. Вероятно, Земля – как бы великая скала, рядом с которой человечество подобно Прометею, мучимому коршуном сомнения. И надо бы возжечь блистающий факел мудрости, освещая ее лучами посю-и-потусторонний космический мрак вокруг скалы. Ведь, лучи эти уже посверкивают в психейной зарнице искусства (Гейне). Так творцу жизни духа способна открыться дополнительная немаловажная тайна: возможно, дела гениев, из века в век, обратно воздействуют на духовное, надысторическое бытие и образуют в нём незримое, великое Прометеево братство. Оно вполне может быть осознано, как Царство Божие на земле, глубинно противостоящее межмировым делам кесарей (Гегель). Явленная данность его — межэпохальная беспредельная преданность творцов жизни духа свободе, совести, творчеству, любви. Одновременно ими утверждается в веках преданность кругу блюстителей подлинной чести. В этот союз не вступают – ему безраздельно отдают свою душу, и идут в незримом строю миссионеров, созидающих будущее человечества. В Прометеевом братстве особый характер душевности: ему присуща бескорыстная борьба за чужие интересы, причем, усерднее, нежели за свои собственные (Н.Лосский). Перед взором нынешнего творца жизни духа образуются два ряда источников: откровения пророков и прозрения гениев. К ним присоединяется третий – его собственный прозревающий опыт. Вследствие этого, его душа пульсирует в средоточии как бы тройной духовной крестовины, непрестанно перетекая в ипостаси: Веры, Служения, Сомнения, Выбора, Синтеза, Творения. Стезя неотступного созидания бытия под ношею тройного распятия — непременное условие глубинного творчества. Официальным коридорам творцы жизни духа предпочитают житейско-демократическую площадь, как средоточие всего неофициального. Там царствует право экстратерриториальности, с тысячелетиями сберегаемым духом универсальной вольности, с глубочайшим критицизмом в отношении к нормам многовековой юриспруденции (М.Бахтин). Потому и в этом плане не может быть одиночества у творца жизни духа, постоянно находящегося в гуще оживленных соприкосновений мира людей, в обменах сердечными откликами. Ибо жизнь народная, подобно стихии карнавала – это непрестанное обновление душ и тел, где возникает не вымышленное, а искрометное единство и общность (М.Бахтин). И нет здесь искусственного деления на авторов, исполнителей и зрителей спектакля по имени «жизнь». А сам азарт духовных исканий присущ каждой заинтересованной душе. Так происходит мощнейшее взаимообогащение: Прометеево братство возносит к иным мирам и к будущему человечества ярчайшие откровения о сути бытия, непосредственно относящиеся к новым горизонтам жизни народа. Но, в то же время, энергия творцов жизни духа соприсутствует и органично сливается с энергией народной жизни, обратно одухотворяясь народно-шутливым и мудрым историческим бессмертием. Ведь, здесь повсюду доброе человеческое внимание, участливая забота. И постоянная поддержка, при которой просто нет повода для долгих мрачных мыслей или угрюмого скепсиса. В этой связи, если у творцов жизни духа всё же сохраняется отшельничество, то оно существует лишь в отношении к чопорному кругу внешне полномочных лиц. И оказывается, в конце концов, в свете маяка великой истории, что эти чопорные лица фактически – сами отшельники на неунывающем духовно-ироничном карнавале всемирной народной жизни. Труднейшее для энергичной юности в плане приобщения к Прометееву братству – необходимость отбрасывания искусственной гениальности и погружение в как бы вязкую гущу бытия. Ведь, романтическая прыткость, мгновенно зачисляющая себя в Граждане мира, прежде всего, не может избавиться от презрительного отношения к естественной жизни народа. Меж тем, творец жизни духа – человек без заданной позы, без престижного статуса и ярко очерченной роли, то есть, без готовой узнаваемой формы. Это часто совершенно сбивает с толку ходульный романтизм. Однако, духовный подвиг зачастую незрим, так как духовность, кичащаяся чем-либо перед другими – либо ещё не стала, либо уже перестала быть самой собой (Платон). Потому нелепа и убога скороспелая претензия на причастность к Гражданству мира. В то время, как незрелые "граждане мира" обостренно обидчивы, дабы не уронить свою гениальность, творец жизни духа к любому человеку, даже угрюмому, подходит с весельем, радостью, во всяком серьезном стараясь подметить нечто забавное (Э.Роттердамский). Так высшее благо, созревшее в возвышенной душе, не превращается в неприкасаемый хрусталь. Оно осветлённо и щедро дарится восприимчивым душам (Платон). Эти чуткие души встречаются не только в иных столетиях. Если присмотреться, они — рядом и повсюду. И сердце творца жизни духа оркестром внутренних струн находит созвучия в совершенно разных сердцах: в кругу друзей на службе, в вольных контактах на демократической площади, в мире озорного детства, в сообществе пожилых людей. Так Прометеево братство постепенно и естественно расширяется незримыми кругами по всей вертикали одухотворённой истории, в горизонтали отзывчивой современности.