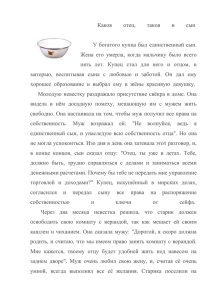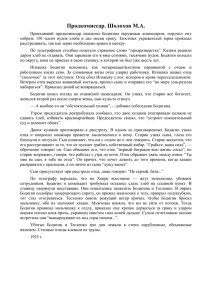Александр Столяров
advertisement
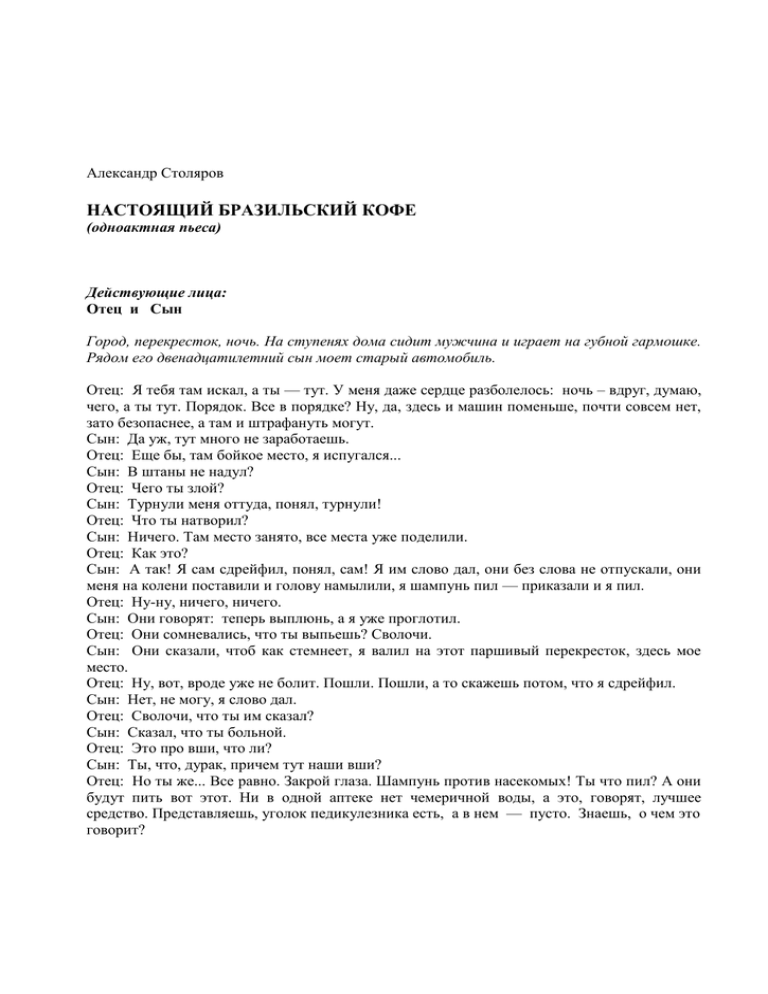
Александр Столяров НАСТОЯЩИЙ БРАЗИЛЬСКИЙ КОФЕ (одноактная пьеса) Действующие лица: Отец и Сын Город, перекресток, ночь. На ступенях дома сидит мужчина и играет на губной гармошке. Рядом его двенадцатилетний сын моет старый автомобиль. Отец: Я тебя там искал, а ты — тут. У меня даже сердце разболелось: ночь – вдруг, думаю, чего, а ты тут. Порядок. Все в порядке? Ну, да, здесь и машин поменьше, почти совсем нет, зато безопаснее, а там и штрафануть могут. Сын: Да уж, тут много не заработаешь. Отец: Еще бы, там бойкое место, я испугался... Сын: В штаны не надул? Отец: Чего ты злой? Сын: Турнули меня оттуда, понял, турнули! Отец: Что ты натворил? Сын: Ничего. Там место занято, все места уже поделили. Отец: Как это? Сын: А так! Я сам сдрейфил, понял, сам! Я им слово дал, они без слова не отпускали, они меня на колени поставили и голову намылили, я шампунь пил — приказали и я пил. Отец: Ну-ну, ничего, ничего. Сын: Они говорят: теперь выплюнь, а я уже проглотил. Отец: Они сомневались, что ты выпьешь? Сволочи. Сын: Они сказали, чтоб как стемнеет, я валил на этот паршивый перекресток, здесь мое место. Отец: Ну, вот, вроде уже не болит. Пошли. Пошли, а то скажешь потом, что я сдрейфил. Сын: Нет, не могу, я слово дал. Отец: Сволочи, что ты им сказал? Сын: Сказал, что ты больной. Отец: Это про вши, что ли? Сын: Ты, что, дурак, причем тут наши вши? Отец: Но ты же... Все равно. Закрой глаза. Шампунь против насекомых! Ты что пил? А они будут пить вот этот. Ни в одной аптеке нет чемеричной воды, а это, говорят, лучшее средство. Представляешь, уголок педикулезника есть, а в нем — пусто. Знаешь, о чем это говорит? Сын: Педикулезники — это мы? Отец: Это они, а мы — люди. Идем. Сын: Я не пойду. Отец: Почему? Сын: Ты что, не понял? Я теперь с ними заодно, понял? Отец: Я вчера домой сам пришел? Сын: Они одна компания, концерн. Все перекрестки, стоянки перед гостиницами, все это ихнее. Отец: И сколько за это надо платить? Сын: А тебе какая разница, ты, что, зарабатываешь? Отец: Душно. Я, вот, поесть принес. Дождь будет. Впервые вижу живого мафиози. Сын: Какая вонючка. Сколько стоит? Отец: Ерунда, смесь мыла с керосином. Но действует безотказно. Сын: Керосин так не воняет, сколько ты заплатил? Отец: Там написано. Сын: Это прошлогодняя цена, а сегодня сколько? Отец: Не помню. Как ты думаешь, почему я босиком? Сын: Потому, что лето. Отец: Ну, да. Видел сегодня лебедей, летели на юг. Но я не к тому. Есть один экономический закон: обувь носится в два раза дольше, если ее надевать в два раза реже. Сын: Что у тебя с рукой? Отец: Меня хотели распять, даже прибили одну руку, потом поняли, что обознались. Сын: Ты опять сочинял, ты сочинял, да? Отец: Да, это неизлечимая болезнь. Ты ешь. Сын: Ничего, это не мешает. Отец: Ну, вот такие стихи: Мы весь день сидели дома, за окном туман стоял, снег лежал и дождь ходил туда-сюда. Сын: Это про какое время года? Отец: Так, в ожидании тепла. Сын: Вонючие пирожки и кофе вонючее. Все провоняло. Отец: Нормальный желудевый кофе. Почему, когда нет денег, все время есть хочется? Сын: Ты, что, газету купил? Отец: А тебе разве не интересно, что происходит в мире? Я в твоем возрасте был любознательнее. Сын: Сколько? Отец: Везде война. Сын: Сколько ты истратил? Отец: Я читаю газету. На каждой странице гибнут люди, я дочитываю ее до конца и надеваю траур по человечеству. Необходимо остановить прессу. Сын: Это не они сволочи, это ты — сволочь. Ты все истратил. Отец: Подавись своими фантиками. Что, сосчитал? Я еще понял бы, если б у тебя цель была, ты же скупой рыцарь. Сын: Здесь все, что я тебе дал, а на что ты делал покупки? Отец: Ты мне надоел. Объявление. Рожу и продам ребенка, писать на номер. Сын: Ты нашел работу? Да? Ты нашел работу, ну, говори? Отец: Давай напишем. Я войду в долю. Сама она не справится, без партнера — гиблое дело. Сын: Ясно. Опять спал. Посмотри на себя, это не рожа, а наволочка. Отец: Как брань тебе не надоела, расчет короток мой с тобой. Ну, так, я празден, я без дела, а ты бездельник деловой. Сын: Я тут вкалывай, а ты валяешься с похмелья на диване и сочиняешь стишки. Отец: Это Пушкин, невежда. Сын: Я невежда? Ищи работу, паразит. Отец: Илья Муромец — великий русский богатырь, пролежал на печи тридцать лет и три года. В воздухе зреет мое дело. Мир не может только перепродавать, он нуждается в производителях. Сын: А теперь тоже самое, но в рифму. Отец: Вот сколько ты сегодня заработал? Сын: Все мои. Отец: Я и не претендую. Мне деньги не нужны. Я пожил, теперь живи ты. Но хочу тебя предупредить, если перед носом одни только деньги — жизнь бессмысленна. Сын: Интересно, когда и как это ты пожил? Отец: Я? Знаешь, как я жил? Я настоящий бразильский кофе пил каждый день. Инстант кофи мэйд ин бразил, понял? Сын: Кофе вонючее и горькое. Отец: Правильно говорить: вонючий и горький. Сын: Все равно дрянь. Отец: Ты просто никогда не пил настоящий кофе. Сын: Сыт по уши твоим светлым прошлым. Отец: Что ты знаешь о прошлом? За три рубля можно было пообедать в ресторане, а ты никогда не был в ресторане. За три рубля можно было купить билетов в кино на целый ряд. Сын: Это при царе еще. Отец: Да, я, может быть, монархист. А у тебя никаких идеалов. Вы все растете без идеалов. Зато у вас — свобода. Я, может, сам за нее боролся. А ты, ты за кого? Сын: Ты живешь на мои деньги, жрешь, срешь и подтираешься. Отец: Пошлость. Сын: Я хочу, чтоб у нас, как у всех было, нормально. Я люблю свиные отбивные, я тоже хочу пить настоящее кофе. Отец: Настоящий. Сын: Заткнись. Ты, ты, ты… — приживал несчастный (пауза). Отец: Думаешь, обидел? Вот, накося-выкуси. Он еще надеется меня унизить. Да меня уже весь мир унизил ниже плинтуса. Я смеюсь. Мне недавно такое сказали. Знаешь, что мне сказали? Знаешь? Дай Бог тебе никогда такое не услышать. А я, думаешь, что? Думаешь, дал в морду? Не-е-ет. Я плечами пожал и вышел. Ариведерчи. Сын: Ты чего? Ты чего? Ты чего? Отец: Да так, насморк. У меня всегда насморк, когда ниже восемнадцати градусов по Цельсию. Сын: Хочешь, сходим в кино? Отец: Ты же не любишь там смотреть, тебе же неудобно. Вот, кровь пошла. Конечно, там не воспринимаешь кино, как искусство. Сын: А мы не пойдем в проэкцию, мы билеты купим. Отец: Обойдусь. Я вообще ни на кого не обижаюсь. У меня характер такой, отходчивый. Сын: Ладно, извини. Отец: Ты думаешь, мне не стыдно, думаешь, я работать не хочу? Я хочу. Но я не могу. Мне предлагают, но предлагают что-то такое,.. я даже чувствую запах. Чем, спрашиваю, у вас тут воняет? Я тебе расскажу когда-нибудь про картину «Пир мертвецов», Филонов написал. Так вот, я не хочу с ними пировать, я живой. Это общие слова, даже, может быть, метафора, я, наверное, странный, наплевать, но я чувствую когда живое, а когда — мертвое. Я не желаю пировать с ними, не желаю быть живым трупом. Это у тебя пока жизни много, фонтаном бьет, тебе пока все равно, чем заниматься, твою жизнь пока не заткнешь, так брызжет, а у меня не то. Сын: Я могу поссать в потолок, у меня добьет. Отец: Ну, вот видишь. А я в школе плевал дальше всех. Сын: Этого и у нас хватает. Через улицу переплюнешь? Отец: Если с разбегу. Сын: Я могу устроить для тебя платный чемпионат. Каждый участник вносит деньги, сумма — победителю, то есть, тебе. Отец: На деньги не буду. Сын: Почему? Отец: А как я на воротах стоял — скала, смертельные мячи брал. Вы в футбол не играете, у вас скучная жизнь. А еще я по садам лазил, не на шухере, нет, первый был всегда. Я всегда был первым потому, что я был самим собой, я никому не подражал, никаким Шварцнеггерам! Сын: Первый, первый. Лучше бы ты был вторым Шварцнеггером, чем первым... Отец: Первым «никто», да? Сын: Я не знаю, в чем ты сейчас первый. Отец: Да, я первый никто и я всегда буду первым, всегда! Первый никто, отлично придумано (пауза). Сын: Что ты молчишь, ну, не молчи, скажи что-нибудь. Отец: Что-нибудь. Сын: Нет, так не пойдет. Ты говори про жизнь и вообще. Отец: Кончилась моя жизнь, я в ней обосрался. Спроси меня, кем я хочу быть. Сын: Кем ты хочешь быть. Отец: Никем. Вот так. Я приплыл. Когда твоя мать нас бросила, я думал, обойдусь, наплевать, у меня еще девочки будут, как в видеоклипах, вот с такими ногами, змеюки такие, я думал, вы еще пожалеете, у меня все впереди, я еще появлюсь в белой шляпе на голубом мерседесе, у меня будет все класс, я же первый, у меня образования на троих, я уникальный, это же всем видно, я еще выбирать буду на тарелочке с голубой каемочкой. Нет тарелочки, не приносит никто, и не принесет. Я-то думал, что я всем нужен, это наивно, пойми, я должен быть нужен, а сам просить не умею, не хочу. Я пробовал просить, плевать на гордость, но потом нехорошо, потом, будто украл. Вот как от этого керосина с мылом, вонь на душе. Сын: Ты что, украл шампунь? Отец: Ну, да. Сын: И пирожки? Отец: Мы их называли — собачья радость, стоили — четыре копейки штука, но с мясом, а не с горохом, как эти. Сын: И газету? Отец: Нет. Представляешь, почти сегодняшняя, лежала в урне. Сын: Пора покупать пистолет и брать банк. Отец: Ты что, серьезно? Не смей даже думать об этом. Сын: Почему? Отец: Потому, что воровать — грех, это я тебе говорю, твой отец, я твой отец, говорю, понял? Сын: А сам украл. Отец: Я не для того, у меня идея была. Сын: А врать — не грех? Отец: Была, но я в ней разочаровался. С утра встал, пойти некуда, есть нечего, решил — пойду в тюрьму, но потом раздумал. Что ты молчишь? Сын: Да так. Отец: Ну, говори, чего ты? Сын: Отстань, я работаю. Отец: Уважаю честный труд. А меня, конечно, уже не уважают. Вор-любитель. Я, что, засыпался? Сын: Что? Отец: Меня не поймали. Я мог бы стать профессионалом, Родина бы гордилась мной. Рядом со мной Аль-Капоне — мальчик, лишенный фантазии. Сын: Отчизна и родина — это одно и тоже? Так вот, значит, ты — моя родина сраная, решил в тюрьме отсидеться? Отец: Я же сказал. Что я раздумал. У меня было притупление родительского инстинкта, затмение нашло. Сын: Ну, и вали, вали отсюда, инстинкт у него притупился. Отец: Я могу уйти, но со мной уйдет и смысл твоего существования. А ты существуешь, да, ты не живешь, а я живу! Я, знаешь, кто? Я — рыболов духа! Не душ, а духа. Иногда вдруг я чувствую, что через меня проходит нечто. Я говорю, двигаюсь, но что-то пошло сквозь меня. И тут важно замереть, не вспугнуть. Я ощущаю себя тонкой оболочкой, меня омывает бесконечный поток, омывает всего, каждый палец, даже ушную раковину изнутри. Молчи, не двигайся. Я научу тебя этому (сверху падает доллар). Это что еще? Сын (поднимает доллар): Не знаю. Отец: По-моему — это доллар. Сын: Ты, что никогда не видел доллар? Отец: Видел. Только я подзабыл, как он выглядит. Сын: Значит, мне-таки заплатили. Отец: С чего бы им платить долларами? Фальшивый. Сын: Ерунда, настоящий доллар. Отец: Может, у них денежная реформа? Псих какой-то. Целый доллар за ерунду. Эй, мистер, где вы там? Эй, мистер Твистер! Где он? Вон с того балкона уронили, точно. Эй, вы потеряли тут кое-что! Что же он не показывается? Сын: Кто? Отец: Откуда я знаю, кто-то же бросил. Сын: Эй, заберите ваш доллар и заплатите нашими. Отец: Молчи. Вашими. Ваши фантики хуже туалетной бумаги. Сын: А с этим что делать? Отец: Эй, мистер-твистер, может вам еще чего вымыть? Тротуар, к примеру? Сын: Что мы с ним будем делать? Отец: Идиот, это же доллар! Бакс, баксище! С ним можно все, все!!! Он всемогущ, доллар — это первая валюта в мире. На него можно купить все, что хочешь и где хочешь. Сын: А в Москве? Отец: Господи, да где угодно, хоть в Америке. Ты знаешь, где Америка? Она под нами. Стукни ногой. Там Америка! Они слышат, слышат. Эй, американцы, русские идут. Сын: Берегись. Отец: Виват, фортуна улыбнулась нам! Поют вдвоём: Эй, американцы, русские идут, берегись. Эй, американцы, русские идут, берегись. Сын: А что мы там будем делать? Отец: Зачем там? Там нам тоже делать нечего. Здесь. Господи, сколько денег, кто ожидал, что ты можешь столько заработать. Мы завтра заплатим за их вонючую квартиру, пусть подавятся. Мы купим мяса! К черту пост! Дай мне сюда эту зелененькую бумажку. Сын: Не дам. Отец: Давай, давай, я обменяю, все равно придется менять, я видел, под гостиницей меняют. Эй, мистер, русское вам спасибо! Сын: Я не дам тебе доллар, ты пропьешь. Отец: Я напьюсь виски. Ты никогда не пил виски? Все! Всем спасибо, концерт окончен, пошли менять. Главное, не продешевить, выясним, почем продают, так, между прочим, а потом — здрасьте-пожалуйста, купите вашингтончика. Сын: Подождем, пока дождь кончится. Отец: Разве это дождь, это слезы. Смешно. Ты ему машину вымыл за доллар, да? А теперь дождь (смеются). Но все, шампунь потрачен, работа сделана, не наша вина, что нашлась дармовая рабсила. Мы уходим. Сын: Я не пойду никуда. И дождь скоро кончится. Отец: Скоро? (Стучит в дверь). Эй, откройте, мы будем у вас ужинать! Дашь доллар? Сын: Не дам. Отец: Не долго музыка играла, не долго... фраер... Почему? А, ну да, способный какой. Это что за зелененький фантик, папа? Это доллар, сынок. Ах, доллар, я очень люблю зелененькие доллары, я без них жить не могу. Сын: Ну, скажи, скажи, что я жлоб. Отец: Нет, ты нормальный, как весь этот мир. Это я несообразительный. Деньги есть — надо тратить, сколько той жизни. А ты будешь жить вечно. Сын: Мы накопим денег и уедем отсюда. Отец: Куда? Сын: В Москву. Отец: Зачем? Сын: Ты же хотел в Москву. Отец: Я? Сын: Ты же сам говорил, что в Москве ценят талант, что настоящий талант должен жить в столице. А здесь мы эмигранты, здесь мы никому не нужны, ты же сам говорил. Отец: Кто тебе сказал, что у меня настоящий талант? Кто? Я? И ты поверил? Кому? Актеру из погорелого театра. Бывшему герою-любовнику из бывшего русского театра. Так это ты ради меня деньги копишь, да? Не смеши людей. Сын: Я тоже на что-то способен. Я еще не знаю на что. Я здесь стихи сочиняю тоже. Отец: Читай. Сын: Автомобильные. Едет машина 45-17 ЛВЮ, значит, я тебя люблю. Ну, как? Отец: Интимная лирика. Сын: И еще. Едет машина 22-14 ЛВЯ, значит, ты любишь меня. Отец: Все? Сын: Пока все. Отец: Вот, что я тебе скажу, едет машина ЛВЖУ. Как отец, я должен был похвалить тебя, но я не могу, не имею права восхвалять графомана, тем более, родственника. В Москву! Я лишаю тебя этого смысла существования. Потому, что это не смысл, а смыслик. Потому, что нам некуда бежать, кроме этого перекрестка, здесь, на этом перекрестке, центр вселенной, неужели ты этого не понимаешь. Ты думаешь, я устал жить, что у меня нет стимулов к жизни, что я выдохся. Запомни, потом поймешь, нет смысла в человеческих бегах… Человеческое движение — это видимость жизни, передвижение тел еще не есть жизнь. Они надеются разогнаться до таких скоростей, чтобы потерять массу и стать духами, ангелами или бесами, им все равно. Мы смеемся над ними. Человечество надеется перейти в новое качество за счет глупости. Глупость — вот их двигатель. Плевал я на Москву из этой нашей провинциальной заграницы. Я доплюну. Москва — это центр глупости, это ее перпетум мобиле. Отдай мне доллар. Сын: Я думал, ты умный, а у тебя просто денег нет. Отец: Я учусь у природы бескорыстию, хочу работать — работаю, хочу спать — сплю (играет на гармошке). Верни шляпу на мою бедную голову, у меня мерзнет голова. И не забудь положить в нее доллар, я исполняю американскую музыку. Это был классный фильм. Я всегда мечтал сыграть в спектакле с такой музыкой. Оставь головной убор на панели. Я буду просить милостыню. Пановэ, подайте, Христа ради. Хай живе вильна и суверенна Украина. Еще Польска не сгинела. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Товарищи старшины и сержанты, ура! Я танцую, я многорукий Шивва, в одном танце я воплощаю больше, чем вы во всей вашей жизни. О, мани падма хум! Бессамэ мучо! Желаете, я напишу ваш портрет, вырежу профиль за пять минут, сочиню поэму или симфонию, сниму душераздирающий триллер? Оставьте необходимую сумму в шляпе, я приветствую тебя, благородный спонсор. Я увековечу твое имя в истории, культуре, технике и науке. Я спроектирую и построю голубой город и назову его твоим именем. Ради вас я на все готов, всегда готов! Что же вы не платите? Сын: У них нет денег. Отец: Нет, деньги у них как раз есть. Но им всем насрать на все, этого в них сверх меры. Они узаконят и определят новый период в истории человечества и назовут это временем великого говна. Я приветствую вас, зачинатели новой эры — великие говнюки! Они всех нас купят, за один вонючий доллар. Да здравствует Америка! Что мой талант по сравнению с вашим умением делиться до состояния одноклеточных. Вы размножаетесь делением. Этот физиологический закон вы возвели в нравственность. Черт возьми, хорошо сказал… Ну-ка, глянь, что там в моей шляпе. Посмотри, посмотри. Сын: Ничего. Отец: Ложь! Дождь, там должны быть его драгоценные капли, небо мне платит алмазами. Сын: Дождь кончился. Отец: Отлично. Почему, когда человек смотрит на звезды, он улыбается? Я буду смотреть на девочек. Лучшие девочки катят в автомобилях. Твоя мать теперь тоже катит в автомобиле, и какой-нибудь пацан на перекрестке протирает им стекла и клянчит вознаграждение. Нет, он не клянчит, как ты, он требует, иначе он запустит им камнем вслед. Возьми доллар, мальчик, и будь счастлив. Доллар заменит тебе все. Доллар — универсальный заменитель любви, люби доллар, и только доллар. Мы на мели, форды, шевроле, пежо — проплывают мимо, они в форватере. Но это страшная река, опомнитесь, вы плывете к концу света. Сын: Ты тоже можешь заработать доллар. Отец: Я? Я — мыть стекла? Ты хочешь, чтоб твой отец мыл стекла? Хорошо. Ночной мойщик авто. Я — ночной мойщик авто. Я — умывальник. Сын: Что ты делаешь? Отец: Дамы и господа, позвольте, я протру вам стекла, мне необходимо видеть ваши физиономии. Мадам, много ли вам надо для счастья? Трахнуться, выпить-закусить и прокатиться в авто иностранной марки? Какое простое счастье. Вы наплодите детишек, и у них тоже будет что закусить. Мой мальчик будет мыть стекла вашему мальчику, и ваш будет презирать моего, как вы сейчас презираете меня: ведь вы же не настолько глупы, чтобы обещать моему мальчику будущее миллионера? Все миллионеры начинали с мытья машин или продажи газет. И вы в это верите? Вы правильно делаете. Только тот, кто верит в это, станет миллионером. Это ваша вера… Простая сентиментальная вера. Но не вы ее придумали. Ее изобрел черт. Он мастер изобретать такие сказочки. Но только у тех, кто в это верит, со временем отрастают рога и хвост, и у женщин тоже. Мадам, вам скоро не понадобится автомобиль, на помеле — куда быстрее. С вас доллар, эй, куда же вы, вы забыли заплатить! Сволочи. А ты чего разорался?! Сын: Ты намылил им стекло вшивым шампунем. Отец: Вот как? Действительно. Ну и вонища теперь у них в салоне. Нет, пока едут — незаметно, сквозняк, но потом они остановятся в тенистой аллее, скользит луна, свистит соловей, он положит ей руку на колено, плавно проведет по бедру. Ты знаешь, как кладут руку на женское колено? И скажет: дорогая… Это будет искренно, она ему стоит не одну сотню. А она принюхается, сморщит носик и скажет, что у него в салоне воняет шампунем от вшей. Хотя, откуда ей знать, как воняет средство компании фитофарм “Брек”. Шампунь противопедикулезный! Предназначается для удаления паразитирующих вредных насекомых на теле человека и животных! Она даже не знает, в каком ты классе. А ты, чем графоманствовать, рекламу бы сочинил. Ваш кадиллак цвета беж, после мытья будет чист и свеж! — и раскланялся. Сын: Бежевый — это какой цвет? Бежевый — это какой цвет? Бежевый — это какой цвет? Отец: Бежевый — это бежевый. Ваш лимузин черного цвета после мытья будет, как конфэта, с шармом. Сын: Они запретили брать плату с черных машин. Отец: Вместо черного поставь любое другое слово. И по какому праву они тебе запрещают? Сын: Все равно, черные «Волги» не платят. Отец: Родимые пятна тоталитаризма. Сын: Я мою все, кроме черных. Отец: Расист. Сын: Хорошо платят иномарки. Отец: Как от тебя, такого умного, мать сбежала, ума не приложу. Сын: Она к нему сбежала, а не от меня. Отец: Врешь, не к нему, а от меня, от меня! Это две большие разницы. Сын: Если бы ты был нормальным, она бы никуда не делась. Отец: Нормальным? Что для тебя норма, мальчик? Останавливаться на красный свет с полным карманом зелененьких? Меркантильный тип, я сомневаюсь, что ты мой сын. Ты не похож на меня. Ты всегда вовремя выносишь мусорное ведро, ты сразу моешь посуду после себя, а я порезался ложкой. Просто начал одной ложкой скоблить другую — засохла, не хотела отдираться — и вот — разрезал себе руку. А ты сможешь порезаться тупой ложкой? Зато ты знаешь: кто виноват, что и сколько стоит. Ты не мой сын… В одном зоопарке проводили эксперимент над обезьянами. Шимпанзе надо было дернуть за веревочку, чтобы появился банан. Так вот, с точки зрения ученых, наивысший интеллект оказался у той обезьяны, которая, когда появлялся банан просто так, не хватала его сразу, а сначала дергала за веревочку. Это была сумасшедшая обезьяна, она сошла с ума во время эксперимента. Сын: Откуда ты знаешь, что это была сумасшедшая обезьяна. Отец: Потому, что она повесилась на этой веревочке. Не улавливаешь связи, недоросль. Веревочка — это удавка, это наши деньги. Дал доллар — получи банан. Так выдрессировали, что даже когда банан наш, торопимся заплатить за него чужому дяде. Сын: Наших бананов не бывает. Отец: А чьи, чьи бывают бананы? Почему все блага чьи-то? Почему кому-то все даром, а другому только веревочка, чтоб повеситься? Почему твоя мать, моя жена, ушла к нему? Потому, что у меня из мебели одна удавка? Да? Разве со мной было скучно, разве вы голодали со мной? Я нормально зарабатывал, хватало. Господи, что я только не играл, за что только не брался. Да, у нас был сумасшедший дом, со мной остро чувствуешь жизнь, ты же остался со мной. Сын: Я тогда, наверное, еще ходить не умел. Отец: Захотел бы — на карачках пополз или потом бы ушел, на ноги я тебя поставил. Сын: Она не звала меня. Отец: Что? Значит, если бы позвала, ты бы... Сын: Да. Она ласковая, нежная, добрая, я помню. А с тобой одни разговоры, мы от них свихнемся, ты — демогог. Отец: Демагогия — великое искусство, на театре первейшее. Протри глаза, вот один мир — блестящий, лакированный, цветной, а вот — наша панель, тротуар — это наш мир и тебе в нем отведено мыть стекла по ночам и дышать их вонью, понял? Твоя мать в другом мире и тебе туда хода нет, ты — нищий, грязный оборвыш рассчитываешь вдруг стать принцем? Проснуться утром, выпить кофе со сливками и надеть чистые носки? Чуда не будет! Чудеса кончились, их разобрали те, кто пошустрее нас. Здесь твое место, этот вонючий перекресток — твой крест. И не вздумай бросаться под колеса, мне нечем кормить калеку. Сын: Гад, гад, гад. Заткнись! Отец: Хочешь, я расскажу, как мы тебя зачали? Тебе же интересно, как это происходит. Это ужасно интересно — для чего у тебя эта штучка между ног. Так вот, у меня она была предназначена для того, чтобы произвести на свет тебя. Это — детородный орган. Смешно? Голова — это голова, руки, ноги — конечности, а это уважительно — детородный орган, а не писька, как ты ее называешь. Ты получился с третьей попытки, до этого были выкидыши, у нее до меня была куча абортов, она и не надеялась уже родить, она ждала выкидыша, твоя смерть планировалась, но ты оказался крепким парнем, ты удержался. Она до последнего не верила, не хотела верить. Она хотела на море: Ялта, Ласточкино гнездо, загар по всему телу. У нее был шикарный купальник, в моду входили мини, тут и тут треугольнички, так вот, у нее были самые маленькие треугольнички, они стоили уйму денег. На пляже все мужики трахали ее глазами, а она смеялась, они, как мухи назойливые, я все время оказывался в компании молодых дебилов с бронзовыми бицепсами. «Классная телка» — это вершина их красноречия, комплимент моей жене. А ей нравилось, она купалась в их похотливых взглядах, флиртовала с каждым, я удостаивался снисхождения, я, презирающий их мир, снискал сочувствия как «интеллигент». Но тут — баста! Бархатный сезон отменяется, долгожданный выкидыш не произошел. Тебя хотел и ждал только я. Ты не подумай, что я такой уж прекрасный целомудренный папаша. Пока она лежала на сохранении, куда я ее упек, я водил к нам в дом кого ни попадя. Я желал оплодотворить весь мир, я перетрахал всех ее подруг и ни разу не встретил сопротивления. В женщинах нет настоящей верности, ни в одной, запомни. А я был кобель, природа взбесилась во мне. Не удивлюсь, если у тебя в этом городе обнаружится парочка братцев и сестричек. Но ты родился первым. Четыре шестьсот, шестьдесят один сантиметр — Гаргантюа! Через неделю ее выписали. Ее миссия на этой земле была выполнена, ты был в моих руках, выкормил тебя я, у нее молоко кончилось еще в роддоме, а она решила отдохнуть от трудов праведных и ушла в загул: среди ночи появлялась пьяная, ложилась рядом и в ответ на мое «Ты меня любишь?» лениво: «Я же с тобой сплю». После родов она стала храпеть. И это ты называешь любовью? Сын: Я не хочу слушать тебя, не хочу! Отец: Начались звонки. Дзынь. Беру трубку я — молчание. «Это меня», — невинно взглянёт, подбежит к телефону и хихикает в трубку полчаса, потом возвращается к нам и улыбка сползает с ее лица, помнишь, я тебе читал про чеширского кота. Я хотел пошленького мещанского счастья: розовый бутуз, смеющаяся мама, я улыбаюсь и молчу. Этого не было. Да, я молчал. Она ходила голая по квартире, не для того, чтобы соблазнить меня, а от безразличия ко мне, вертелась перед зеркалом, я не существовал даже как зеркало. И исчезала, чтобы вернуться под утро. А я ждал, сидя под дверью, и выл от обиды. О, я хотел убить ее, зарезать кухонным ножом, я даже заточил его, выбрал день и пошел в церковь. Все ущербные, как мне казалось, верят в Бога, я еще не верил, но ущербным я стал. Я тогда не молился, молитв не знал и ни о чем не просил, стоял истуканом, и убивать не торопился. День был солнечным, лучи сквозь купол. Я не мистик, но вот когда я решился наконец, там, в церкви, вдруг все потемнело, ударил гром и пошел ливень. Я выбежал из церкви прочь, бегом добрался до дому, у подъезда остановился перевести дыхание, промок насквозь, но я уже ничего не чувствовал, ничего, одно знал наверняка, — что убью, сейчас убью, должен убить, потому, что решил... К подъезду подкатил автомобиль, в нем магнитофон, музыка, я ее помню, к стене прижался, холодная стена. Из машины просигналили, и из подъезда впорхнула на переднее сиденье твоя мать, с шиком газанули мимо, обляпали меня грязью, даже не заметили, уехали. Ливень вдруг прошел, дома ты спал, она не дождалась моего прихода, я обещал быть раньше, но я опоздал. И это все, и то, что ливень прошел, и ты сладко посапываешь в обе дырочки, все это мне показалось необыкновенным. Впервые мне было так хорошо, спокойно, счастливо. Я бродил по нашей квартире, смотрел в открытое окно, по подоконнику еще стучали капли, редко: кап, пауза и опять кап-кап, листья на деревьях зеленые, блестящие, май месяц, я трогал стены, проверял их материальность, какой-то синий свет разлился в нашей комнате, странный, неведомый мною раньше покой пришел. Я отпустил ее в Москву, она попросила, я согласился, а через три дня поехал следом. По тому адресу ее не оказалось, был еще один, в Мытищах, поехал туда. Странно, что чувство покоя меня уже не покидало, покоя и радости, тихая радость оттого, что живут вокруг люди, растут деревья. Ее подруга в Мытищах приютила меня, вечером к ней пришел молодой человек и до утра я, лежа в соседней комнате, слушал то шепот, то скрип постели, ее стоны, его громкое дыхание. И это тоже была жизнь. Утром опять позвонил по первому адресу, твоя мать, моя жена, объявилась, она обрадовалась мне, я по голосу чувствовал, что рада, вдруг мне рада. Заторопилась, затараторила, сказала, что была в Мытищах и там заночевала, только вошла, а тут мой звонок. Я шептал, что люблю ее, что она единственная во всем мире, что я без нее жить не могу, что жизнь прекрасна! Она спросила, откуда я звоню, сказала, чтоб приезжал, я ответил, что из Мытищ. Она спросила, давно ли я там, я сказал, что с вечера... Она повесила трубку... Из Москвы она не вернулась. Сын: Я знаю, я все это знаю. Отец: Откуда? Сын: Она прислал письмо. Отец: Тебе? Из Москвы? Сын: Да. Предлагает приехать, погостить. Отец: Вот как. Я чувствовал, что-то произошло. Сын: Мы поедем вместе. Отец: Это должно было произойти. Ничего, ничего. Ты не умеешь пользоваться ножом и вилкой, чавкаешь и пьешь чай с прихлебом, учти, это моя вина, не научил. Тебе нужны деньги на билет туда и обратно, да? и обратно? Сын: Может, мне не ехать? Отец: Как это? Поезжай, обязательно поезжай. Я бы на твоем месте поехал, точно. Расскажи, как мы живем, разжалоби, может, она тебя оставит, ты же на это надеешься? Сын: Я еще ничего не решил. Отец: А деньги карман не жгут, а? Это честные деньги, имеешь полное право растратить их по своему усмотрению. Ты все уже решил, иначе бы ты сюда не вышел. Предприниматель, опора рыночных отношений. Дай закурить. Да не жмись, я знаю, что ты куришь. Про лошадь слышал? Ого! Я таких еще не пробовал. Господи, за что ты выживаешь меня с этого света. За что ты прововодишь этот карнавал из шевроле, яхт, дач, долларов, красивых девочек и вкусных сигарет рядом с моим носом. Я устал говорить, что это воняет, нет, это приятно глазу, носу и наощупь. А я вру, вру, за что ты сделал меня великим обманщиком? Никто так не обманывал, не блефовал, не хитрил с самим собой, как я. Она не прислала фотографию? Сын: Нет. Отец: Она снимается в кино, с нее пишут портреты, рубят бюсты из карарского мрамора. Какая у нее была грудь. Сейчас, наверное, уже не то, но какие это были два апельсина. Мне все завидовали. Это была любовь, неразделимая от страсти. У вас секс отдельно, любовь отдельно. Однажды я весь пол устлал сиренью. Господи, что она шептала тогда, какие глупые великие слова. Сейчас она может устлать свое ложе самыми экзотическими цветами, но все равно это будет терновник. Я представляю, как утром в постели она выпивает настоящий бразильский кофе, потом принимает ванны из трав, машина уже ждет — в Шереметево, — в Лондон на прием, потом на Багамы, отогреться от знобящего английского тумана. Купальник у нее, конечно, закрытый, теперь такие как раз в моде. Бой подносит коктейль со льдом, жара. Фу, какая пошлость. Сын: Она развелась с тем мужчиной. Отец: Что, опять моталась в Мытищи? Значит, она теперь одна, да, одна? Сын: Еще она пишет, что любит тебя, но не может вернуться. Отец: Покажи письмо. Сын: И всегда любила. Отец: Покажи письмо. Сын: Оно дома. Отец: Пошли домой. Сын: Сейчас не могу, надо дождаться 12-ти часов, в 12-ть у меня конец смены. Отец: Уже полночь, пошли домой, я тебе сказал. Сын: Не пойду. Отец: Домой, ты покажешь мне письмо. Где оно лежит? Сын: Не пойду. Отец: Не пойдешь? Сын: Нет. Отец: И не надо. Я все понял. Ты наврал, все наврал. Письма не было. Сын: Оно есть, оно было в книжке про чеширского кота. Отец: Я продал «Алису», я пролистал перед тем, в ней ничего не было. Сын: Значит, письма дома нет. Отец: Оно у тебя с собой? Покажи, ну, покажи мне его. Ну, что тебе стоит. Ну, пожалуйста, сынок, покажи, ведь у нас не было тайн друг от друга. Мы друзья? Сын: Ты продал мою «Алису». Отец: Черт с ней, с этой книгой, я виноват, но скажи правду, скажи, что ты соврал... Ну, хорошо, если бы было письмо, конверт, на нем был обратный адрес, ты запомнил обратный адрес? Сын: Москва. Отец: И все? А фамилия, какая у нее теперь фамилия, дом, улица? Сын: Я не запомнил, я вообще не читал обратный адрес, я сразу понял, что из Москвы. Отец: Врешь, у тебя отличная молодая память. Письма не было, ты все это выдумал. Ты думаешь, что я люблю ее до сих пор, да? Что я страдаю от обиды, что эта женщина — единственный свет моего бытия. Заблуждаешься! Да, в постели она была высший класс, богиня языческая. Прекрасная актриса в жизни, но видел бы ты ее на сцене — средненькая актриска с превосходными внешними данными. В жизни она играла даже в постели, нужны были нечеловеческие усилия, чтобы любить ее постоянно. Я не был с ней счастлив, потому, что счастлив я был с другой. С другой. И это была моя женщина. Я, когда увидел ее впервые, тут же и подумал, что хочу, чтоб она, а не твоя мать, была моей женой и матерью моего ребенка. Подлая, предательская мысль. Твоя мать беременна, вот с таким пузом, а я влюбился. Я полюбил в ней все: голос, глаза, манеру одеваться. Она не было красива, но, знаешь, она была высокого роста. Она, наверное, не красива, лицом — так полная луна, она, наверное, не умна, но ростом — выше кирасира. Это я про нее написал. Она, вообще, была рослая, нет, не толстая, у нее были глаза с двойной радужкой, необыкновенные глаза. Между нами ничего не было, так, пили кофе, я угощал, может быть, ничего бы и не произошло... У нее умер дед. Я пришел выразить соболезнование, дед жил в однокомнатной квартирке, набилась тьма родственников, похороны на следующий день, суета, но к вечеру все разошлись. Ты еще не знаешь, что покойника нельзя оставлять одного, я тоже не знаю зачем, но это долг живых. И так получилось, что остаться с телом некому. Мы остались вдвоем. В комнате желтый дед со свечой в руках и перевязанными ногами, а в кухне — мы. Я читал вслух Пушкина, что именно не помню, иногда скрипел пол, казалось, что дед встал и бродит по комнате, мы ходили проверять, и меняли свечи. К двум часам ночи издергались, и она постелила на полу... почему она отдалась мне, от страха или от благодарности, или все сразу, не знаю, но она тогда не любила меня. Да это и не было важно, даже совсем было неважно. Мы вдвоем как бы продолжали жизнь, мы утверждали ее, это высокопарно, но я уверен, что душа ее деда витала над нами, я уверен в этом. Любить надо равных, а проверить равенство можно только рядом со смертью. Мы были равны, те, кто видел нас вместе, считали нас братом и сестрой, мы так были похожи, они даже не подозревали нас в интимной связи, да она и случилась только раз, в ту ночь. Случайность. Родился ты. Мы встретились с ней уже после моей глупой попытки убить твою мать. Я зачастил в русскую церковь, мне уже позволялось подпевать в левом хоре. Тут случилась Троица, я и пригласил ее, провел на центральный клирос, это что-то вроде ложи, там всегда собираются самые истовые. Началась служба, смотрю — она не крестится, старухи, старики приметили, но молчат. Я к ней, спрашиваю: почему? А она оказывается некрещеная. Тут все на колени, поклоны троекратные, внизу еще позволяется постоять, а здесь строго. Вот, думаю, ужас, скандал на клиросе, уходить надо. Я ее за локоть чуть тронул, и она вдруг спокойно опустилась на колени. Мы стояли вдвоем, алтарь впереди, будто венчались, но я не о том, я вдруг ощутил истинную женскую покорность, в ней не было и тени униженности, она не из страха встала на колени, от другого, и истовости в ней не было, в ней Бог был. Сын: Продолжай. Отец: Страх был во мне. Я вдруг испугался ее потерять. Я пришел к ней в гости, она жила в квартире деда, анекдоты рассказывал. А она вдруг говорит: «Ростовцев, я тебя люблю». Я так и обмер. «Я тоже тебя люблю», — сказал и молчу, «Мы будем продолжать жить, — говорит она, — у тебя будут какие-то женщины, у меня — мужчины, но все это будет пошлостью». И ведь я думал тоже самое. «Давай поженимся», — сказал я , «Давай», — ответила она. И нам стало легко, какая-то новая жизнь началась, веселая, свежая, настоящая. У меня такого еще не было. Я вдруг начал жить, я любил ее, как ребенка, этого нельзя сыграть ни с кем, но так, кажется, и надо любить женщину. Мне хотелось жить ради нее, для нее, нам обоим хотелось пятерых детей, у нас получится. Мы стали передвигать мебель, прикидывать, что купим, обсуждать будущее. Я разведусь, и мы обвенчаемся, обязательно обвенчаемся. Все решено бесповоротно. Мы легли спать как дети, торжественно! Мы всю ночь не выпускали друг друга из объятий, я просыпался, прижимал ее покрепче к себе и опять засыпал. Утром я позвонил домой и сказал твоей матери, что нам необходимо серьезно поговорить. Она попросила меня прийти скорее, потому, что у тебя понос, и ты отказываешься есть. Потом позвонили ей, трубку взял я, какой-то молодой человек. Она стояла голая, красивая. Смотрела весело на меня и разговаривала. Это был безнадежно влюбленный в нее юноша, ее коллега. Она объявила ему, что выходит замуж. Она принимала поздравления. А я вышел на кухню. У меня тряслись поджилки. Я сидел на кухне, слушал ее разговор и дрожал. Я вдруг понял, что все, чего я хотел от жизни, я получил. У меня ни в чем не было более нужды, я всего достиг. Мне осталось только смотреть на нее, слушать ее голос, быть с ней. В остальном мире отпала необходимость. Мир покидал меня, и я умирал для этого мира, я умирал, и мне было страшно. Я никогда не испытывал такого жуткого страха. Я как бы переставал существовать в образе человека, меня будто выворачивало наизнанку, у меня тряслись руки, все тряслось, просто лихорадка какая-то. Я ничего не мог поделать, моей воли не было. Я был в передрягах, я знаю, что такое страх физической смерти, но такого... Она пришла, села напротив и все поняла. Она стала гладить меня, как ребенка, она говорила, что это надо пережить, это страшно, это и должно быть страшно, но это должно пройти. Все мы ждем великой любви, а когда она приходит, огромная, больше вселенной, нас охватывает ужас. Я ведь плохо воспитан, я ничего не знал о такой любви, я строил идеалы, но мои образы оказались серыми, пошленькими, бездарными рядом с тем, во что я вошел. Я испугался, это был животный ужас. Жизнь, которой я жил или которую я придумал, отдалялась со страшной скоростью. Я завис в огромном пространстве, в нем не было опор, в нем не было привычного воздуха, в нем неизвестно как летать, и в нем все, все для меня пустота и вечность. Если с тобой случится такое, а с тобой случится, перетерпи, засни на время или сожми зубы, но перетерпи, перетерпи. Это из тебя выходит черт. Это шанс обрести вечность. Мы, оказывается, ужасно боимся жить без черта. А вечность — это больше, чем АД или РАЙ. Я стоял на пороге вечности, на той кухне, сидел и дрожал. На подоконнике петуньи под ветром, мне они напомнили почему-то испанцев. Я трус. Долг — изобретение черта. Он выручает трусов. Я вернулся к твоей матери. Мне казалось, что я и ее люблю, что я в ответе за тебя, за нее, я снова ощутил себя в жизни, в ее законах, традициях. Я ходил в церковь, все продолжали жить, только мне кажется, что я тогда уже умер. Сын: А она? Отец: Тоже умерла, от тоски. Правда, романтично? Нет, она не умерла. Когда сбежала твоя мать, я оказался под ее домом, как-то так, само собой вышло. Она возвращалась с работы, в руках авоська с продуктами, никогда ее раньше не видел с авоськой. Мы поздоровались, я пошел рядом, она позвонила в дверной звонок своей квартиры. Дверь открыл юношаколлега, я его раньше не видел, но сразу узнал по забинтованной шее. У него была борода, чахлая бороденка. Посидели на кухне. В клетке под потолком попискивал шегол с подбитым крылом. У нее была страсть подбирать убогих. В комнате выпиливал лобзиком юноша. Ты знаешь, все действительно стало пошлым. И я тоже опошлился... Скажи мне что-нибудь. Сын: Письма не было. Отец: Ну, вот и хорошо. Все окей, малыш, нас никто не ждет, правда? Сын: Правда. Отец: Я просвистал свою жизнь. Я мог бы быть честным, добрым, милосердным, но я аки кимвал бряцающий. Лучше бы я был вором. Любой подлец и негодяй благороднее меня. Я не написал книгу, не построил дом, не воспитал тебя. Мне нечем было воспитывать тебя. Тут было пусто. Ты сам выкарабкался, ты крепкий парень. Нет, ты не подумай, я не покончу с собой, но я не знаю, как жить и зачем? Там... все осталось там... Сын: Остался пирожок, хочешь? Отец: Давай, а кофе есть? Сын: Я выпил все! Отец: Светает. Когда потеряны все смыслы, и нет надежды обрести новые, когда не надеешься даже на чудо и при этом продолжаешь жить... зачем? В этом есть какая-то тайна, она главнее меня, это унижающая меня тайна, она заставляет меня существовать. Я думаю, что в этом один из ее смыслов: заставить меня существовать без любви, без надежды, без веры, как животное. Дьявольская тирания. И я, я должен ей подчинится? Кто бросил этот жребий? Кто? Эй, там, я смирен! Слышишь меня, я уже давно смирился. Что тебе еще нужно? какое мое новое унижение? Что?! Скажи, я исполню! Да, я предал любовь, за это плачу своим скотством. Я пошел на сделку из страха, потому, что я человек. И это все, все, что ты мог придумать? У тебя нет фантазии. Я-то это знаю. Ты бездарен! Так вот, запомни, я всегда буду предавать любовь, понял? Потому, что ты не способен дать больше, чем было! И я всегда буду видеть подвох! И он знает о нем, его не купишь, он — мой сын! Ты не подумай чего, я здоров, я нормальный. Сын: Хочешь, мы купим настоящий бразильский кофе? Отец: О-о-о, настоящий, инстант кофи? Сын: Настоящий. Инстант кофи. Отец: Инстант кофи мэйд ин бразил? Сын: Инстант кофи мэйд ин бразил!!! Отец: Это не самый лучший кофе. Самый лучший кофе растет на родине, в Эфиопии. У него ярко-красные плоды и белые пахучие цветы. Если собрать весь кофе в мире, получится огромная гора — Джамалунгма, весом в пять миллионов тонн. И почти половину сжирают американцы. Сын: Они пришли. Отец: Кто? Американцы? Сын: Побудь здесь (достает деньги). Здрасьте. Здесь немного не хватает, но он не заплатил, но я завтра отработаю, а этот сверху не заплатил, я ему вымыл, может, он кому-то другому заплатил? Вот, все, что есть. Отец: А-а-а, тифози-мафиози. Сын: У них пистолет. Отец: Вот и отлично. Эй, там, вот это твоя кара? Эта шпана — твое орудие? Эй, вы, мерзость вонючая, ану, ко мне, живо, сейчас вы у меня керосин с мылом пить будете. Сын: Уходи, уходи, уходи. Отец: Струсил. Это жизнь. Эй, там, ты хочешь, чтоб я опять испугался. Вот тебе! Ну, идите сюда, дряни. Сын (стучит в дверь): Откройте, откройте, пожалуйста, откройте! Отец: Я к вам сам приду, сам! Бляди, суки, ненавижу, трусливые мухи. Ты — дерьмо вонючее, презираю. Мы презираем их, сын! Сын?! Сын: Подожди! Вам нужен доллар? да? зелененький такой, баксик, сейчас, вот, подотрусь, вот, подтерся, был баксик, а стало — пол баксика (рвет пополам). Отец: Пятьдесят центов. Сын: А вот уже двадцать пять центов. Двенадцать с половиной, шесть с четвертиной (бросает). Подавитесь! Отец и Сын: Ну!!! Сын: Струсили? Они струсили! Ссыкуны. Эй, забыли доллар! (Свистит). Ты чего? Тебе плохо? Все, идем домой, ты, что, доллар пожалел? Отец: Домой? Нет, это не наш дом. Ты молодец. Нам с тобой в Россию надо. Там мой дед, твой прадед, настоятелем был. Ты знаешь, там люди какие? Если ты негодяй, придут и скажут — негодяй, соврал — лжец, обидел — подлец, там не такие, как здесь, у каждого душа есть и никто ее не скрывает, потому что от Бога. Я там только раз и был, пришел босой, в дождь, осталось пять изб от всей деревни, я в первую стучу, стучу, отчаялся, пойду, думаю. Уже уходить собрался, вдруг женщина дверь открывает, смотрит. Ну, я думаю, подойду, скажу что-нибудь из вежливости. Подхожу. Она молчит. В глаза ее гляжу и не знаю сам отчего, тоже молчу. А она вдруг: “Ростовцев?” Представляешь, никогда не видела, а узнала. Вот там какие люди, понимаешь? Сын: Видел, в телевизоре показывают. Отец: Что ты, в телевизоре не люди вовсе, там их целлулоидные копии, какие ж это люди? Смешной, в телевизоре... Сын: Ты чего, болит что? Отец: А там встал я возле церкви, порушена совсем, может, и восстановили уже, хотя, кому там восстанавливать? Вот мы и восстановим, да? Восстановим. Встал я возле церкви, самое высокое место, а кругом небо огромное, высокое. Там нет такого: красивый, голубой, это все не подходит, мелко. Могучее небо и облака – знаешь, такие добрые облака – и холмы богатырские, и озера блестят, и в каждом небо отражается. Эх, не умею я по-русски, не умею. Эмигрант я, и ты. Ты — русский. Мы спасемся в России, спасемся, мы Россией спасемся. Это не я, это Достоевский сказал, ты прочтёшь, черт с ней, с «Алисой» Мы Россией и сейчас спасаемся. Потому что умерли бы давно, душу продали бы, за доллар продали, ан-нет, вдруг заболит, за весь мир, и за себя — это Россия болит, горячо даже, вот здесь горячо. Сын: Болит, да? Отец: Что же я, сука такая, с собой сделал, зачем и куда рвался, когда рядом все, здесь. Ох, стыдно мне, ох, стыдно. И совесть, и стыд, ведь все это же совсем потерял. А вот проснулась. Господи, хорошо-то как, сердце плачет, совесть моя живая, совестушечка родимая, не издох, не издох еще, еще надежда есть, еще жить хочется, по-Господнему, душой болючей, и плакать, плакать. Вот как мы жить будем, за всех душой болеть и жалеть друг друга и говорить нежно-нежно, как монахи. Это я о душе своей плачу, от радости, что жива. Сын: Где болит? Отец: Сердце, понимаешь? Это хорошо. Ты уже все понимаешь, ты уже взрослый. Сын: Подожди, сейчас, я вызову «скорую». Ты потерпи, потерпи, родимый мой, потерпи. Отец: Я вытерплю, на этот раз вытерплю, вытерплю. Сын: Батя? Батя?! Батя-а-а-а-а-а!!! Занавес